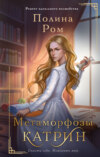Loe raamatut: «Фрау без голоса»
Фрау Эрне Лейн (1921 – 2015гг)
посвящается…
Корректор Людмила Гордеева
Консультант Наталья Лейн
Дизайнер обложки Татьяна Сенькова
© Светлана Семёновна Гаврилова, 2025
© Татьяна Сенькова, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0065-3290-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Мы сейчас живём во весь голос: кричим об успехах, мнимых и настоящих, в сетях ежеминутно выкладываем посты о том, куда пошли, что сказали, что съели и с кем завели/разорвали отношения. Во весь голос кричим, когда «все сложно», когда нас нечаянно задели, обидели или просто не заметили. Голос, неважно тихий или громкий, ор или шепот, нужен для того, чтобы заявить миру: «Я есмь, я пуп Земли»
И я сама почти круглосуточно живу на телефоне: боюсь, что вдруг мимо меня пройдет что-то интересное… И это «интересное» раскопала в своих архивах. Много лет назад моя хорошая и мудрая наставница – немка Ирина Яковлевна L.– прислала мне свои воспоминания… Они лежали «БЕЗ ГОЛОСА».
Уже давно нет на свете этой удивительной женщины, повстречавшейся мне на жизненном пути, которая много говорила о дружбе народов, об интересных странах, людях, обычаях, но в то же время умела молчать, держать язык за зубами. Мы подружились: пенсионерка и семиклассница. Долгие годы длилась наша переписка, и именно мне прислала она свои напечатанные уже в Канаде воспоминания. Она так и ушла, молча, не рассказав никому историю своей жизни, но дала разрешение использовать свои записи.
Я прожила сейчас почти столько лет, сколько было ей в нашу первую встречу, что-то узнала в жизни и о жизни, много ездила и общалась с людьми. И теперь хочу стать ее голосом, голосом немки, пережившей Гражданскую войну, депортацию 1941 года, статус переселенца без права передвижения, а затем реабилитированной и эмигрировавшей.
И если Вы, мой уважаемый читатель, дойдете до последней страницы этой книги, прошу не вешать на меня ярлыки ярой антисоветчицы или причислять меня к какому-либо политическому течению, потому что я родом из Советского Союза, из счастливого детства, не видевшего потайных движений взрослых людей, страданий, страха и горя. Я родилась и выросла на казахской земле, где умели дружить, не помнить обид, вспоминать добрым словом учителей, а еще любить свою страну и людей.
Глава Первая и единственно счастливая
Они – дети мира, которые перековали свои мечи на плуги и свои копья на серпы, и не знают более войны.
Менно Симонс. 1537 г.
Итак, шел век Восемнадцатый… Эпоха Просвещения, век процветания культуры и искусства. Век великих личностей: Екатерины II, Иммануила Канта, Вольтера и Ломоносова. А еще эпоха дворцовых переворотов, восстаний, Великой французской революции, войн и крови. Но найдите в истории человечества спокойное время тишины и покоя!
Шла к закату Семилетняя война (1756 – 1763 гг.). В русском обществе война, которая велась на чужой территории и, как считали многие, за чужие интересы, особой популярностью не пользовалась, и ее окончание скорее вызвало вздох облегчения. И вряд ли сейчас навскидку кто-то скажет о причинах, ходе и итогах войны. Так уж устроено в исторической памяти народа: запоминаются войны, в которых страна вышла победительницей, а позорные страницы пусть уж лучше останутся в архивах и, может быть, пожелтевшей записью из семейного древа напомнят, что дядя Митя, широкоплечий и улыбающийся, не вернулся …из боя.
Но самый главный итог любой войны – разрушенное хозяйство. Бесприютно стоят покосившиеся домишки, заросли травой-муравой огороды, застоялась вода в колодцах, посерели от горя лица женщин, рано повзрослели дети. И как бы тяжело ни было, нужно жить и работать. А еще думать, крепко думать «государевым» людям о том, как же вдохнуть жизнь в опустевшие деревни. И как в XX веке «кадры решали всё», так и в XVIII веке главный вопрос был один: где взять людей? Тем более, что к концу 70-х годов XVIII века Причерноморская степь осталась без прежних хозяев: Крымское ханство стало протекторатом, Запорожская Сечь была разгромлена – часть казаков ушла в царскую армию, часть на новую вольницу за Дунай. И все чаще невеселые думы графа Петра Румянцева сменяли мысленные картины слаженных, крепких хозяйств прусских крестьян, которые ему доводилось видеть в заграничных походах. Сословие крестьянское тем и отличается от городского люда, что нелегко на подъем: то жатва, то уборка, то скотина приплод дает. Не сдвинешь: в землю глубоко въелись, корни пустили. Но нашлась одна зацепочка: неизвестные до сих пор в России меннониты, своего рода чемпионы мира по переселению в разные уголки земного шара. Что же не давало им покоя, почему срывались они с мест и уходили в неизвестность, обрастая на новом месте хозяйством и связями?
Сообщество меннонитов появилось на свет в Голландии еще в далеком XVI столетии. Течение получило свое название в честь основоположника – простого деревенского священника Менно Симонса. Став свидетелем зверств религиозных войн, Симонс разработал концепцию максимально бесконфликтного христианского вероучения. Главный его постулат фактически сводится к абсолютному пацифизму: меннонитам строго запрещено принимать участие в любых военных столкновениях. Меннониты отличались миролюбивым характером, огромным трудолюбием, скромностью, аккуратностью и опрятностью, чтили традиции, любили музыку, уважали школу и просвещение.
Первое переселение меннонитов в Россию из Мариенвердерской низменности (в Пруссии) состоялось в 1789 году по приглашению правительства в числе 228 семейств. Им была обещана свобода вероисповедания и свобода от военной и гражданской службы, дана льгота освобождения от податей на 10 лет, и каждому семейству отведено по 65 десятин земли, а также дано по 500 рублей на проезд и обзаведение. В свою очередь, меннониты обязывались давать на общем основании квартиры и подводы для проходящих через их селения войск, содержать в исправности дороги и мосты и платить поземельную подать по 15 копеек с десятины удобной земли.
Проект «Новороссия» начал действовать, но «русским духом» здесь не пахло: немцы-меннониты обживали землю, трудились и верили в лучшее.
Занималась заря… Весенняя заря 1913 года. Алый рассвет играл на розово-пудровых девичьих губах Юстины, улыбающейся во сне. Это была сладкая улыбка расцветающей девушки, у которой еще вся жизнь впереди и, хотелось бы верить, долгой, счастливой, наполненной житейскими радостями, приятной усталостью труда и женского счастья. А счастье – это такая субстанция, которой трудно дать определение. Великие умы человечества не раз трактовали это слово. И все равно нет однозначного универсального толкования. Только человек, шагая по своей дороге жизни, набивая себе синяки и шишки, теряя друзей и наживая врагов, научившись радоваться малому, приходит к пониманию, в чем слагаемые его счастья. И только он называет себя счастливым человеком и, ощущая себя счастливчиком или баловнем судьбы, дает основания и окружающим себя воспринимать как человека, поцелованного Богом.
И вот уже наглый горячий лучик заиграл в длинных ресницах, и Юстина открыла глаза и тут же зажмурилась от ярко-счастливого света солнца, заполонившего комнату. Но помня, что негоже долго нежиться в постели – ведь Бог не любит неженок и ленивец – Юстина вскочила, подбежала к окну, отдернула занавеску и обомлела: перед домом на крепком шесте под тяжестью разноцветных лент, платочков и сладостей, сгибаясь к самой земле, красовалась майская свадебная ветка. Так в немецких колониях – поселениях признавались в любви, а еще это был знак, что в этот день в дом придут сваты.
Юстина, замирая от страха перед грядущими событиями, вошла в кухню, где уже накрывали на стол нехитрый завтрак мать и бабушка.
Мать с порога сердито буркнула:
– Ставь побольше теста на пироги к обеду.
А бабушка, посмеиваясь, прошептала любимой внучке:
– Да не пересоли тесто, соль еще на стол ставить, тыквы ведь нет в чулане: коровам скормили.
И Юстина поняла, что ее свободная девичья жизнь подошла к концу, потому что Яков получит от ее родителей согласие на брак. Годом раньше, когда сватали сестру, девушка запомнила, что хлеб, пироги, сыр на стол сватам готовят, а вот если жених не ко двору пришелся и чем-то родителям не угодил, то незадачливому юнцу и его сватам выкатывали под смех соседей тыкву и выносили бутерброды. Но, к слову, редко так шутили: к такой невесте потом мало кто сунется, потому что репутация была подмочена. Так что тыква шла по назначению: или на корм, или уж на карету для Золушки.
Все утро в доме скребли, мыли, хотя это было лишним, потому что в немецком жилище уборка была ежедневным ритуалом и трудно даже самой привередливой чистюле найти в нем пылинку или намек на грязный налет. К полудню дом сверкал, как тронный зал монаршей особы. Во дворе залаяли собаки, и бешено застучало сердце Юстины от мысли, что вся кутерьма в доме из-за нее и на некоторое время она станет в центре внимания.
В зал вошли сваты с белой лентой «Freirsch» и Яков со свертком в руках. Сватья с порога затараторила:
– У нас есть хороший бычок. У вас – хорошая телочка. Яков наш – парень работящий, покладистый, хозяйство разумеет, грамоту знает.
Так уж повелось испокон веков: продавая товар, выставляли его в выгодном свете. На невольничьем рынке наглые торговцы раздвигали челюсти рабам, и помещику, чтобы выгодно сплавить крепостное семейство, нужно было указать, что глава семейства «нрава тихого». Обряд сватовства же всегда держался на сватах – людях, бойких на язык, умеющих вежливо разговаривать, держать инициативу в разговоре, расхваливать жениха и его «житье», не уронить достоинства в случае отказа. Жениху же с невестой отводилась роль немых слушателей – БЕЗ ГОЛОСА. Да это в такую минуты и правильно: от волнения вряд ли какие слова на ум приходят.
Мать с отцом жестом пригласили гостей к столу. Сваты степенно сели на почетные места.
– Ну, Юстина, подавай, посмотрим, какая ты хозяйка выросла. Расторопна или голодом гостей заморить хочешь?
Юстина – истинная немочка, матерью не избалованная, хозяйство вести приученная, – сновала вокруг гостей, подкладывая сватам куски получше, разливая напитки, вовремя меняя тарелки – любо-дорого посмотреть.
Сватовство – дело серьезное: не гребешок или лошадь себе покупаешь, поэтому сидели долго, разошлись к полуночи, обстоятельно и серьезно решив все вопросы со свадьбой, приданым и помощи молодым на первых порах. На одну из суббот июня была назначена свадьба. Уфф, ну не будем же здесь все эти свадебные хлопоты расписывать: не журнал для молодоженов верстаем…
А «вечер шума» приближался. Накануне Юстина с матерью замесили несколько кадок сдобного теста. В доме витали ароматы ванили, корицы, шафрана – вкусные запахи предстоящего праздника. Рано утром Юстина и Яков разносили соседям, друзьям и родственникам подошедшее пышное тесто, которое выполняло своеобразную роль пригласительного билета. А вечером со свежей выпечкой из теста молодоженов и… посудой (вот она, не немецкая практичность, а забота и помощь: и гости сыты, и жених с невестой не устали от хлопот, и хозяйка дома не валится с ног от усталости).
Предполагаю, что многим трудно поверить, что вечер без спиртного (меннониты не употребляли алкоголь ни в каком виде) мог быть таким шумным и веселым, музыкальным и танцевальным. А когда гости стали расходиться по домам, молодежь, сбившись в небольшие стайки, пошла на вылазки: красть кур у соседей. Религия меннонитов всегда была строга к ворам, стяжательству и плутовству. И только во времена свадебной кутерьмы разрешалось это шутливое баловство: считалось, что, чем больше кур своруют и ощипают к утру друзья жениха, тем сытнее будет жизнь молодой семьи. Холостяцкая вечеринка закончилась тем, что часть рябушек под лай собак и напускное недовольство хозяев была выпотрошена на кухне невесты и ждала своей кастрюльки, чтоб порадовать нежным мясом гостей на свадьбе.
Да, вчера повеселились гости, разошлись, но с утра привычный распорядок никем не был нарушен. Так же рано утром вставал народ в домах, управлялся по хозяйству, шел на пашни, в кузницы, так же хлопотали хозяйки в домах и на огородах. Делу время – потехе час. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. А к вечеру вновь подтягивался народ к нарядному, излучающему счастье будущей жизни дому Юстины. Лубочная картина, пусть и отдающая немного мещанским счастьем, но милая и непритязательная: гости, песни, веселье, стол ломится от еды. Только Юстина и Яков кажутся немного утомленными происходящим, еще и голодными: есть им нельзя в этот вечер. Перед ними – перевернутые стаканы и ложки с дырками, а на тарелках – кости. И бабка шепчет, объясняя любопытному внуку странный натюрморт новобрачных:
– Человек ведь злым духам во время трапезы открыт, а невеста с женихом тем паче. Нельзя им сегодня есть: демоны вселятся в них, поэтому сидят сегодня голодными и БЕЗ ГОЛОСА. Мимо злой дух пролетает, когда рот закрыт.
Когда два человека любят друг друга, им хорошо и просто помолчать, находясь рядом. Юстина с Яковом молчали весь вечер. Но если бы все-таки какой-то потусторонний дух все-таки пролетел мимо, он бы отметил, что это происходит отнюдь не от безразличия, а потому, что есть нечто большее, чем слова, есть готовность слышать друг друга, когда рот на замке, есть пространство доверия, которое ощущается и без слов. Мы с вами слишком много говорим, и в этих словах зачастую так ярко выпячиваются наше эго, наши страсти, что там не остаётся места никому и ничему, кроме бравадного «Я». Юстина и Яков не знали и даже предположить не могли, что когда-то в мире, после бурь, потрясений и катаклизмов, во времена царства информационной словесно-зловонной помойки, люди начнут тосковать по молчанию, но, уже не в силах повторить христианский подвиг святого Саламана Молчальника, будут искать тренинги и ретриты, чтобы различные мастера и гуру остановили внутреннюю суету, за свои кровные научили молчать и слышать себя, забыть беспокойство и напряжение, выплескивающееся в пустую болтовню и словесный хаос.
Юстина и Яков молча принимали от гостей подарки и поздравления. И каждый гость в ответ получал из рук молодых кусочек с различными фигурками от большого свадебного каравая, стоящего на небольшом столике позади жениха и невесты. Но, наконец, гости, пастор и мир, убедившись, что семья зародилась, молодые счастливы и готовы быть вместе в радости и горе, разошлись по домам. А молодожены наконец-то отведали кашу из зерен – символ новой зарождающейся жизни, новой семьи, нового быта и нового мира. А пока мир для молодой пары царил на станции Бандышево Константиновского района Донецкой области, и этот мир с любовью впускал новые жизни и новые смыслы – детей, рожденных для счастья, а не страданий.
Глава 2.
Великая, но неизвестная…
Во имя чего
сапог
землю растаптывает скрипящ и груб?
Кто над небом боев —
свобода?
бог?
Рубль!
Когда же встанешь во весь свой рост
ты,
отдающий жизнь свою́ им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
за что воюем?
Владимир Маяковский,«К ответу!», 1917 г.
Новый дом для Юстина и Якова строился быстро, добротно, по уму и не по распространённому принципу донецких казачков: «ставь курень, где нравится». Красивый палисадник с множеством цветов и чисто выметенный двор служили своего рода преградой, не позволяющей уличной пыли в большом количестве пробиваться в дом, чистая горница, по убранству которой чувствовалось, что в доме только недавно поселилась молодая семья. И пеленки-распашонки, запах мыла и молока – запах счастья.
Вечером, возвращаясь с мельницы, Яков с порога погружался в этот тихий семейный мир. Первый ребенок – это абсолютное счастье: тебе улыбаются, к тебе тянутся ручками, тебя боготворят только за то, что ты есть. И ты прижимаешь к себе этот маленький комочек, а он смотрит на тебя, чуть откидывая головку назад, и смотрит… но смотрит не на тебя, а поверх головы. Замечали? Ребенок видит нимб вокруг твоей головы и безмерную любовь, идущую к нему от божества, по имени мать и отец. Да, конечно, подрастая, этот малыш может уже прятать взгляд, скрывая какой-то проступок от всевидящего ока родителей, а может нагло кинуть в лицо бездумную хлёсткую фразу в порыве юношеского максимализма или снисходительно усмехнуться: «Ну ты и отстал от жизни, старина». Иногда Якову казалось, что появление еще одного ребёнка может сделать их несчастными: найдется ли у него столько отцовской любви на всех? Но, убаюкивая дочь, пока жена хлопотала на кухне, он верил в то, что ему, как его родителям и родителям Юстины, хватит фантастическо-родительской эластичности: успевать везде, любить и беспокоиться, плакать и смеяться – в общем, наслаждаться родительским счастьем.
В эту августовскую ночь 1914 года Юстине плохо спалось: казалось, что слишком душно, томила какая-то тревога, и, чувствуя беспокойство матери, часто просыпался ребенок в люльке. Днем, за хлопотами, забылась ночная тревожность, но к вечеру какое-то нехорошее предчувствие сжало сердце молодой жены. Яков не мог понять, что тревожит Юстину, и как мог успокаивал и решил, что жена, еще не окрепшая после родов, переутомилась:
– Юстина, успокойся, молоко пропадет. Завтра с мельницы пораньше приду, помогу с хозяйством тебе.
И когда на следующий день Яков пришел домой раньше обычного, Юстина обрадовалась, что Бог ей послал доброго и заботливого мужа. Но, встретившись с глазами любимого, чуткая женщина поняла, что ее беспокойство неспроста: что-то случилось. И это что-то из распахнутых тревожных глаз Якова проникало в сердце Юстины и леденящим потоком сковывало дыхание.
– Юстина, война!
– Что? Война? С кем?
– С немцами.
– С нами? Что-то я не понимаю… мы же немцы.
– Юстина, не забывай, что мы теперь часть России, и мы обязаны быть на ее стороне. Ты только не волнуйся: говорят, что это кратковременный конфликт. Но мне надо завтра ехать на сборный пункт.
– Яков, мы же меннониты. Мы не берем оружия в руки, мы не умеем воевать. Наш Бог не дает нам такого права – убивать!1
– Я знаю, и там тоже знают. Мне было сказано, что меня призывают санитаром. Прошу тебя: возьми себя в руки. Еще многое нужно сделать, обсудить и собраться в дорогу.
Жаркий зной уходящего августа плавился и угасал. Чувства прятались глубоко, на смену им пришла сдержанность: не рыдаем, не ломаем руки, не закатываем истерики. Война официально уже полыхала, и теперь она добралась непрошеной гостьей и до них. Где-то далеко от их дома месяц назад такой же молодой, как и Генрих, девятнадцатилетний боснийский серб Гаврило Принцип, террорист, убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену Софию. И эта версия стала официальной причиной Первой мировой войны. Хотя историки утверждают, что костер смерти начал разгораться раньше. Так бывает порой в семье между супругами: копится и зреет недосказанность и недовольство, а потом маленькой спичкой полыхнет пожар с пустяковой, казалось бы, причины: не там тарелку поставил, не вовремя ведром громыхнул. И вот уже в семейные распри втянуты все родственники и друзья: распахано поле ненависти и гибнут в нем люди и чувства.
А чувства Якова и Юстины заглушались мелкими делами, хотя некоторое время оба пытались прийти в себя и хватались за что попало, лишь бы занять руки и успокоить мозг. Но любовь к порядку и отвращение к ненужной суетливости взяло вверх, и вот уже пошел слаженно, в две пары рук, процесс сбора и решения неотложных хозяйственных дел. Муж и жена, погрузившись в хлопоты и мимолетом прикасаясь руками, без слов, молча прятали на дно своего сердца любовь, которая должна стать их оберегом в грядущие лихие года.
Утром Яков и его товарищи по несчастью отправились на сборный пункт, оттуда – в Екатеринослав, а там меннонитов, уважая их вероисповедание и помня наказ Екатерины не привлекать переселенцев-меннонитов в качестве солдат, отделили от других мобилизованных и отдельной ротой отправили в действующую армию санитарами.
Не будем здесь рисовать романтическую картинку из неправдивого фильма о войне, как под пулями девушка спасает бойца. Здесь все было страшнее: снаряды калечили солдат, о первой помощи (кроме перевязки) на линии соприкосновения с фронтом не было и речи. Это двумя годами позже придет понимание «золотого часа» для раненых, часа, когда помощь должна быть оказана в течение часа после ранения. И только примерно с 1916 года начали появляться полевые госпитали и получила развитие военная хирургия. А так по большому счету ты видишь ужасающие картины: бегущего солдата с раздробленными ступнями, ползущего и истекающего кровью раскуроченнного снарядом уже не человека, а какого-то нечеловеческого обрубка.
И под пулями, взрывами Яков вытаскивал великих и безликих страдальцев без ног или рук, без челюсти или лица, подбирал людей и их вываливающиеся кишки. Сколько мог, насколько хватало сил, моля Бога каждый раз о том, чтобы не свистели больше снаряды, не заканчивалась на Земле жизнь! Каждый снаряд на поле боя – это ранка на сердце, это душевный микроб в организме, который, размножаясь, будет страшными воспоминаниями отравлять мирную жизнь, мучая кошмарами и ширя разочарование, вгоняя многих в депрессию, алкоголизм, бродяжничество или тихое молчаливое угасание.
И, кстати, о микробах …Представьте себе горы трупов с обеих воюющих сторон. Нет времени, сил, возможности убирать, по-человечески хоронить. Все это разлагается, распространяя зловоние вокруг. Яков, с его маниакальной тягой к чистоте и порядку, хуже всего переносил это испытание. Ситуация сама по себе ужасающая: где-то безутешная мать ждет своего сына, пропавшего без вести, а где -то другая мать и ее дети заражаются тифом от антисанитарии, вызванной скоплением разлагающихся трупов, где-то солдат гибнет, защищая Отечество, а где-то настигает глупая смерть от микробов, проникших в саднящие и окровавленные руки санитара, вытаскивающего под пулями очередного раненого бойца.
Юстина же, каждое утро просыпаясь в чистой постели, а потом занимаясь хозяйством, где все было чисто, слаженно и на своих местах, даже не могла представить тот грязно тошнотворный хаос, происходящий на фронте. Но каждый день ждала писем от любимого. Они приходили: редкие, скупые, но радовали тем, что жив ее Яков, и жена верила, что придет тот день, когда Яков зайдет в дом, подкинет дочь к высокому потолку и, замирая от нежности, подойдет к сыну, родившемуся через полгода после того, как отец ушел на фронт. Однако последнее письмо, полученное от мужа, внушило ей тревогу. Яков писал, что разрушили мост, по которому они отправляли раненых, поэтому построили временный. По нему санитары, исхудавшие и усталые, толкали поодиночке вагоны с ранеными. И еще остается паровоз. Если мост выдержит, значит будем живы… Будем живы… – и молчание, и уже несколько месяцев ни одного письма… И когда в дом принесли конверт, отправленный из Москвы, Юстина смотрела в ужасе на него и не могла заставить себя открыть и прочитать. «Будем жить, будем жить», – вихрем летала фраза в голове. О Боги! Жив! В письме сообщали, что муж жив, но находится в тяжелом состоянии в госпитале Москвы. Молниеносная мысль: бежать, ехать, спасать! И уже на следующий день, оставив своих малюток матери, собрав узелок с вещами и продуктами, Юстина, не выезжавшая раньше даже одна в соседнюю колонию, отправилась в далекую Москву.
Есть такая пословица: «дома и стены помогают» – здесь же помогла любовь и забота жены. Сутками, несколько месяцев, не отходила Юстина от постели любимого, попутно помогая и тем, кто находился рядом без родного плеча. И вот настал день, а может, это была ночь, когда Яков вынырнул из забытья, боли, ночных кошмаров и понял, что он есть, он существует, лежит на чистой простыне и у изголовья сидит его преданная жена.
Яков не рассказывал Юстине об ужасах войны, сражениях и своём ранении. Но часто говорил, что ему пару раз пришлось сопровождать раненых в Петроград. Яков, побывавший в горниле войны, спокойно принял новое название города, который в связи с патриотическими и антинемецкими настроениями по указу Николая II был переименован из Санкт-Петербурга (Санкт-Питербурх) в Петроград 31 августа 1914 года.
– Юстина, если будем жить богато, я продам богатство, если будем жить бедно, то последнее продам, но отвезу тебя посмотреть этот красивый город, – часто шептал Яков, держась за руку Юстины.
Но осуществить мечту Якову не удалось: больным, разбитым и морально опустошенным вернулся домой он после госпиталя. А затянувшуюся войну уже никто продолжать не мог. Все хорошее когда-то кончается, и, слава Богу, зло тоже не вечно. Все плохое кончается – без этого знания на Земле было бы невозможно временами жить.
Неоднозначная война России и Германии, в которой ни одна из сторон не осталась в выигрыше, закончилась. 38 государств приняли участие в Первой мировой войне, но фактически война велась между Россией и Германией. Обе стороны потеряли убитыми свыше 4 миллионов человек. Но в то же время страны, больше всех убивающие людей, калеча здоровое население, увеличивая количество вдов и сирот, остались ни с чем: Россия, подписав позорный Брестский мир, потеряла множество земель, проспала разрушение империалистического государства и не сумела подавить революцию. А Германии с ее унизительным Версальским миром, поставившем окончательную точку в кровавой бойне, запрещалось иметь регулярную армию, флот и авиацию. Безоружные и беззащитные немцы должны были из-за амбициозного, а может быть, недальновидного правительства потуже затянуть пояса и выплачивать ущерб, причиненный другим странам.
«Война [Первая мировая] остановилась так же внезапно и повсеместно, как она и началась. Человечество подняло голову, оглядело сцену разрушения, и все – победители и побежденные – с облегчением вздохнули», – написал Уинстон Черчилль.
Россия и Германия «по-братски» уложили друг друга на лопатки, потеряли не только страну, но и веру людей в справедливость. И пройдет не так много лет, когда снова, лицом к лицу, не на жизнь, а на смерть встретятся непримиримые противники, забыв об ужасах Первой мировой, чтобы опять убивать людей, делить территорию и вписывать в кровавую книгу истории имена новых убийц и новых героев.