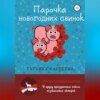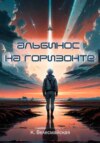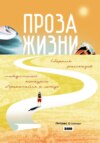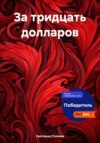Loe raamatut: «Ошибка выжившей»
Глава 1. Предсказание
Похороны в Тушинске проходили по вторникам или четвергам. В тот четверг хоронили Клаву-Цветастое-Платье, самую нарядную и весёлую учительницу городской музыкальной школы. Едва расправив младенческие лёгкие, Клава не закричала, а запела, известив кубанскую степь о своём неурочном явлении, а молодая Клавина мать, приподнявшись на локтях в колхозной телеге и кутая в рушник голосистое чадо, качала головой: и в кого такая певунья? Дальше девочку с удивительным слухом приметили: школьная самодеятельность, а потом музучилище, и очарованный залётный Одиссей, что взял её за руку после отчётного концерта, и увёз далеко-далеко, в южную долину, где течёт полноводная река Сырдарья и упираются в небо скалистые горы. И была у них любовь, словно песня, и семья, и сыночек, и мечтала Клава поехать всем вместе на море и сфотографироваться с обезьянкой.
С фотографии на памятнике – сером металлическом обелиске – удивлённо смотрела большеглазая тоненькая блондинка чуть за тридцать. Я не могла оторвать взгляд от красоты Клавиного лица, с трудом замечая, что ещё происходит вокруг. Впервые за свои восемь лет я не просто смотрела на похороны со стороны, а шла, как взрослая, вместе с похоронной процессией: женщинами в чёрных платках и мужчинами, одетыми, как на праздник, в брюках со стрелками и рубашках. У всех на рукавах были траурные чёрные повязки, а на лицах – выражение деловитой печали. Здесь были и другие дети, кроме меня. Девочек с чёрными бантами в волосах и мальчиков в школьных пиджаках, Клавиных учеников из музыкальной школы, привели проститься и увеличить процессию. Я уже слышала, что чем больше народа провожает в последний путь, тем больше уважения покойному, правда, было непонятно, как покойный об этом узнает, он же умер навсегда и взаправду.
Я стояла около дороги, которая ведет из нашего двора прямо в город и потом до кладбища, когда меня подхватила за руку и втянула в толпу идущих заплаканная женщина, немного похожая на Клаву. Мне не было страшно, а было немного грустно, и вместе с тем утешительно, потому что идти за похоронным грузовиком со спущенными бортами уж всяко приятнее, чем ехать на нём, а тем более, лёжа в гробу. Красный с чёрными рюшами гроб стоял посередине кузова, за ним – памятник, по сторонам от гроба на низеньких стульчиках сидели близкие родственники: нахохлившийся подросток и трое молодых, похожих друг на друга мужчин с одинаково прямыми спинами. Послеобеденное летнее солнце своими лучами пронзало до костей, распаляя душевную боль дополнительным мучением. Но даже под зонтиком сидевшим на грузовике укрыться было нельзя – так на похоронах не положено. Когда по дороге двигался похоронный грузовик, другие машины съезжали на обочину, уступая проезд, или сворачивали на боковые улочки. Грузовик ехал очень медленно, так что люди шли за ним спокойным шагом, отчего вся процессия казалась похожей на большую очередь: как будто в гробу лежит не покойник, а «дефицитный товар», как говорила мама, со значением раскрывая сумку после похода по магазинам и вынимая из неё финский спортивный костюм для папы или пахнущий конфетами шампунь «Кря-кря» для меня. Такие очереди выстраивались возле авиакасс перед открытием, в отделы школьных принадлежностей городского универмага «Памир» накануне первого сентября, или на остановке автобуса, который шёл из Тушинска в областной центр. Только похоронная очередь была не сварливой и пылкой, а степенной и горестной, люди в ней хотели отдать, а не взять: отдать дань уважения усопшему. Когда я спросила у папы, что это значит, он ответил, что это как сказать «спасибо» за то, что человек был и пообещать его помнить. А также разделить горе потери на всех. Плакать в одиночку всегда тяжелее, чем если знать, что кто-то рядом чувствует то же, что и ты.
Сразу вслед за похоронным грузовиком обычно шагал оркестр: три трубы (маленькая, длинная и большая) и огромный барабан, сверху которого были приделаны металлические тарелки, звонко смыкавшиеся при нажатии барабанщиком на какой-то тайный рычаг. Оркестранты всегда были очень красивыми. Летом – в белоснежных рубашках и чёрных брюках, весной и осенью – в блестящих атласных фраках, зимой – в элегантных шерстяных пальто. Музыку они исполняли всегда одинаковую: траурный марш Шопена. Эти звуки, от которых у меня немедленно начинало ныть под рёбрами, были привычны для города, и, заслышав его, дети с окрестных улиц сбегались поглазеть, подслушать, а потом напридумывать, насочинять, и рассказывать вечером во дворе, когда стемнеет, зачарованной страхом малышне:
– А у бабы Зои, ну, той, что всегда шатается, выпала из рук сетка с бутылками, и она упала на колени и заплакала по-настоящему! Из-за неё все остановились, а потом догоняли грузовик наперегонки! И кто опоздал, заходил уже ночью! А ночью на кладбище творится такое!
После этих слов обычно сбоку кто-то выскакивал с растопыренными руками и уханьем, и визжащие слушатели без оглядки мчались домой.
Доехав до кладбища, которое располагалось на бывшем пустыре совсем недалеко от последней городской улицы, грузовик остановился: дальше гроб полагалось нести на руках до могилы. К моему сожалению, детей туда не пустили.
– Подождите немножко, – сказала заплаканная преподавательница из музыкалки, – сейчас приедет автобус, сможете в нём посидеть. А я туда и обратно, по-быстренькому!
Как стайка воробьёв после купания в луже, мы сгрудились возле кладбищенской ограды (невысокого забора из металлической сетки) и принялись взмахивать руками, подолами прилипших к горячим ногам юбок, полами расстёгнутых мальчишеских рубашек, трясти намокшими от пота волосами в попытках остудиться воздушными волнами. Но всё напрасно: потревоженное марево безветренного дня лишь дополнительно обжигало. Мы раскисли и присели на корточках, сложив ладони домиком на уровне лба, чтобы хоть как-то защитить глаза от слепящего солнца и кожу носа от обгорания. Сквозь пальцы я видела за забором ровные ряды серых обелисков и тропинки между ними. Из растительности на кладбище были только редкие чахлые колючие кустарники с острыми шипами размером с человеческий ноготь. Кустарник-«колючка» рос сорняком повсеместно, и мог оцарапать до крови неосторожного торопыжку. Деревья на кладбищенском пустыре не росли, и надежды укрыться в тени не было.
Внутри подъехавшего «Пазика» – заказанного заранее автобуса для развоза людей – было даже жарче, чем на улице. Вместе с несколькими женщинами, что тоже остались стоять возле ограды, нас первой ходкой повезли обратно в город, к дому, где жила Клава и где уже готовились поминки. Ковыряя дырку в горячем дермантиновом сиденье автобуса, я строила планы о том, что в следующий раз обязательно придумаю, как пробраться на кладбище. Я там всё посмотрю и запомню, и меня будет уже не напугать вечерними рассказами, я узнаю всю правду и сама её всем расскажу! Долго ждать не придётся, в Тушинске постоянно кого-то хоронят.
Город Тушинск был мало кому известен. Так называемый "почтовый ящик", он не значился на картах СССР, относясь к режимным городам структуры Минатома, не то, чтобы совсем секретным, но с пропускным режимом на въезд и выезд. Построили Тушинск после Второй мировой, на севере Таджикистана, возле урановых месторождений. Письма в закрытые города можно было слать изначально только на абонентские ящики под номерами, отсюда пошло и название. «Ящики» одного ведомства дружили между собой: отправляли сотрудников в командировки, а детей – в пионерские лагеря, набирали кадры в избранных институтах и обменивались всякими достижениями. В Тушинске были «московское» обеспечение и магазинное изобилие – такие, что и не снились жителям прочих советских городов. Главным предприятием города был Горно-Химический Комбинат, или просто Комбинат, как все его называли.
Когда к нам впервые приехал дядя Володя, папин брат из далёкого сибирского посёлка с такими же, как у папы, глазами цвета голубоватой студёной воды, он ошалело крутил головой, совершая с нами воскресный обход по базару. Базаром, или Центральным рынком, в Тушинске называли одноэтажную постройку под крышей-куполом, где четыре зала-павильона соединялись между собой переходами: мясной, овощной и два непродовольственных. Продуктовый базар работал только в выходные, когда из окрестных кишлаков привозили фрукты и овощи, а также мясо и птицу из зверосовхозов. Два промышленных павильона – мебельный и общехозяйственный – работали как обычные магазины всю неделю кроме понедельника. Дядю Володю больше всего впечатлил мебельный павильон.
– Итить-колотить, да это что – румынский гарнитур? – дядя Володя присвистнул, остановившись напротив сверкающего лаковой поверхностью и зеркалами серванта. – Вот стоит, и можно оформить? И диванов, диванов-то сколько! Тахта, кушетка, кресло-кровать. Телевизор цветной, холодильник. Юрка, ты, брат, схватил удачу за хвост! Молоток, вот не зря же столько учился.
– Мне просто повезло, – видно было, что папе приятно, хоть он и старательно скромничал. – Как-то меня заметили ещё в политехе, распределили в конструкторское бюро. Там наставник матёрый, Пётр Михалыч, помнится, я тебе про него писал. Он меня сразу готовить себе на смену начал и за одну осень поднатаскал. Ну, а потом вот пригласили сюда, на Комбинат, и сразу – начальник отдела. Галка сперва не хотела, но и ей инженерную ставку предложили.
Папа перешёл на шёпот и покосился на маму. Она стояла поодаль. В модном блестящем платье и с рыжими от химзавивки кудряшками, щуря зелёные лисьи глаза, мама разглядывала висевший на стойке витрины огромный ковёр, делая вид, что папу не слышит, хотя в павильоне мы были почти одни. Красно-жёлто-чёрные ковры всех размеров, в едином национальном стиле, были разбросаны, развешены и расставлены свёрнутыми в рулон по огромному светлому залу. Они не залёживались, а быстро разбирались, располагаясь по стенам квартир, как тогда было модно. На пол ковры стелили не часто, ходить по ним было жарко, и длинный ворс ковров стаптывался, теряя привлекательность. А вот настенные ковры служили не только украшением, но и мерилом достатка. На пол квартир предпочитали стелить практичный безворсовый палас. Эти паласы пестрели разнообразием рисунков поодаль, там, где начинались мебельные ряды, переходящие в ряды бытовой техники. В центре павильона красовался напоказ макет современной квартиры: стенка (шкафы с антресолями, полками и зеркальным углублением для посуды), диванно-кресельный гарнитур, ковёр не только под обеденным столом, но и на стульях и диване в виде накидок. Всё полированное и обильно заставленное хрусталём – вазами, бокалами, салатницами. Осмотрев ковёр, мама перешла к осмотру фужеров на хрустальной гранёной ножке, а папа с дядей Володей и мной, пристроившейся чуть позади, двинулись к соседнему продуктовому павильону.
Родители всегда забывают собственный детский интерес ко всему взрослому, и не придают значения присутствию малолетних слушателей. А может, я была такая незаметная, со своим маленьким ростом, двумя светлыми косичками и синевой под глазами, что терялась на громком фоне повсеместного южного праздника? Так или иначе, я слышала весь разговор. Братья давно не виделись, младший Володя сначала долго служил на флоте, а потом пытался пристроиться, мотаясь по различным великим стройкам. В итоге он женился на дородной сметчице Валентине из рабочего посёлка на краю сибирской тайги, где и осел, получив на семью комнату в коммуналке и должность прораба. Самым большим достоинством Володи было то, что он не пил. Одну рюмку, в тех случаях, когда полагалось, он степенно опрокидывал, дальше спокойно отказывался, чем и был знаменит. Дородная Валя таким сокровищем дорожила, с трудом отпустила к брату всего на неделю. Поехала бы и сама, но отпуска у них всё никак не совпадали.
– Понимаешь, не успела Галка институт закончить. – Папа продолжал говорить полушёпотом. – Высшего образования нет. Мы когда познакомились, она на вечернем училась. Я её как увидел – так и пропал!
Дядя Володя понимающе хмыкнул.
– Поженились быстро, Полинка у нас появилась. Много болела – хронический тонзиллит – потому и худенькая такая, да ещё и не ест. Может сидеть за столом хоть по часу, над куриной ногой. Эх, прям беда у нас с ней.
– Беда? – дядя Володя возмущённо дёрнул плечом. – Итить-колотить, беда – это когда есть нечего, а тут…
Мы зашли в продуктовый павильон, где первым делом дядя Володя купил деревянный ящик, такой специальный, для перевозки фруктов на самолёте. Ящики заполнялись красно-жёлтыми персиками, приторно-ароматными, и рядами потом выстраивались в аэропорту на конвейерной ленте, уносившей их в специальный багажный отсек. С такими ящиками из города уезжали все, это был лучший подарок из Средней Азии.
– Валька обрадуется! Она у меня хорошая, готовит – пальчики оближешь! Вот приедете к нам, фирменным холодцом угостит. Холодец любишь?
Дядя Володя повернулся с вопросом ко мне, и я немедленно затосковала. Разговоры о еде мне не нравились.
– Холодец мы не варим, – сказал папа, – а вот пловом я тебя сегодня накормлю!
Папа оживился. В отличие от меня он любил и есть, и готовить. Мама к готовке относилась прохладно. Вечно ссылаясь то на усталость, то на жару, то на стирку, она была озабочена тем, чтобы накормить в первую очередь меня. Сама ела ровно, без видимого удовольствия, просто, чтобы закинуть что-нибудь в рот.
– Гости что ль будут? – спросил дядя Володя. – Или плов только для нас, четверых?
В представлении дяди Володи плов был синонимом сабантуя, восточного праздника с песнями—плясками и кучей народа. Он уже успел попробовать на выходе из аэропорта обжигающе-пузырящихся чебуреков из тонкого, как бумага, тающего во рту теста, и безоговорочно влюбился в национальную таджикскую кухню.
– Нет, без гостей, – сказал папа, – Галка последнее время гостей-то не очень. Неприятности у неё на работе. На Комбинате у нас коллектив тесный и дружный, но от тесноты много знающий, сплетни там, то-сё. Иерархия местная. Некоторые простить ей не могут, что «чертёжница без вышки на инженерную ставку взобралась, да ещё и начальник прямой – собственный муж». Сплетницы заводские шпыняют её потихоньку. Злословие – оно ж как лекарство от скуки в маленьких коллективах и городах.
Папа вздохнул.
– Да, понимаю, – дядя Володя почесал переносицу, – у нас тоже посёлок махонький, вполовину от Тушинска вашего. Ничего не утаишь. На что Валька у меня языкатая, так и то, бывает, ревёт в подушку. Хотя Валька всё больше от ревности. Я, правда, думал, что народ у вас тут покультурнее. Не кого попало ведь приглашают. В эти ваши «почтовые ящики» сложно попасть. Кучеряво вы тут живёте!
– У всякой медали есть и обратная сторона. – Папа усмехнулся. – У атомной медали, сам понимаешь, какая. Правда, медицина у нас тут хорошая, высший класс. Докторов, слышал, на спецкафедрах закрытых готовят.
– А вот всё одно: со мной бы ты местами не поменялся! – Володя хлопнул папу по плечу, и устремился в мясной павильон. Я решила затормозить, подождать маму. От запаха мяса меня тошнило, хоть от сырого, хоть от варёного. Лишь бы они не забыли купить арбуз! Арбуз или дыня в сезон были всегда на нашем столе, как и яблоки, сливы и персики, весною черешня с клубникой, осенью гранат и хурма. Всего было в Тушинске в изобилии.
Маленький и уютный, чистый и зелёный, город-сказка, он прятался среди отрогов Тянь-Шаня в плодородной Ферганской долине. С гор, что виднелись на северо-западе, всегда струился лёгкий ветерок, ненадолго замиравший лишь под натиском июльского полуденного жара. Ветерок приносил вечернюю прохладу после жаркого дня, обдувал утренней свежестью лица горожан, спешивших на Комбинат, и, путаясь в густой листве деревьев, создавал непрерывный ласковый шелест. Перекликаясь с ним, журчала вода арыков – небольших оросительных каналов, сантиметров по тридцать шириной, что пролегали вдоль тротуаров по всему Тушинску. Арыки были важной частью городского хозяйства, за их чистотой следили столь же тщательно, как за чистотой улиц, ведь вода в жарком климате необходима не только для полива растений, но и как источник прохлады для людей. В центральной части города забетонированные арыки выглядели как ровная скучная трещина в земле, на дне которой иногда встречались мелкие камешки. А вот отводы от центральных арыков, прорытые в земле и укреплённые по стенкам плоскими серыми булыжниками, были наполнены водной жизнью: между булыжников и по краю такого арыка нарастал сочно-изумрудный мох, по дну струились тёмно-зелёные волосы-водоросли, а в заводях – заполненных водой ямках размером с бельевой таз, из которых брали воду для полива тротуаров – жили головастики, улитки и лягушата. Взрослые лягушки перебирались в тень от высаженных вдоль арыков кустов лигустры (вечнозелёного декоративного растения с кожистыми мелкими листочками и приторно пахнущими белыми щетинистыми цветами), откуда с наступлением сумерек начинали свои концерты. Многих жителей они выводили из себя, лишая сна, мне же нравилось засыпать под их рокочуще-бархатные песни. Я всегда переживала, если видела мальчишек, что вылавливают лягушек, рыская в подстриженных по линеечке кустах, потому что потом они лягушками кидались в прохожих, гогоча из засады над внезапным испугом и вскриками. Ударяясь об асфальт, не все лягушки уползали обратно в кусты. Некоторые оставались лежать, подёргивая лапами, и потом затихали, становились похожими на серые тряпочки, почти сливаясь с асфальтом. Утром дворники сметали их в кучи мусора вместе с опавшими за ночь листьями чинар.
Мы с подружками-второклашками любили обустраивать арычные заводи, как будто королевский бассейн: вычищали дно от сколков тёмно-зелёного бутылочного стекла и грубых булыжников, выкладывали разноцветные мелкие камушки по краю, втыкали между ними травяные колоски и накидывали сорванных рядом цветков лигустры на поверхность воды. Мы играли в принцесс, что выйдя в королевский сад из замка, полощут босые белые ноги в бассейне в ожидании своих принцев. На роль принцев присматривались снующие неподалёку охотники за лягушками. Ещё мы складывали вырванный из тетрадки лист в коробочку «птичий клюв», и прямо на лету ловили пчёл, а иногда даже шмелей, подлетавших близко к воде. Послушав жужжание поднесённой к уху коробочки и поразглядывав в щёлочку приоткрытого «клюва» копошащихся насекомых, мы быстро вытряхивали их, стараясь не задеть. Зато стрекозки с прозрачно-перламутровыми крылышками могли превратиться в изысканную брошь, если усадить их на лямку сарафана или прядь волос у виска: из-за своих зацепистых лапок стрекозкам не сразу удавалось высвободиться и улететь.
Кое-где в арыках водились головастики. Они приятно скользили по щиколоткам опущенных в прохладную воду ног, а если поймать их стайку в сложенные лодочкой ладони, можно было ощутить забавное щекотание. Подержав немного, головастиков отпускали расти дальше, переключая внимание на лягушат.
Как-то раз я поймала и зажала в кулаке крошечного лягушонка размером с полмизинца: он трепыхался и просился наружу, а я впервые ощутила власть над судьбой беззащитного тельца и сострадание к его беспомощности: улыбнется ли ему удача или он погибнет по прихоти того, кто сильней? Я разжала пальцы и отпустила лягушонка на свободу, испытав вдруг гордость за сделанное доброе дело. После этого я решила стать защитницей (хотя бы от дворовых девчонок) всех живых существ и растений, и строжилась на подружек, если видела их неосторожность. Больше я не обрывала цветы, не хватала живность понапрасну и старалась быть внимательной ко всему вокруг. Мир такой хрупкий и удивительный! Я начала читать книжки про животных и растения, вела наблюдение за поведением сине-зелёных майских жуков, принесённых в спичечном коробке и выпущенных между оконными рамами (потом мама выгоняла их тряпкой в открытую форточку), собирала перья птиц и носила их для опознания в зоокружок при Доме пионеров, куда и записалась вскорости, проводя там всё свободное время после школьных уроков. Присмотревшись к моему интересу, мама откуда-то добыла разноцветные большие тома «Детской энциклопедии» и расставила их на полке под телевизором: «Только не хватай книги грязными руками!» Я быстро замусолила энциклопедию до дыр. Тогда же мама заполнила какие-то формуляры, и почтальонша начала вкладывать в наш почтовый ящик помимо газеты «Известия», моих детских журналов «Костёр» и «Мурзилка» и папиных «Юность» и «Роман-газета» ещё и журнал «Семья и школа». Там на последних страницах в рубрике «Классика живописи» всегда были цветные репродукции и истории создания известных картин. Мама выписывала этот журнал, не читая, только чтобы «ребёнок приобщался к искусству». Я приобщалась с удовольствием, подолгу рассматривая картины, вырезая ножницами особо понравившиеся, и развешивая их с папиной помощью на стене своей комнаты. Папа при этом рассказывал мне ещё что-нибудь интересное и отвечал на мои бесконечные вопросы. Мне казалось, что он знает про всё на свете!
Например, что в арыках Тушинска не простая, а особенная артезианская вода. Особенная, потому, что её можно было пить, но только в тех местах, где она выходила из под земли, растекаясь потом по арычным каналам. Папа объяснял мне, что в жарком климате артезианские скважины бурят специальным инструментом глубоко до подземных вод, предоставляя им возможность выхода на поверхность, и вода под напором устремляется вверх, словно природный фонтан, разливаясь потом по руслам арыков. Папа считал нашу артезианскую воду самой вкусной водой в целом мире, гуляя, всегда подводил меня к скважине, где из широкой металлической загнутой трубы, одним концом уходившей в землю, с шумом и брызгами вырывался водный поток. Мне тоже вода казалась волшебно-вкусной, хотя и очень холодной, отчего пить её можно было только маленькими глотками, согревая под языком. Когда с нами гуляла мама, она на папу ругалась и воду никогда не пробовала, строго стискивая мне руку: «Юра, у ребёнка же больное горло!» Папа смущенно кивал, и мы двигались дальше по аллеям вдоль акаций.
Ах, этот незабываемый запах акаций, запах нашего города: сладко-сливочный весенний, когда распускается акация белая, и сказочный летний запах акации японской – софоры, что цветёт начиная с июня до осени. Большие пушистые розовые одуванчики соцветий этого дерева пахнут французскими духами. Если сорвать один цветок, мягкий и нежный на ощупь, как цыплячий пух, можно долго тянуть носом его аромат, прогуливаясь под густой тенью веток с маленькими парными листиками. Душисто-пушистую софору сажали вдоль вымощенных плитками пешеходных дорожек и асфальтовых аллей.
Мы гуляли по вечерам в центральном парке. Там были качели, колесо обозрения и летний кинотеатр, летник, как его называли, где крутили только взрослые фильмы без «детей до шестнадцати». От основательных зданий зимних кинотеатров летник отличался отсутствием крыши и особой прелестью просмотра: на фоне звёздного неба, под аккомпанемент стрекочущих кузнечиков, яркий экран казался окном в другой, таинственный и загадочный мир. Программа прогулки у нас разнообразием не блистала: следовало обойти весь парк, останавливаясь, если встретишь знакомых, а потом в подходящей компании разместиться за столиками кафе. Детей отсаживали отдельно, каждому выдавалось мороженое в блестящей вазочке на тонкой ножке и бутылка лимонада на двоих. Мороженое было всегда одинаковым – жирный и сладкий пломбир, лимонад же имел интригу: что в этот раз подвезут. Я любила «Саяны», чернявый юркий Пашка – сын папиного друга Мити – «Дюшес», были любители «Буратино», «Ситро», «Мандарин». Мы чинно начинали с мороженого, густого, тягучего, быстро оплывавшего в вазочке киселём, потом разбавляли его лимонадом и, пару раз зачерпнув ложкой, допивали прямо из вазочки, прилепившись губами к холодному краю и зажмурившись от удовольствия. Лимонадные этикетки мы забирали с собой, они легко отделялись и хранились потом в коробках вместе с другими предметами собирательства: календариками, сухими жуками-носорогами и камнями «куриный бог» с дыркой посередине. Справившись со сладким, Пашка сообщал родителям пароль «гулять», и, получив отзыв «только недалеко», командовал нам выступать на штурм акации возле кинотеатра, чтобы посмотреть короткий киножурнал, что всегда показывали в начале любого фильма. Хорошо, если это была не скучная документалка про спортивные и производственные достижения, а «Ералаш», «Фитиль» или мой любимый «Хочу всё знать», из которого я на всю жизнь усвоила, что «орешек знаний твёрд, но мы не привыкли отступать». Взобравшись на акацию, мы почти ничего не видели, высокие стены кинотеатра загораживали обзор, но прекрасно слышали происходящее на экране. А ещё, сидя на дереве по весне, можно было поедать сладковатые цветы белой акации, срывая сразу кисть, и потом отщипывать от неё похожие на фонарики с жёлтой маленькой лампочкой внутри, пахнущие мёдом цветочки.
– Только не глотайте! – поучал девочек толстый Эдик Шнайдер, – надо пожевать и выплюнуть!
– Молчи, фашист! – Пашка затыкал Эдика, когда хотел, одной фразой.
Эдик краснел и надувался:
– Я не фашист! У меня мама русская!
– Ты по отчеству кто? – Пашка не унимался. – Адольфович! Вот и заройся тогда, гитлерюга!
Да, с отчеством Эдику не повезло. У других немецких ребят папами были Людвиг, Эрик или Аскольд, их тоже могли обозвать фашистами, но гитлером звали лишь Эдика, щекастого увальня, задумчивого мямлю. Глаза его сразу наливались слезами, он мог выкрикнуть что-то защитно-неубедительное, после чего отворачивался и замолкал, но не убегал и не лез в драку. Спина Эдика интереса у обидчиков не вызывала, и он странным образом продолжал быть всегда в компании, иногда проявляясь полезными медицинскими знаниями – нахватался от мамы-врача. У Эдика были многочисленные немецкие родственники, они разводили индюков и уток, и когда устраивали во дворе своего дома именины, угощали индюшиным паштетом невероятного вкуса.
Когда начинался фильм, с акации нас сгоняли строгие контролёры. Мы стайкой слетали на землю, и перед тем, как двинуться обратно к родителям, осматривали парочки опоздавших на входе. Летник был традиционным местом свиданий влюблённых. Пригласить девушку именно в летник считалось негласным признанием, выражением романтических чувств. Согласие девушки означало взаимность симпатии.
– Эдька, смотри, твоя сеструха старшая, Ида! С Ринатом! – загоготал Пашка. – Немчура и татарва!
Невысокая круглолицая Ида, услышав мальчишеский смех, обиженно сморщилась и дёрнула за руку своего спутника, смуглого жилистого парня в светлой рубашке и серых брюках с идеально наглаженной стрелкой.
– Ринаат…
Парень шагнул в нашу сторону, хлопнув в ладоши:
– А вот я сейчас кому-то!
Мы бросились наутёк, понимая, что шутки с Ринатом плохи. Их было три сестры и два брата в многодетной семье без отца, Ринат самый старший. Спокойный и обстоятельный, он работал в столовой на Комбинате и пользовался уважением. Я слышала, как к нему обращались при встрече и молодые, и старики: «Уважаемый Ринат Маратович!» Вот и Ида смотрела на него снизу вверх, приоткрыв пухлые губы, в глазах обожание: Ринат женихом был завидным, опрятным, не злым и не жадным. Как поучала меня мама: «Главное, чтобы человек был хороший!» Сколько себя помню – мама готовила меня к замужеству, как к главному событию жизни.
Ринат был из семьи татар, что осели в этих краях после крымской депортации в мае тысяча девятьсот сорок четвёртого. В Тушинске их было меньше, чем немцев. Немцы были не то из пленных, не то из специально собранных по лагерям. Считалось, что они городок и построили, после чего им разрешили остаться. А вот местных, таджиков или узбеков, мы видели только на рынке, где они торговали овощами и фруктами. В азиатах сильнее всего меня удивляло то, что они непрерывно, даже в жару, пили горячий чай из пиал с синим орнаментом и золотым ободком. Светло-жёлтый чай почему-то назывался «зелёным», он имел кисло-терпкий вкус и дома у нас не приветствовался. Папа всегда заваривал чёрный, из пузатой бумажной коробочки с таинственной надписью «Байховый». А зелёный стоял на верхней полке кухонного шкафа, и доставали его только тогда, когда приезжала тётя Рая, мамина сестра. Она любила зелёный чай, считая его полезным для почек, и с тётей Раей никто не спорил, потому, что она работала медсестрой в столице республики.
Немецкий квартал, построенный первыми поселенцами Тушинска, был недалеко от нашего двора. В череде маленьких домиков за небольшими, по пояс, заборчиками из сетки, мы видели сухоньких бабушек в длинных старомодных юбках, поливающих жизнерадостную огненную герань, что росла под окнами. Бабушки перебрасывались между собой непонятными словами и всегда улыбались нам, детям, подсматривающим из-за забора. Как-то раз одна бабушка пыталась угостить нас клубникой, протягивая тарелку крупных спелых ягод, но Пашка строго мотал головой, и мы не смели. Так мы учились распознаванию «свой-чужой». Всё непонятное, непохожее – это «чужое», это опасность, это нельзя. Немцы они немцы и есть, уже не враги, но кто их там знает.
А ещё немецкий квартал был густо засажен фруктовыми деревьями: вишнями, яблонями и урюком. Дерево дикого абрикоса у нас в Средней Азии все так и называли – урюк, хотя дядя Володя, впервые приехав к нам в гости, долго удивлялся и поначалу даже спорил с папой, убеждая его, что урюк – это сухофрукт, сушёный абрикос и никак иначе. Но потом он привык и к урюку, и к другим местным названиям (тутовник, джида, карагач) и сам уже звал папу покурить «во дворе, на лавочке возле урюка». В отличие от собрата своего абрикоса, урюк растёт вширь проворнее, чем в высоту, и имеет густую крону, что даёт хорошую тень. Урюк любили высаживать во дворах, подальше от пешеходных дорожек: своими мощными корнями, что ползут далеко от ствола в поисках воды, он вздыбливает и корёжит асфальт тротуаров. Поэтому на улицах азиатских городов росли, в основном, чинары, серебристые тополя и карагач, они не так портили асфальт корневой системой. Урюк зацветал весной самым первым, в конце марта, нежно-розовым, не таким, как позднеапрельский миндаль – сочным, почти красным цветом. Уже в мае урюк начинал плодоносить, и окрестные дети забирались по гладким толстым ветвям, обрывая кислые сочные плоды. Объевшись зелёным урюком, можно было заработать понос, но никого это не останавливало, и даже родители наставляли детей только лишь для порядка: «Много не ешь!», понимая, что совсем запрещать бесполезно. В июне уцелевший урюк поспевал, становился оранжево-красным, в сладости обыгрывая абрикос, но уступая ему по мягкости и размеру. Главным секретом урюка были его косточки. Их кололи молотком на разложенной на полу газете, извлекая ароматное, без горчинки, ядро, что отправлялось последним в большую кастрюлю на плите с медового цвета сиропом и прозрачными половинками урюка. Это самое вкусное южное варенье, нужно лишь правильно соблюсти рецепт. И тогда зимой, достав из кладовки солнечного цвета банку с ореховой каймой у горлышка, можно вернуться в жаркое лето: сладкий запах урючного варенья мигом заполнял всё пространство.