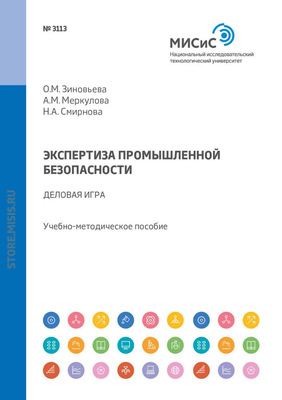Loe raamatut: «Дом призрения»
Часть 1. А.
Немного странно оттого,
Что знаю наперёд:
Так часто гибель одного
Другому жизнь даёт.
Глава 1. Как всё начиналось.
(о том, как важно не унывать из-за того, что родился не в том месте и не в то время)
Дурной славой пользовался этот дом на самом верху Сиреневой улицы. И хотя дряхлые деревянные стены по весне утопали в душистых зарослях сирени, давшей название местечку, а разноцветные кисти, плотные, упругие, в ясные дни бережно прислонялись к мутному стеклу старенькой веранды и мягко гладили его в дни майской грозы, стараясь не повредить, но вытереть, люди стороной обходили покосившийся забор, который окружал когда-то сверкавшее чисто вымытыми окнами жилище.
Дом имел два этажа, но казался карликом, убогим инвалидом на фоне остроконечных зданий из кирпича и стекла, песчинкой среди песчаных замков (ведь что есть стекло и кирпич, как не песок, лишь принявший иную форму?).
Когда солнце пекло особенно сильно, с его вышедших из пазов рассохшихся дверей сосновыми чешуйками облетали хлопья потрескавшейся краски. Покорёженные от частых дождей ставни хлопали на ветру с таким звуком, что казалось, будто где-то неподалеку рушился один из многоэтажных соседей старика. Веранда, откинувшись назад, тяжело охала на западном ветру, грозя вот-вот рассыпаться, и стонала на холодном восточном – приступом радикулита ей сводило давно сгнившие балки.
Но старый дом не сдавался. Словно вояка в шрамах, он лихо, бесстрашно и с презрением взирал снизу вверх на блестящие равнодушные иллюминаторы высоток подбитым чердачным окном, иногда презрительно сплёвывая голубями, давно и прочно поселившимися в его голове, – старыми друзьями, единственными, кто добровольно и без нужды согласился с ним остаться.
Дом знал поимённо всех, кто когда-то в нём обитал. Он видел, как землю на дороге, утоптанной множеством лошадей, сменила брусчатка, которую через несколько десятков лет застелили блестящей асфальтовой тканью. Ещё младенцем он радостно встречал восход солнца, пока небоскрёбы не столпились на границах его колыбели, высокомерно разглядывая деревянное неуклюжее строение из-под облаков. И тополь под окном, теперь уже изъеденный дуплами и разбросавший миллионы потомков по всей Сиреневой улице, рос на его глазах, а дом сутулился и оседал, грозя вот-вот опереться на своего всё ещё зеленого, но уже порядком полысевшего соседа.
Дом старился по мере того, как целые поколения сменяли друг друга, впрочем, как и эпохи; он видел, конечно, больше горя, чем радости, ведь радости в мире вообще очень мало, да и распределена она неравномерно и несправедливо: на всех её, говорят, не хватает – кому повезёт, кому нет. Счастливцы пьют её кувшинами и бочками, купаются в ней, стирают грязное белье, своё и чужое, перемывают чьи-то косточки, в общем, расходуют радость неэкономно и небрежно; несчастным же достаются жалкие капли, обычно нечаянно пролитые более удачливыми, а кто-то безрадостно живёт всю жизнь, правда, вовсе этим не тяготясь, поскольку, никогда не зная настоящей радости, вполне можно обойтись и без нее. Хуже, если хотя бы капля попадёт на язык, тогда пиши пропало, ведь обычно с ума сходят вовсе не от горькой жизни, а от тоски по счастливому прошлому.
Трудно вообразить, но раньше радости было больше, это дом помнил точно, ведь в былые годы он звенел на всю улицу не старческим кашлем и натужным кряхтением, а детским смехом. Теперь же в обветшалых затхлых комнатах стояла только гулкая тишина, которая лишь изредка прерывалась слабым младенческим писком, впрочем, весьма непродолжительным.
Дом тогда имел всё, что только можно пожелать, но дети в нём отчего-то не приживались. Хилые ростки гибли, не успев поднять голову от земли, чтобы потом снова попасть в неё и продолжить бесконечный круговорот жизни.
В течение шести лет из чрева дома вынесли в разное время шесть маленьких аккуратных гробиков, в которых, словно восковые куклы, лежали младенцы.
«Наглотались воды при купании», – так всем, утирая слезы абсолютно сухим платком, говорил безутешный отец, ни разу не вызывавший повивальную бабку. Жена всегда разрешалась от бремени (не столько её, сколько супруга) в верхней восточной спальне для гостей. Заботливый муж неблагодарной женщины собственноручно перенёс туда из чулана самую лучшую из худших кровать с разъехавшимися ножками (ножки были сломаны ещё во время медового месяца, но после него иных повреждений, увы, данный предмет мебели больше не получал) и белоснежные, хотя очень старые простыни (он всегда заставлял жену кипятить даже половые тряпки, поэтому коврик возле двери соперничал чистотой с первым снегом, хотя изначально имел игривый красный цвет. Но папенька вообще не любил ничего выбивающегося за рамки приличий, поэтому дом потерял не только весёлый узор ковра, но и приобрёл четкую геометрию тщательно убранных комнат, до блеска натёртых полов и педантично расставленных по цвету и размеру книг в библиотеке).
Отец купал младенцев сам, пока мать, слабая после произведения на свет очередного пищащего комка, трясущего ножками и ручками и захлёбывающегося криком, лежала в комнате на полу, чтобы не запачкать белоснежных простыней, за чью сохранность супруг беспокоился больше, нежели за здоровье жены и, уж конечно, детей.
Скорее всего, следующая крошечная, будто игрушечная, сосновая коробочка, укрытая носовым платочком, который всё равно пора было выбросить, тоже нашла бы очередного постоянного жильца, но случилось так, что забитая, вечно беременная, робкая женщина впервые подняла руку, а вернее, обычный кухонный мясной топорик с красной ручкой, так кстати оказавшийся поблизости, на своего драгоценного супруга.
Что уж там случилось, никто не знал. Может быть, встала не с той ноги, может быть, так повлияло полнолуние, ведь всем известно, как слабый пол подвержен разнообразным циклическим влияниям. Или, может быть, она наконец задумалась над тем, так ли велика разница между «бесплодна» и «бесплотна», как это кажется? Ведь какие ещё могут причины тому, что жена убила собственного мужа, да ещё и так хладнокровно? И к удивлению многих, знавших эту тихую женщину, она даже не промахнулась. Трепетного отца и заботливого супруга похоронили с улыбкой изумления на красивом, порочном лице: настолько он не ожидал того, что эта хрупкая тонкокостная куколка из шёлка (сейчас порядком побитого молью скотского отношения) и фарфора (местами потрескавшегося от неосторожного обращения) когда-нибудь сможет хотя бы повысить на него голос. Газетные полосы три дня твердили об этом происшествии как о неслыханном деле, ведь это едва ли не единственный случай, когда на сотню убитых жён пришелся один мужчина.
В эти неспокойные дни дом, как вздорного старика, по самый чердак укутали газеты, ведь забирать почту было некому. Если бы он мог, то с удовольствием сжёг бы их внутри себя, в камине с забитой птичьими гнёздами трубой, но дом больше не имел хозяйских рук, и поэтому молча страдал, рассматривая уцелевшими оконными стеклами затейливые выдумки городских писак: «Вчера вечером трагически погиб самый завидный бывший холостяк нашего города»; «Убийца машет топором: куда смотрит власть?»; «Смерть на пороге. Компания по изготовлению лестниц, дверей и гробов «Светлая дорога на небеса» по индивидуальному заказу отрицает свою причастность к гибели известного ловеласа»; «Стоит ли разбитое сердце разбитой головы? Правда и мифы о дамском угоднике, в этот раз не угодившем своей даме».
О том, что дочь уважаемого человека, Агния Куммершпик, убила своего мужа, жители городка узнали не из газет. Газеты вообще отстают от жизни, готовят на завтрак несвежие новости, такие, о которых ещё вчера знала даже последняя глухонемая нищенка.
– Вы слышали, что натворила эта Куммершпик? – подавая обильный ужин, спрашивала жена мясника у своего супруга, дрожа от возбуждения третьим вторым подбородком. Надо сказать, что женщина была на редкость сварлива, обладала вздорным нравом, неутомимым языком, тяжёлой рукой и беспредельной любовью к круглым зелёным овощам.
–Мгм? – вопросительно поднимал бровь мясник, отряхивая усы от квашеной капусты.
– Зарубила мужа или кем он там ей приходится. Сначала отравила, потом зарубила. Или задушила, потом покромсала на кусочки. Такой красавчик был, светлая ему память, но, конечно, – торопливо поправилась хозяйка, заметив тяжёлый взгляд супруга, остановившего ложку с борщом на полпути ко рту, – странный: связался с простолюдинкой, а сам ведь знатного рода.
– Ого? – усомнился мясник, толстыми пальцами разламывая мозговую кость.
– Клянусь всеми непорочными святыми и их детьми! – женщина размашисто потыкала себя в область плеч и места, где у обычных людей находится талия. – Чтоб мне сдохнуть, не сойти мне с этого места, если вру, мне об этом Плюшка, соседка ихняя, говорила, а она брехать не станет! То ли он принц, то ли бухгалтер, но важная шишка!
– Ну? – удивился мясник, с аппетитом облизывая пальцы, по которым тёк обильный бурый жир и серовато-жемчужное мозговое вещество.
– И не говори, – мясничиху разбирало раздражение, причину которого она вряд ли могла понять. – Что он мог найти в простушке? Добро бы красавица, так нет – кошка рыжая: ни ума, ни фасона.
– Угу, – согласился мясник, приступая к запечённой бараньей ножке, утопленной в тушёной капусте.
– А ещё говорят, – слова вырывались из болтливого рта супруги, словно птицы, спешащие из клетки на волю. – Что она, Агния эта, брюхатая опять: вот-вот разродится. И что за щенок от паршивой суки появится? Задушить его надо вместе с матерью в колыбели.
– Ага, – кивнул покладистый мясник и, сыто откинувшись назад, громко рыгнул.
Таинственное происшествие породило в ближайшее воскресенье во время обедни немало сплетен среди прихожан. Они толковали и перетолковывали, смаковали и отрыгивали всё новые и новые подробности, от которых дыбом вставали волосы даже у видавших виды злодеев. О смерти несчастного супруга жестокой женщины судачили долго, вплоть до четверга следующей недели, когда лошадь градоначальника, выезжавшего из трактира, случайно не наступила на главу городских ищеек, спящего в канаве в обнимку с тучным старцем в грязной рясе, хозяином множества церквей города, который славился не только могучей статью, но и необычайного оттенка сизо-багровым носом. Впрочем, оказалось, что градоначальник обнимал мертвеца, ведь осилить ведро чистой водки не под силу даже святому духу, что уж говорить о его слуге. Однако это уже совсем другая история, которую открыто не обсуждали, а медленно, со вкусом обсасывали за закрытой дверью и задёрнутыми шторами: варево под крышкой всегда слаще. Поэтому судачить об этом событии было вдвойне приятно, гораздо приятнее, чем обсуждать судьбу очередной дурочки, не сумевшей вынести свалившегося на неё счастья семейной жизни.
Об убийце все забыли, впрочем, как и о дочери преступницы, девочке Нежине, которая родилась уже в городской тюрьме в тёплый весенний вечер, когда запахи жизни за решетчатым окном были особенно густы и сильны, а не по сезону горячий ветер гонял по улицам тополиный пух, сминая и сворачивая его в лёгкие воздушные шары, над которыми косо и лениво висела солнечная пыль, едва шевелящаяся от зноя.
Когда матери дали в руки туго запеленатый сверток, который даже не пищал, – настолько слабым оказался ребенок, рождённый до срока, – измотанная, истаявшая женщина успела лишь дать девочке имя, прежде чем последний лёгкий вздох сорвался с её искусанных в кровь губ, обмётанных родовой лихорадкой.
– Какая …нежная, – слабо улыбнулась Агния Куммершик, та самая Агния из добропорядочной и благонадёжной семьи, юная Куммершпик, которая недрогнувшей рукой зарубила отца малютки, сейчас бессмысленно глядевшей прямо в глаза матери. И, словно выполнив последнюю трудную работу, её душа лёгкой бабочкой улетела на волю из этих унылых, душных стен. А рождённая девочка осталась, и вместе с ней осталось её чудное имя – единственное, что отличало ребенка от других приютских детей, лежавших в металлических кроватках с сеткой, касавшейся пола.
– Глупая кличка для глупой девчонки, – ворчала старая нянька, рассматривая головку младенца с золотым пухом на затылке. – Ишь какая круглая, как тыковка. Такие завсегда дураками вырастают – мозгам там и закрепиться негде: всё о стенки бьются.
В те далёкие времена, когда собственный голос Нежины звучал куда громче, чем голоса окружающих, то есть когда девочка была настолько маленькой, что больше походила на толстое розовое полено, чем на человека, она смирненько лежала в своей старой детской кроватке и с любопытством смотрела по сторонам, ещё не зная, что отличается от других розовых полешек, и не в лучшую сторону. Не каждому при рождении суждено стать ребёнком убийцы. Гораздо удачнее было бы родиться дочерью воровки, особенно воровки мужских сердец: такие дети необыкновенно красивы и в жизни не пропадут; или выползти из трепетного и нервного чрева очарованной и одураченной дочери какого-нибудь приличного горожанина: такие обычно принимают деятельное участие в жизни побочных шиповниковых ветвей своего наивного розового куста. Но вот принять на себя клеймо материнского греха – хуже и быть не может.
Как правило, такие дети не выползают из колыбели живыми. От греха подальше няньки кое-что подсыпают им в рожок, считая, что дурное семя надо выпалывать, пока оно не вытянулось. Но Нежина была таким забавным ребенком, так серьёзно глядела большими серыми глазами, что у старой и не склонной к сантиментам няньки дрогнули сердце и рука, готовая вот-вот высыпать бурый порошок в молоко. И девочка осталась жить, хотя няньки и старались держаться на расстоянии – от греха подальше – чужое несчастье, как известно, заразительно.
Несмотря на то что малышами никто не занимался, они росли относительно бодрыми и крепкими, – к этому побуждала необильная здоровая пища (овсянка «Кровь с молоком»: пригоршня крупы на чан воды, щепотка соли, 10 граммов топлёного сала по воскресеньям да и бидончик молока на стол директрисе, страдающей малокровием, но при этом обладавшей отменным аппетитом и розовым цветом лица; суп «Божья благодать»: чан воды, куриная кость, пригоршня овсяной крупы, щепотка соли, вкушать с молитвой и розгами; рагу «Детская радость»: щепотка соли, овсянка, чан воды, прошлогодняя капуста; перемешать и настаивать в течение получаса, за который самая беззубая надзирательница успевала доесть свою поджаристую баранью котлетку), качество которой приятно компенсировалось количеством грязи в помещении, постоянным холодом и равнодушием нянечек.
Слабые дети погибли сразу: кто-то, непривычный к кипятку, сварился во время купания, когда нянечка не проверила температуру воды (собственно, она и не подозревала, что должна это делать) и посадила ребенка в раскалённый металлический таз; кто-то задохнулся, пытаясь спрятать в самом надёжном месте – во рту – невесть откуда взявшуюся блестящую бусину; кого-то забыли на прогулке зимой, в метель, и нашли уже утром маленький снежный холмик возле двери. Всё это было. Но нянечкам ничего не угрожало: они всегда могли надеяться на помощь и участие доброго доктора Бармалита – высокого тощего мужчины с лихо подкрученными наверх гусарскими усами (именно так был завит штопор, которым нянечки и доктор активно пользовались после обязательной рутинной поверки) и золотыми зубами, количество которых год от года росло, и иногда казалось, что их число давно перевалило за положенное каждому человеку и уже достаточно приблизилось к акульему.
Оказывалось, что эти недолговечные дети давно и тяжело болели, и, что естественно, тихо и мирно умирали по вполне логичным причинам, после чего, собственно, у доктора и появлялся очередной блестящий клык, резец или моляр.
«Бог дал, бог и взял», – заключал доктор, ловко поворачивая в руках очередное крохотное затвердевшее тельце, и бросал его, словно полено, в груду других сгоревших от лихорадки или холода младенцев.
Дети считались слишком мелкой монетой, на которую не было принято обращать внимания, медяками, которые не жалко и выкинуть, и потерять, и отдать нищим. Правда, многие бедные семьи так не думали, складывая из таких медяков целые состояния. Но большинство не придавало значения мелким монеткам, чеканя всё новые и новые, пока уже выпущенные тихо лежали, холодные и безмолвные, в ряду таких же неприкаянных бесценных медяшек.
Но Нежине повезло. Тихая, не привлекавшая внимание девочка выжила вопреки нежной заботе нянек и внимательному надзору врача и отправилась из дома малышей в сиротский приют. Тут не бывает иначе: или кладбище, или приют. И неясно, что из этого хуже. Многие считали эти места равнозначными и одинаково безысходными. Другие думали, что выход один, и он закономерен и очевиден: просто дети могли пойти туда короткой дорогой, а могли сначала немного задержаться в приюте. Последние заслуживали, по общему мнению, большего уважения, ибо страдания всегда считались привилегией святых, перед которыми в этом городе преклонялись и благоговели. Но тех малышей, которые смогли вопреки всему дожить до совершеннолетия, преждевременно распустившись и созрев до срока, уже боялись и люто ненавидели, поскольку жестокая среда забирала у них последнее дыхание человечности, а из зверят, как известно, вырастают только звери, не считая, конечно, налоговых инспекторов.
Но и звери, и люди обладают памятью. Обычно в трудные времена костер воспоминаний греет не хуже настоящего. А иногда бывает так, что человек сам создаёт себе иллюзию прошлого, если в этом прошлом ничего хорошего не случалось. Сознание человека нуждается в памяти о минувшем, причём хорошей памяти, иначе его душа замерзает, ведь ей нечем себя согреть.
Нежина плохо помнила дом малышей, поскольку эту память ей не хотелось бы навсегда оставить с собой, но встречу с Агатой она не забыла бы никогда.
В детский дом ребят привезли зимой, в лютый холод, и пока небольшая стайка насмерть замёрзших малышей разматывала друг на друге тёплые там, где не было дыр, шерстяные платки, перешептываясь, вытирала блестящими в свете тусклых ламп рукавами озябшие носы, потёкшие в тепле, словно весенние ручьи, и тихонько оттаивала в темноватом коридоре с закрытым камином, который слабым светом разгонял коварную, настороженно затаившуюся тьму, по лестнице кубарем скатилась она – темноволосая, темноглазая, с грязными пятнами на лице девочка – Агата – единственное существо, долгие годы приносившее, как казалось Нежине, луч солнца в этот дом печали.
Дети замерли. Ведь именно так нянечка, ругаясь за очередные мокрые штаны, описывала чертей, которые приходят за непослушными и неаккуратными детьми. От этого дети плакали еще больше, соответственно, увеличивая в геометрической прогрессии количество мокрых штанов и крепких подзатыльников.
По напряжённой фигуре Агаты было видно, что она будет до последнего отстаивать занятую территорию, чтобы место не досталось чужакам. Так коты настороженно работают ноздрями, прежде чем впиться когтями в глаза противника. Поэтому вполне логичным кажется и то, что Агата, пыхтя, прошлёпала на толстых ножках прямо к стоящей впереди Нежине и, ничего не говоря, ударила её по щеке. Дети прижались друг к другу и задрожали. Кто-то заплакал. Но Нежина уже знала, что за себя нужно стоять, особенно, когда дело касалось вещей, которые затрагивали её сердце или гордость, и не дала бы спуску самому чёрту, поэтому изо всех сил толкнула Агату так, что та приземлилась прямо на толстенькую попку и запыхтела, как ёж.
– Мисс Агата, мисс Нежина, несносные девчонки! – мадам Гортензия, старшая воспитательница, англичанка по происхождению (хотя из английского у нее был только постоянный насморк и маленькая фляжка разбавленного джина, который обычно заканчивался прежде, чем сухая старая дева успевала прийти в благодушное настроение), строго выговаривала малышкам, которые, насупив носики и сжав крошечные кулачки, напряжённо смотрели друг на друга, но не ревели. – Вот и прекрасно! Вы обе наказаны. Без ужина ночуете в классной комнате. Я попрошу сторожа принести вам матрасы.
В этот день девочки спали в разных углах промёрзшей классной комнаты, в которой постоянно что-то шуршало и скрипело снаружи и внутри.
На следующий день, за завтраком, Агата ловко подставила подножку неуклюжей Нежине, и когда последняя вскочила, вытряхивая из волос хлебные крошки, то немедленно поскользнулась на разлитом жиденьком какао из желудей и шлёпнулась в лужу вместе со старшей воспитательницей, кинувшейся на помощь. Улыбка с лица проказницы сползала по мере того, как ширилась дыра на клетчатой юбке побагровевшей англичанки, за которую уцепилась бросившаяся на обидчицу Нежина. В эту ночь матрасы девочек оказались почти рядом.
На следующий день, когда Агата приклеила Нежину к стулу, а та подняла такой вселенский вой, что мирно спавший в подсобке сторож Феррул Пунт упал с кровати и сломал указательный палец на правой руке, случайно застрявший в пивной бутылке, ненароком оказавшейся возле его кровати, а старшая воспитательница обрила Агату наголо, поскольку остатки клея, вылитого Нежиной на голову Агаты, не желали покидать курчавые жесткие волосы девочки, матрасы лежали рядышком, тесно прижавшись друг к другу в холодной комнате, впрочем, как и девочки, слабо отсвечивая в темноте свежебритыми макушками (разозлённая воспитательница в наказание состригла дочиста и роскошные рыжие кудри малышки Нежины).
Именно с этих пор между двумя столь непохожими девочками и зародилась крепкая дружба, которую люди обычно проносят через всю жизнь.
Глава 2. Интернат.
(о том, что не всегда неубивающее делает сильнее)
– Поросёночек! Где же ты, сладкая?
«Пожалуйста, уйди. Просто пройди мимо».
– Свинка! Я всё равно отыщу твою розовую жирную задницу!
«Уходи же. Пусть ты просто меня не найдёшь».
– А вот ты где, маленькая хрюшка! Вылезай!
С этими словами, сочащимися гнусной радостью, низколобый широколицый мальчишка вцепился в растрёпанную косу десятилетней пухленькой девочки и вытащил лакомую добычу из-под стола. Девочка заверещала, упираясь слабыми ручонками в жёсткую хватку мучителя. Лицо её, будто созданное для плача, некрасиво перекосилось, как бывает всегда, когда силишься сдержать рыдания.
– Отпусти её, Рыжий Пёс! Отпусти, а то хуже будет!
Короткие пальцы со сгрызенными под корень и всё равно нечистыми ногтями лишь плотнее сжали в кулаке огненную волну волос девочки.
– Кому хуже – мне, тебе или хрюшке? Эта обезьяна – твоя подружка, поросёнок? Ну что ж, так даже интереснее. Иди сюда, черномазая! У меня и к тебе есть пара вопросов.
Рыжий стиснул и без того узкие губы так, что в уголке рта лопнула постоянно кровоточащая болячка, и прищурил зеленоватые кошачьи глаза, ресницы которых слиплись от какой-то дряни. Его покрытая россыпью ржавых пятен рука с торопливой озлобленностью приподняла девочкину голову так, что толстушка заверещала от ослепившей её на мгновение боли.
– Тебе лучше меня послушать, – от слов собеседницы веяло ледяным спокойствием.
Пёс скосил глаза: Агата уперла тонкие ручки в худенькие бока. Она ждала. Злость, готовая в любой момент прорваться наружу, огненным комом клокотала в груди девочки. Вот смуглые пальчики с розовыми ноготками сжались в крохотные острые кулачки. Чёрные волосы, словно тысячи маленьких остроклювых змеек, пружинками окружили аккуратную головку. Тёмные глаза с чёрными косточками зрачков вспыхнули зелёным и фиолетовым, как у породистого жеребёнка. Все говорило о том, что Агата не на шутку раздражена, прямое и неизбежное следствие чего Рыжий Пёс не раз испытывал на собственной шкуре.
Мальчишка хмыкнул, но опасливо попятился – с этой сумасшедшей ему иметь дело не хотелось. Однако трусливое движение не могло ускользнуть от внимательного взора Агаты – она торжествующе оскалилась, обнажив мелкие, но остренькие зубки. Рыжий Пёс машинально потер ещё не успевший зажить расквашенный нос. Да и как назло, других псов Дикой Своры рядом не оказалось. А без них связываться с этой бешеной кошкой было не с руки. Он сплюнул сквозь зубы прямо на пол и нехотя разжал руку.
Девчонка, не переставая ныть, кулем свалилась вниз.
– Ты ещё доиграешься, Неизвестная. А поросёнка я всё равно поймаю. А когда поймаю – изжарю и съем. А вот потом – берегись, за неимением свинины можно съесть и обезьянку.
С этими словами молодой джентльмен щёлкнул жёлтыми зубами и с достоинством покинул помещение вместе с неприятным запахом, исходившим от его рта и немытых ног.
Оставшаяся в комнате Агата с жалостью и лёгкой брезгливостью смотрела на плачущую Нежину, которая с тупой устремлённостью собирала волоски, вырванные из собственной косы, вдоль прожилок деревянных половиц.
Что стало с той боевой девчушкой, попавшей в интернат? Как она могла превратиться в такое ничтожество?
Это неправда, что несчастье и тяжёлая жизнь закаляют. Нежина от рождения обладала сильным духом, чугунной волей и железным характером. Иначе она бы не дожила и до своего первого дня рождения. Более того, девочка не продержалась бы и недели в объятьях Бармалита. Но, как известно, чугун хоть и твёрд, но весьма хрупок, а железо – прочный металл, но и он плавится, превращаясь в бесформенную массу, или плющится под ударами молота. Время и насилие производят перемены куда в более стойких материях, чем детские тело и душа. Нежина же была всего лишь человеком, маленькой девочкой, получавшей вместо материнской нежности бесконечные пинки и тычки от других воспитанников, гораздо сильнее и больше её. Нежестокая от природы, она пыталась дать отпор, но слабые попытки увязали в беспощадности других детей, уверенных в том, что дочь убийцы – достойная мишень в отработке подножек и подзатыльников. Мусор среди мусора. Худшая среди худших. Презренная среди презираемых. А жестокость в этом мире была единственным качеством, которое уважали и боялись.
Даже самые сильные семена не растут на камне. Хоть капля ласки, доброты и понимания смогла бы укрепить хрупкий росток, превратить его в нечто большее, но постоянное напряжение, нервное и психическое, сыграло с девочкой злую шутку. Не имея источника, откуда она могла черпать мужество, Нежина быстро истощила те резервы, которые были даны ей от рождения, и превратилась в робкое, податливое, вечно испуганное существо. В ней не было той бесшабашной отваги, той бравады, которая отличала Агату.
Нет, Нежина сопротивлялась. Она боролась и когда висела вниз головой на подоконнике со связанными шнурками руками и ногами. И тогда, когда Дикая Свора подожгла её волосы, чтобы посмотреть, будут ли они гореть и, если будут, то как долго? Она терпела тычки и плевки, отвечая на них плевками и тычками.
Да, девочка могла стоять за себя и стояла, но ровно до той поры, когда за дерзость, даже не принадлежавшую ей, псы из Дикой Своры не закрыли в холодном подвале с крысами, где Нежина просидела трое суток без еды и питья, пока её не нашла старая повариха.
После этого Нежина начала безудержно есть, словно опасаясь, что еда может опять закончиться, и это не могло не отразиться на её характере, поведении и, уж конечно, ни на внешности – девочка очень поправилась.
Однако, надо сказать, были и такие дети, которым приходилось ещё хуже. Например, Жёлтая Мэри. Такое имя она получила, потому что те синяки, которые ей доставались, не успевали проходить до момента получения новых. Или Крысоед. Его тоже заперли в подвале. Но, к несчастью, мальчика нашли не через три дня, а гораздо позже. Или Ветчинка. В семь лет Дикая Свора сотворила с девочкой такое, о чём в её возрасте знать не полагается.
Другое дело – Агата. С ней опасались связываться. Ведь неизвестно, чем мог бы закончиться даже самый безобидный разговор. В минуты радости её хрупкая фигурка больше всего напоминала одуванчик с чёрной пушистой головкой на тонкой ножке – дунь и улетит. Но стоило кому-нибудь задеть девочку, и место нежного цветка занимала разъярённая дикая кошка с острыми когтями, зубами и распушенным в злобном нетерпении хвостом.
Агату боялись. Даже взгляд её тёмных глаз внушал трепет – в них светилось нечто первобытное, безумное. В серых же глазах Нежины плескался только ужас и неуверенность. А что еще можно ожидать, если ты дочь убийцы, но таковой себя не чувствуешь?
Вы спросите: а где же были взрослые? А взрослые придерживались такого принципа – не лезть в чужой монастырь со своим уставом. Поэтому они слепли и глохли, когда входили в двери интерната, и немели, выходя из них.
Нежине оставалось только терпеть. С годами она в совершенстве освоила это искусство. И насколько её душа горела кротким свечным пламенем, настолько в душе Агаты полыхал яростный драконий огонь. Но странным образом и она смягчалась, подпадая под волны тихой нежности, исходящие от уютной подруги, до поры до времени укрощавшие её, если не сказать больше.
Они росли вместе. Агата была той опорой, которую оплетала Нежина. Она вилась возле темноволосой воительницы, считая её самым близким человеком и в глубине души надеясь, что так было и на самом деле.
И поэтому поддерживала все её начинания, даже если и не были ей по душе.
Вот и сейчас девочка пряталась, потому что Агате что-то понадобилось в комнате Дикой Своры. А ничего больше, чем терпеть и отвлекать, Нежина не умела. Отвлекать у неё получалось лучше всего. Ведь любое движение толстушки производило шум. Тем более, что она постоянно что-нибудь роняла или падала сама. Или жевала, хрустя обёрткой или крошками. Даже если она кралась на цыпочках, то казалось, что по полу шлёпает гигантская лягушка. И конечно, псы Дикой Своры не могли не заметить, когда Нежина вступила на территорию врага. Рыжий гнался за девочкой, пока остальные с насмешливостью передразнивали её движения, трясясь и корчась от смеха. Конечно, Нежина попалась. Впрочем, как и всегда. Прятаться она тоже не умела. И теперь лежала на холодном плиточном полу и рыдала от невыносимой боли – Рыжий унёс в своих грязных руках добрую половину её золотой косы.
Агата тронула девочку носком ободранной босоножки.
– Хватит валяться, вставай. Я, конечно, понимаю, что притворяться дохлой ты любишь больше всего на свете, но через минуту он вернётся, и не один. Дикая Свора уже топочет по коридору, правда, в одних носках.
От удивления Нежина даже перестала выть. Размазывая грязь с пола по пухлым щекам, она почему-то шёпотом спросила, по-прежнему икая от слёз:
– Почему только в носках?
– Правильный вопрос! – просияла Агата. – Вот!
В её руках неожиданно возник мешок, туго набитый тапочками всех цветов и размеров.