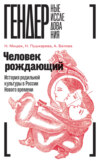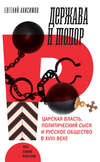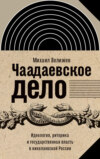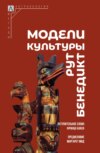Loe raamatut: «Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России», lehekülg 3
«Образ законодательства» как практическая деятельность
Но кто мог авторитетно высказываться о том, что именно представляла собой отечественная правовая традиция? Выражение Сперанского «образ законодательства» подталкивает нас к интересной перспективе. Понятие «образ» позволяет взглянуть на законодательство и судопроизводство в двух аспектах – как на воображаемую и видимую реальность. Внимание к видимости, зримости явлений жизни, с одной стороны, и разного рода умозрительные построения политических и социальных теорий, с другой стороны, – отличительная особенность нового времени, или модерности. Она распространялась на все сферы жизни, включая право и судопроизводство. Юристы и мыслители XVIII века стали все больше писать о том, как выглядит правосудие на улицах города60, как можно сделать чертеж государственной машины и воплотить его в жизнь61, как нужно представлять, то есть видеть, историю права и государства62. С петровского правления все эти вопросы о видимом и желаемом стали очень важны для России. Петр I задал направление визуальному реформированию действительности, ставшее своеобразной доминантой для целого столетия63.
Возможно, Сперанский был прав в том, что военные победы кружили головы и создавали непомерные притязания у героев на собственное видение российского государства. Об этом свидетельствуют, например, записи в дневнике 1803 года первого директора Царскосельского лицея В. Ф. Малиновского. Он прямо указывал, что пролитая в боях кровь и громкие победы русских военных являлись основанием для притязаний на участие в законодательной деятельности:
доселе столь знаменитые в Европе своим мужеством и победами, они законодательством покажут, сколь великого почтения достойны по дарованиям своего быстрого ума и тонкого понятия (курсив мой. – Т. Б.)64.
Малиновский писал, что «законоположение без участия законополагаемых, без совета их и представления, бедственнее настоящего недостатка в законах»65. Народные представители обязательно должны принимать участие в «законоположении» – то есть в составлении нового уложения. Как видим, герои не только претендовали на участие в законодательной власти – они видели в таком участии необходимость. Эта необходимость формулировалась в простом тезисе о том, что право неотделимо от народа, происходит от его «понятия народного».
«Образ законодательства» волновал многих современников Сперанского, которые благодаря своему образованию и эпохальному опыту войны 1812 года стали ощущать свою субъектность гораздо сильнее, чем поколение их отцов66. Законодательные проекты мятежников, вышедших на Сенатскую площадь, показывали, что представители высшего класса имели свое видение законного правления и справедливого суда и были готовы к радикальным действиям67. Сходные мысли высказывали и другие участники войны 1812 года68, сожалея в том числе об отсутствии адвокатов и суда присяжных69, которые воспринимались как видимые формы европейского, а следовательно, желанного судоустройства.
Ответом на притязания элит на участие в «законоположении» стало усиление (посредством разных новаций) видимой законности самодержавного правления. Ее основанием объявлялась традиционалистская легитимность законного порядка. Составленный Вторым отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии Свод законов провозглашался средоточием мудрости всех прежних законов, вышедших после Соборного уложения 1649 года и как бы продолжавших его. Представляя Свод в Государственном совете, император особо подчеркнул: «Свод не создает законов новых, а приводит в порядок старые». Эта фраза надолго стала своеобразным определением Свода, общим местом, без которого не обходится ни одно его описание в литературе70.
Анализ материалов работ по составлению Свода показывает, что создание впечатления о «традиционности» Свода было одной из задач, которую осознавали кодификаторы. Работа над ней активизировалась на заключительном этапе его составления, перед тем как Свод поступил в специально созданные в министерствах ревизионные комитеты на проверку. Главные редакторы, М. А. Балугьянский и М. М. Сперанский, предприняли особые усилия для того, чтобы не возникало никаких сомнений в том, что положения Свода базируются на исконном российском законодательстве. Так, инструкция от 21 февраля 1831 года предписывала сотрудникам «держаться слов» закона-первоисточника, исправляя его только в исключительных случаях71. При этом начальная инструкция, на основании которой составлялись тома Свода, напротив, допускала более вольное обращение с источниками72. Более того, известно, что, обнаружив пробелы в законодательстве, кодификаторы стимулировали разработку соответствующих постановлений, которые потом вносили в Свод73. Поэтому вопреки декларациям Сперанского о том, что Свод не привносил ничего нового, а только систематизировал старое74, на деле было не так75. Как показали юристы уже в конце XIX века, в Свод вошли разнообразные законодательные новации, особенно в части гражданского права, где легко узнавались формулировки из Кодекса Наполеона76. Но публике, повторим, Свод был представлен как освященный веками кодекс российского права – под каждой его статьей приводились ссылки на законодательные источники прошлого.
Вторым, гораздо более заметным ответом на законодательные притязания образованных подданных стало институциональное упрочение самодержавной власти как гаранта законности. В 1826 году были созданы Второе и Третье отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, ставшие двумя столпами николаевского «образа законодательства». Чтобы гарантировать следование букве закона на местах, Второе отделение рассылало во все присутственные места Российской империи книги Свода законов и Продолжения к нему. На сотрудников Третьего отделения была возложена задача усиления законного порядка и выявления всевозможных нарушений путем тайного наблюдения77. Должностная инструкция предписывала жандармам быть «блюстителями общественной нравственности; от имени государства и для блага государства обеспечивать тишину, порядок, подчинение старшим и благочиние»78.
Конституция «по совести»?
Видимые атрибуты усиления законности николаевской монархии – вездесущие жандармы и увесистые книги Свода – были подкреплены содержательно. В первом томе Свода были опубликованы Основные законы Российской империи. Они разрабатывались как противопоставление западной конституционной модели, ограничивавшей монарха. Ее неприменимость для России, на чем настаивал в своей записке Сперанский, компенсировалась у него идеей особой российской конституции-учреждения, основы «гражданского образа правления». Разумеется, ни о каком «публичном контракте» не могло идти и речи79. Тем не менее в Основных законах был прописан моральный принцип, связывавший монарха и подданных и выражавшийся в обращении к совести.
Первая статья Основных законов указывала на главную обязанность подданных – повиноваться не только из страха, но и по совести:
Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной самодержавной власти его не токмо за страх, но и совесть сам Бог повелевает80.
Эта формула опиралась на известное положение из послания к Римлянам апостола Павла: «Тѣ́мже потре́ба повинова́тися не то́кмо за гнѣ́въ, но и за со́вѣсть» (Рим. 13:5). Феофан Прокопович внес это положение в Духовный регламент 1721 года, в котором была прописана роль церкви в петровском государстве и утверждалось: «Монархов власть есть Самодержавная, которым повиноваться Сам Бог за совесть повелевает»81.
Составленный Феофаном текст присяги для чинов Духовной коллегии стал основой для присяги императору, введенной 5 февраля 1722 года. В нем подданные обязывались исполнять свой чин «по совести». Так в петровское время совесть подданных стала предметом государственного интереса уже не с точки зрения защиты православной веры и пресечения отпадения от нее, но в более широком смысле82. Служба «по совести», в согласии со справедливым и естественным устройством власти, а не только из страха наказания за нерадивость, была зафиксирована в законе как принцип служения Отечеству. Феофан написал специальное «Рассуждение о присяге, или клятве», в котором доказывал, что требование присяги от подданных не противоречит христианским догматам, а, напротив, «есть самое высокое Богу почтение»83. Текст присяги вошел в Основные законы 1833 года.
В исследовательской литературе уже отмечалось, что притязания первого российского императора на совесть подданных нужно рассматривать в контексте хорошо известной и самому Петру I, и Ф. Прокоповичу протестантской риторики совести84. Будучи мощным средством сопротивления деспотизму Папы римского, обращение к совести стало одной из ведущих протестантских идей правильно организованной государственной власти. Инструментализация совести как риторическая модель взаимной самоотверженной работы подданных и царя на благо Отечества, воспринятая Петром прагматически, без связи с лютеранством, закрепилась в российском контексте85. Указывая на сакральный характер самодержавной власти, она отсекала саму возможность ответственности монарха перед кем-либо, кроме как перед Богом, по совести. Наиболее емко в XVIII веке это кредо российской монархической власти выразила Екатерина II в записке «О преимуществе Императорского Величества»: император «отчету же в делах на сем свете не подвержен», а дает отчет и «благодарение Единому Творцу Нашему Богу»86.
Слова Екатерины верно трактуются исследователями как выражение неограниченной власти императрицы87. Однако в XIX веке, в условиях необходимости упрочить легитимность самодержавия и улучшить качество управления, появились новые оттенки понимания связи российского монарха с Богом. Основные законы 1833 года позволяли помыслить, что монарх также принимает на себя своеобразное обязательство, о котором говорилось в пятой главе Основных законов «О священном короновании и миропомазании». В ней сообщалось, что о времени этого обряда должно быть объявлено всенародно, а к самой церемонии в Московском Успенском соборе специально призывались представители высших сословий.
Текст Основных законов регламентировал и саму церемонию. Прочтя вслух символ православной веры, «по облечении в порфиру, по возложении на Себя короны и по восприятии скипетра и державы», коронованный монарх должен был прочитать специальную молитву (чин коронования). В ней он «призывал Царя Царствующих в установленной для сего молитве, с коленопреклонением», в которой просил:
да наставит Его, вразумит и управит, в великом служении, яко Царя и Судию Царству Всероссийскому, да будет с Ним приседящая Божественному престолу премудрость, и да будет сердце Его в руку Божию, во еже вся устроити к пользе врученных Ему людей и к славе Божией, яко да и в день суда его непостыдно воздаст Ему слово88.
Так, повинуясь государю по совести, подданные могли рассчитывать на то, что монарх, в свою очередь, обязывался перед Богом в своем служении царя и судии Российской империи. Важно подчеркнуть, что обязательства монарха и подданных не были взаимными. Тем не менее в Основных законах фиксировалось, что и император, и подданные должны обязываться перед Богом служить на благо богоустановленной светской власти Российской империи. Вполне симптоматично для описания отношения лояльности престолу с начала XIX века образованные подданные стали пользоваться новым понятием «верноподданный» и даже «вернопреданный»89. Эти новые понятия отражали представления о духовной связи государства, монарха и подданных, что началось еще при Петре I.
Видный специалист по российскому государственному праву Б. Э. Нольде писал в 1906 году, что Основные законы были воплощением общей исторической тенденции. Она заключалась в том, что «политическая история anciene regime, говоря юридически, есть формализация понятия конституция»90. Имелось в виду, что верховная власть во всем мире должна была выработать и зафиксировать в тексте закона формальные критерии легитимного правления91.
В этой связи обратим внимание на историческое значение понятия «образ гражданского законодательства», использовавшегося Сперанским. В первой половине XIX века слово «образ» имело значение «начертание» или «порядок» и употреблялось в дискурсе об управлении для описания желаемого порядка управления. Так, странная на первый взгляд фраза Александра I из программного рескрипта Завадовскому о «реформе безобразного здания администрации империи»92 имеет смысл, только если мы увидим здесь желанный «образ» порядка и правильно поставим ударение – безо́бразного93.
Сперанский придал этому образу законодательства важный моральный вектор. В своей записке он четко обозначил, что российская «живая конституция» основана на «внутреннем убеждении», ее начала «на одной совести Государя основаны»94. В Основных законах, как мы видели, также упоминалось это моральное понятие, относящееся, согласно словарям того времени, к сфере божественного.
Так, в наиболее близком к моменту издания Основных законов академическом словаре русского языка 1822 года находим два значения понятия «совесть», подкрепленные примерами из Библии:
1. врожденная души сила, способность судить нравственную доброту или худобу наших деяний; 2. внутреннее уверение, твердое признание нравственной доброты или худобы дел наших95.
Как видим, первое значение подразумевало способность каждой души судить о добре и зле человеческих дел. Второе относилось к реализации этой способности – нравственному вердикту совести. Основываясь на божественном даре совести, человек мог судить о поступках, преимущественно о своих.
Повиноваться по велению совести власти монарха, обязующегося перед Богом править «к пользе врученных Ему людей и к славе Божией», Сперанский представлял достойной альтернативой конституции-договору. Совесть, таким образом, с одной стороны, становилась условием лояльности престолу со стороны подданных, их взаимной связи с монархом, условием, необходимым для реализации богоугодного порядка. С другой стороны, совесть государя-христианина становилась залогом легитимности его правления. Связь подданных и монарха по совести была альтернативой публичному контракту парламентского строя, ограничивавшему верховную власть.
Дискурс моральных обязательств монарха и народа нашел воплощение в Акте Священного союза австрийского, прусского и российского монархов. В нем утверждалось, что монархи проявляют отеческое попечение, чтобы «члены единого рода христианского» «деятельно исполняли обязанности, в которых наставил человеков Божественный спаситель». Развивая подобную популярную христианскую риторику своего времени, Сперанский в «Руководстве к познанию законов» много писал о первенствующей роли совести для понимания «всеобщего естественного правильного союза» человека с самим собой, с другими людьми и Богом96. В рамках государства этот союз требовал внешнего выражения в «образе гражданского законодательства». Работа над таким «образом» стала весьма актуальной в ситуации, когда просвещенные подданные стали создавать свои «союзы» – Союз спасения, Союз благоденствия, – осмысляя возможности самоорганизации.
«Посягательства рационализма и либеральных стремлений века»
Обстоятельства восшествия на престол Николая I обусловили его личную заинтересованность в упрочении культа богоустановленной и законной самодержавной власти. Неразбериха с присягой и мятеж декабристов на Сенатской площади стали стимулом того рвения, с каким он стал утверждать веру в «самодержавие милостью Божией». Почвой, на которой она родилась, стали унизительное междуцарствие и бунт 14 декабря, приведшие его к власти. Став императором «милостью Божьей», он не мог не помнить свои собственные сомнения и сомнения подданных и, возможно, поэтому транслировал своему двору непререкаемую «веру в самодержавие». Об этом свидетельствовала фрейлина А. Ф. Тютчева:
Никогда этот человек не испытывал тени сомнения в своей власти и законности ее. Его самодержавие милостью Божией было для него догматом и предметом поклонения, и он с глубоким убеждением и верою совмещал в своем лице роль кумира и великого жреца этой религии… сохранить его (самодержавие. – Т. Б.)… и защищать его от посягательств рационализма и либеральных стремлений века – такова была священная миссия97.
Однако многим просвещенным подданным первой четверти XIX века казалось, что подразумеваемых обязательств императора и чиновников перед Богом недостаточно для утверждения современного государственного порядка. Сомневающиеся в непререкаемой самодержавной власти остались даже после того, как выступившие за конституцию декабристы были преданы суду и наказаны. Так, выпускник Московского университета, видный чиновник московского Сената, известный судебный деятель и литератор М. А. Дмитриев не скрывал своего раздражения по поводу самодержавных амбиций Николая, которые уже не соответствовали чаяниям его просвещенных подданных98.
Обратим внимание на то, что свои обличения деспотических наклонностей Николая I Дмитриев начал с того, что указал на горделивое поведение Николая во время церковной церемонии коронации, где должна была зримо присутствовать вера императора и его обязывание перед Богом за Россию. В своих мемуарах Дмитриев сообщал, что во время церковного обряда Николай не выказывал никакого религиозного благоговения и искренности молитвы в кругу своих высокопоставленных подданных. Юрист Дмитриев, как видим, заострял внимание на том, что «образ гражданского правления» с обязавшимся перед Богом монархом во главе не проявлялся на коронации. Всему виной была неготовность «вчерашнего бригадного командира», а теперь царя войти в «роль», как метко выразился Ю. М. Лотман99.
Дмитриев специально приводил дословно слова молитвы об укреплении дела правосудия в империи и сокрушался по поводу нерадения императора:
Протодиакон громко молился о нем Господу: «О еже помазанием всесвятого мира прияти ему с небес к правлению и правосудию силу и премудрость» и «яко да подчиненные суды его немздоимны и нелицеприятны сохранити». А он едва ли участвовал в этом прошении, судя по его неподвижному лицу и солдатскому величию!100
Тем самым Дмитриев подчеркивал, что единственное мыслимое ограничение самодержавной власти – ее ответственность перед Богом, – по всей видимости, не имело значения для нового императора. Основываясь на своем впечатлении, Дмитриев сокрушался о том, что чин коронования не предусматривал упоминания об ответственности монарха. Он подчеркивал, что российский император не должен был давать «клятвы или присяги, но даже и никакого обещания», и прояснял этот момент:
Кажется, основанием этого служит то убеждение, что «сердце царево в руке Божией»: следовательно, если он хорош, это значит, что Господь умудрил его; а если дурен – он не виноват, потому что Господь не вложил хорошего в его сердце!
Эмоциональный восклицательный знак выдавал раздражение Дмитриева по поводу того, что политическая традиция абсолютного суверенитета монарха не позволяла подданным что-либо требовать от него. Идея общественного договора противоречила принципу самодержавной власти. Обязывание императора перед Богом «по совести», как это называл Сперанский, было скорее упованием, которое не могло иметь значения договора.
Такое положение дел ставило под сомнение правление закона в Российской империи. Занимавший высокую должность обер-прокурора Сената Дмитриев не скрывал своего возмущения по поводу деятельности сотрудников Третьего отделения, вознесшихся над всеми остальными служащими государственных учреждений и самим законом. Особенно его возмущало, что, сделав донос одним из основных инструментов своей деятельности, Третье отделение не считалось с базовым юридическим принципом разделения закона и морали:
По самому первоначальному юридическому понятию власть гражданская может иметь дело только с поступками, а не с нравственностию; на нравственность она может действовать только воспитательными учреждениями и отъятием способов к разврату, что и называется в законодательстве предупреждением преступлений, но под этим опять разумеется предупреждение действий, а не помыслов. Но требования «поселить в заблудших стремление к добру и возвести их на путь истинный» (из инструкции жандармам. – Т. Б.) – это уже дело религии, а не жандармов; это до того смешно и преступно, что делало жандармов духовными отцами!101
Отметим, что свои обличения Дмитриев доверил бумаге уже после смерти Николая, в эпоху ослабления цензуры. Но исследования о среде образованных чиновников 1820–1830‑х годов, в которой вращался Дмитриев, убеждают нас в том, что нетерпимость к произволу была определенной культурной тенденцией102. В соответствии с ней московский губернатор Д. В. Голицын в своей речи на дворянских выборах 1822 года, разделяя гражданский пафос декабристского Союза благоденствия, говорил о ценности «общей пользы, для благоденствия сограждан… без ничтожных расчетов личной корысти»103. Произвол здесь воспринимался в том числе и как основа коррупции.
Модус гражданственной риторики службы первой четверти XIX века, разделявшийся Дмитриевым, Голицыным и другими, все меньше совпадал с попытками укрепить власть самодержавия доносами и слежкой жандармов. Ценность создаваемого при этом властями богоугодного «образа гражданского законодательства» компрометировалась бесчестным поведением «слуг закона». На дефицит достойных кадров, годных для гражданского управления, указывал Сперанский в своей записке. Он подчеркивал, что для превращения военного правления в гражданское в Российской империи необходимы соответствующе образованные люди.