Изобретено в СССР
Tekst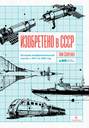


Mine üle audioraamatule
- Maht: 590 lk. 55 illustratsiooni
- Žanr: будущее и технологии
Советский атом
Как уже говорилось, до войны США были одним из дружественных СССР государств. Сотрудничество началось даже до того, как Соединённые Штаты признали Советский Союз и открыли посольство в Москве (это случилось в 1933 году), и советские учёные в 1920–1930-е годы имели доступ к международной научной информации и даже ездили в рабочие командировки в США и Европу.
Центром изучения ядерной энергии в СССР был Радиевый институт в Ленинграде, созданный в 1922 году по инициативе Владимира Вернадского. Вернадский возглавлял его до 1939-го, причём, что интересно, с 1922-го по 1926-й Вернадский был в творческой командировке в Париже, где работал, в частности, в Институте Кюри. Исследования велись в ленинградском и харьковском физтехах, в Институте химической физики в Москве и т. д., проводились даже Всесоюзные конференции АН СССР по ядерной физике. Ситуация в нашей стране была аналогична общемировой: учёные ставили эксперименты, обменивались результатами и данными. Например, расщепление ядра лития в СССР провели на базе Украинского физико-технического института (в Харькове) в октябре 1932 года – практически одновременно с британцами Кокрофтом и Уолтоном, причём независимо от них. Стоит заметить, что руководитель этого эксперимента Александр Лейпунский был арестован в 1937 году «за шпионаж» и чудом избежал лагерей – его отбило руководство АН СССР. Пятерых сотрудников института расстреляли (эти события получили название «дело УФТИ»).
А в 1940 году сотрудники УФТИ Фридрих Ланге, Владимир Шпинель и Виктор Маслов представили первый советский проект атомной бомбы. В принципе, идея была ровно та же, что и у американцев: в качестве делящегося элемента использовался обогащённый уран-235. Проект представлял собой три заявки на получение авторских свидетельств: «Об использовании урана как взрывчатого и ядовитого вещества», «Способ приготовления урановой смеси, обогащенной ураном с массовым числом 235. Многомерная центрифуга» и «Термоциркуляционная центрифуга». Но с проектом произошёл казус: заявку на получение авторского свидетельства не приняли из-за… отсутствия экспериментальных подтверждений! В общем-то история показала, что отказ был к лучшему – неизвестно, что случилось бы, имей СССР ядерную бомбу до начала войны.
Уже после войны Шпинель всё-таки сумел получить авторское свидетельство по первой заявке, «Об использовании урана как взрывчатого и ядовитого вещества». Ланге не был одним из авторов данного конкретного проекта, Маслов погиб на фронте, а само свидетельство строго засекретили сразу после выдачи, так что для Шпинеля получение этого документа оказалось лишь делом чести.
Так или иначе в 1941 году практически все работы в области ядерной физики были свёрнуты по объективным причинам. Многие учёные ушли на фронт, финансирование проектов заморозили, в общем, стране было не до исследований. Поэтому США, где атомный проект развивался в нормальном режиме, ушли далеко вперёд и, как описывалось выше, построили и первый ядерный реактор, и первую ядерную бомбу.
К мирному атому
В Советском Союзе какие-то работы, конечно, продолжались, но не в прежнем ритме. Ядерщиком номер один на тот момент можно было назвать Виталия Григорьевича Хлопина, руководителя ленинградского Радиевого института, который продолжал трудиться в эвакуации – в Казани. Но наибольший вклад в развитие советской ядерной программы в 1941–1945 годах внесли не учёные, а… шпионы. СССР имел в США весьма обширную агентурную сеть, поскольку связи между странами были тесными, в 1930-е годы американцы активно ездили к нам, а представители советской науки и искусства – в Америку. Каналы внешней разведки своевременно сообщали в ГРУ о развитии атомных оружейных технологий, а для выяснения подробностей Манхэттенского проекта была создана отдельная агентурная сеть. Семён Семёнов («Твен»), Елизавета Зарубина («Вардо»), Григорий Хейфец («Харон») и другие агенты работали на совесть: так, известно, что описание первой американской атомной бомбы оказалось в руках офицеров ГРУ через 12 дней после её появления!
11 февраля 1943 года было официально принято постановление ГКО № 2872сс, которое предписывало начать работы по созданию атомной бомбы в СССР. Но, несмотря на полную поддержку Сталина, работы затянулись и первую советскую бомбу сделали только к 1949 году. Однако прежде, как и в США, исследователям пришлось построить реактор, позволяющий получать оружейный плутоний (он же плутоний-239) в более или менее промышленных масштабах.
Руководителем проекта стал Игорь Васильевич Курчатов, «отец советской атомной бомбы». Под проект была выделена обособленная лаборатория, известная как Лаборатория № 2 АН СССР (впоследствии она выросла в Курчатовский институт). Правда, «лаборатория» – это громко сказано: на первых порах она была просто участком земли, а опыты с ядерными реакциями сотрудники проводили в армейских палатках!
Топливом для реактора служил металлический природный уран, содержащий 0,72 % урана-235. Для экспериментального проекта этого хватало, и первый советский ядерный реактор Ф-1 («физический первый») был запущен на четыре года позже американского, 25 декабря 1946 года. В нём впервые удалось получить нормальные («весовые») объёмы плутония-239, хотя основной целью были, конечно, исследования. Для Ф-1 пришлось построить отдельное здание с десятиметровой шахтой. По своей конструкции реактор напоминал «Чикагскую поленницу»: топливо, графитовые замедлители, кадмиевые стержни для контроля над реакцией. Академики предлагали и другие системы, известные в теории, но Курчатов настоял на копировании американского опыта – по крайней мере, эта технология была проверена.
В качестве учебного реактора Ф-1 работал до 2016 года (!) и считался самым старым действующим реактором в мире. Сегодня он заглушён. С 26 декабря 2016 года Ф-1 открыт для свободного посещения как музей (не поленитесь сходить: Москва, площадь Академика Курчатова, дом 1, Курчатовский институт).
Чуть раньше, в 1945 году, академик Пётр Леонидович Капица, бывший в курсе дел, подал в Первое главное управление при Совете Министров СССР, на тот момент ведавшее оружейным атомным проектом, докладную записку «О применении внутриатомной энергии в мирных целях». Капица при всей своей гениальности был человеком прямым и даже рисковым в высказываниях, и в 1946 году он попал в опалу – его сняли со всех должностей и исключили из Спецкомитета, занимавшегося ядерным проектом. Но записка появилась до этих событий и возымела действие: в проекте было выделено мирное направление, имевшее целью разработку и создание энергетической станции. Наибольший вклад в развитие этого направления на первых порах внёс всё тот же Курчатов – он активно лоббировал разработку системы, позволявшей получать электричество через использование энергии атома. Сторонником мирного атома был также президент АН СССР Сергей Вавилов, что не могло не повлиять на положительное отношение власти к проекту электростанции.
В 1946 году близ усадьбы Белкино в Калужской области была размещена сверхсекретная лаборатория «В» МВД СССР, в которой велись исследования в области строительства ядерных реакторов, причём среди работающих там специалистов числилось немало иностранцев, в том числе немцев. Лаборатория заняла часть пустующих зданий, в которых ранее располагалась школа-колония «Бодрая жизнь» знаменитого педагога-экспериментатора Станислава Шацкого. Опять же многие из этих зданий сохранились до сих пор, их можно увидеть в Обнинске на улице Шацкого, а сама лаборатория «В» в 1960 году была рассекречена и переименована в ФЭИ – Физико-энергетический институт. Курировал направление уже упоминавшийся в этой главе Александр Лейпунский.
Над реакторами работали четыре организации: лаборатории № 2 и № 3 АН СССР, лаборатория «В» и Институт физических проблем АН СССР. Учёные разработали пять типов реакторов – как опирающихся на американские идеи, так и собственной, уникальной конструкции, например «Агрегат с гелиевым охлаждением на обогащенном уране мощностью до 500 тыс. кВт».
А 16 мая 1950 года Совмином СССР было выпущено постановление о строительстве атомной энергостанции (ранее, в августе 1949 года, испытали и первую советскую атомную бомбу, но это другая история). Руководителем проекта стал Курчатов, главным конструктором реактора – Николай Антонович Доллежаль. К тому времени в СССР было уже несколько промышленных реакторов, производящих оружейный плутоний, так что опыта хватало.
Станцию начали строить в 1952 году недалеко от лаборатории «В». Годом ранее для этой цели ликвидировали колхоз Пяткино и одноимённую деревню, известную с конца XV века; хозяйства перенесли в соседние населённые пункты – Потресово, Ратманово, Анисимово и Обнинское.
В феврале 1954 году в лаборатории «В» запустили пробный реактор-стенд, это было нечто вроде репетиции перед запуском основной системы, а 26 июня 1954 года свершилось историческое событие – заработала первая в мире промышленная атомная электростанция. Реактор назывался АМ-1. Существовали две расшифровки аббревиатуры. Первая, и более точная, гласила: «атом мирный», а вторая – «атом морской» (в основу АМ-1 легли технологии, разработанные в лаборатории «В» для подлодок).
АМ-1 был уран-графитовым реактором – эту технологию хорошо обкатали и в США, и в Советском Союзе, в промышленных реакторах. Более того, она позволяла построить реактор двойного назначения, то есть параллельно получать оружейный плутоний и производить электричество. Чисто гражданские реакторы без возможности перепрофилирования под военные нужды в СССР начали строить значительно позже. К слову, лаборатория «В» предлагала другой тип реактора – на обогащенном уране с бериллиевым замедлителем и гелиевым охлаждением, но для реализации был выбран проект Института физических проблем. В качестве кодового названия реактора на стадии разработки использовалось слово… «Шарик».
Активная зона реактора состояла из шестигранных стержней высотой по 600 миллиметров, в которых были высверлены технологические каналы. В каналах располагались тепловыделяющие элементы (твэлы), передававшие тепловую энергию теплоносителю (воде). Твэл представлял собой двустенную трубку из нержавеющей стали, между стенками которой располагался уран, а по центральному каналу протекала вода первого контура. Вода в контуре находилась под давлением в 100 атмосфер и потому не вскипала, достигая температуры 300 °C. Вода во втором, изолированном контуре нагревалась от первого посредством теплообменника, испарялась и вращала турбину, подключённую к электрогенератору. С твэлами, к слову, было больше всего технических проблем: их финальную конструкцию утвердили всего за семь месяцев до пуска станции.
1 июля 1954 года о запуске было объявлено официально, на первой полосе «Правды»: «В настоящее время в Советском Союзе усилиями ученых и инженеров успешно завершены работы по проектированию и строительству первой промышленной электростанции на атомной энергии полезной мощностью 5000 киловатт. 27 июня атомная станция была пущена в эксплуатацию и дала электрический ток для промышленности и сельского хозяйства прилежащих районов».
На деле официальная дата пуска станции – это день, когда была открыта задвижка подачи пара на турбогенератор. Курчатов в тот момент, 26 июня, в 17:45, произнёс известную фразу: «С лёгким паром!», сегодня имеющую такой же легендарно-исторический статус, как гагаринское «Поехали!». 27 июня считается официальным днём запуска электростанции, так как именно в этот день первая электроэнергия из Обнинска (правда, тогда он ещё был безымянным научным посёлком) поступила в сеть Мосэнерго. Реально же реактор начали загружать топливом ещё 5 мая и критичности он достиг при загрузке всего 61 из 128 каналов – 9 мая 1954 года. То есть уже в конце весны он был полностью работоспособен. Суммарно первая загрузка реактора составила 546 килограммов металлического урана с 5 %-ным обогащением по урану-235.
Постфактум
Конечно, американцы тоже не стояли на месте. Свой первый энергетический, то есть вырабатывавший электроэнергию параллельно с производством плутония, реактор они запустили ещё в 1948 году – он назывался X-10 и размещался в городке Ок-Ридж (Теннесси). Это был первый в мире промышленный реактор длительного использования (в отличие от «Чикагской поленницы»), но предназначался он в первую очередь для производства радиоактивных изотопов, а выработка энергии на нём была лишь краткосрочным экспериментом. От энергии X-10 торжественно зажгли электрическую лампочку.
В декабре 1951 года в городе Арко (Айдахо) заработал первый американский мирный реактор EBR-1. Наряду с получением плутония-239 он уже мог вырабатывать электроэнергию, хотя и оставался сугубо экспериментальным: вся получаемая энергия расходовалась тут же, в здании лаборатории, не поступая во внешние сети. Ну и, кстати, в результате экспериментов с прокачкой теплоносителя 29 ноября 1955 года он частично расплавился, но позднее был восстановлен и в 1962 году стал первым энергетическим реактором с плутониевым топливом (в 1975 году EBR-1 его превратили в музей).
Советские учёные выиграли время за счёт того, что не делали больших экспериментальных проектов. По сути, АМ-1 был сам себе эксперимент – именно благодаря этому первую АЭС запустили в СССР раньше, чем в США. Более того, ровно по той же причине вторую АЭС тоже построили не американцы, а… англичане. 17 октября 1956 года королева Елизавета II торжественно открыла первую в стране и вторую в мире атомную электростанцию Calder Hall в Селлафилде (англичане не любят аббревиатуры). Calder Hall была значительно больше Обнинской АЭС – в Обнинске работал всего один реактор мощностью 5 МВт, а в Селлафилде – целых четыре, по 60 МВт каждый. Справедливости ради добавлю, что в Обнинске тоже сперва планировали построить три реактора, которые вращали бы одну турбину, но отказались от этой идеи из-за сложности проекта.
Наконец, в 1957 году запустили свою АЭС и американцы – неподалёку от Питтсбурга. Её реактор мощностью 60 МВт изначально разрабатывался для атомного авианосца, который в итоге так и не построили, и был чисто энергетическим, то есть не мог обогащать плутоний. Таким образом, станция Шиппингпорт стала первой в мире АЭС, имеющей исключительно мирную цель – производство электроэнергии.
Ядерная гонка – это такой же эпизод холодной войны, как гонка космическая, описанная в четвёртом разделе книги. Первой могла стать любая страна, так как на развитие технологии везде были брошены примерно равные и весьма серьёзные силы и средства. Это ещё одно свидетельство того, что в XX веке прогресс уже не мог существовать внутри государственных границ. Такие разработки, как АЭС, принадлежат всему человечеству.
P. S. В здании Обнинской АЭС сегодня располагается музей. Реактор заглушили 29 апреля 2002 года в 11:31, он будет находиться в режиме длительного сохранения под наблюдением вплоть до 2080 года (это не опечатка). Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского работает по сей день и является одним из ведущих исследовательских институтов мира в области атомной энергетики.
Глава 7. Атомное плавание

Появление атомного ледокола – это прямое следствие событий, описанных в предыдущей главе: многочисленных открытий в области ядерной физики, войны и разработки ядерного оружия, создания первых ядерных реакторов и применения их в мирных целях, в частности в виде энергетических установок. Идея создать транспортное средство с ядерным источником энергии лежала на поверхности.
Естественно, у транспортного реактора было чёткое, очень узкое назначение. Он позволял добиться значительной автономности судна: оно не нуждалось бы в дозаправке в течение долгого времени. Но имелось и ограничение: транспорт должен был иметь значительные размеры – технологии того времени не позволяли создать компактный реактор, скажем для автомобиля (они и сейчас этого не позволяют, чего уж тут скрывать). В разное время появлялись проекты атомного поезда (о которых бурно писала советская пресса в 1950-е годы), атомного танка (американские проекты того же времени – TV-1, R32), атомного самолёта.
Но фантазия ограничивалась соображениями целесообразности. Поэтому, объективно говоря, единственным типом транспорта, для которого атомные установки имели смысл, были морские суда – хотя бы потому, что для работы паровой турбины нужен не только реактор (нагреватель), но и холодильник (в термодинамическом смысле этого слова), отводящий значительное количество тепла. А у кораблей и подводных лодок такой холодильник есть, причём бесплатный, – забортная вода.
США: подводная лодка
Корабли и подводные лодки нередко отправляются в многомесячные плавания без возможности захода в порт. В 1950-е годы много говорили о военных подлодках, способных пересекать океан и в течение месяцев работать в акватории противника. Поэтому в 1951 году Конгресс США санкционировал разработку и строительство подводной лодки с атомной силовой установкой. Руководителем проекта назначили адмирала Хаймана Джорджа Риковера, ныне известного как «отец атомного флота». Исследования в этом направлении велись ещё с 1948 года в Лаборатории Беттиса в пригороде Питтсбурга, но именно в 1951-м проект перешёл в активную фазу.
Для будущей лодки, которая уже получила своё название – «Наутилус», разработали первый в истории морской ядерный реактор – S1W (S – submarine, 1 – первое поколение, W – Westinghouse, название компании-разработчика). Это был водо-водяной ядерный реактор (где в качестве замедлителя нейтронов и в качестве теплоносителя использовалась обычная вода), аналогичный описанным в предыдущей главе: тепловыделяющие элементы (твэлы) нагревали находящуюся под давлением воду в первом контуре, от неё через теплообменник кипятилась вода во втором контуре, пар вращал турбину. В качестве топлива в S1W использовали уран-235. Реактор был запущен 30 марта 1953 года, начались испытания, в ходе которых имитировались условия длительного плавания.
Надо сказать, что подлодки времён Второй мировой войны в среднем могли находиться под водой не более нескольких часов – продолжительность погружения зависела от запаса кислорода и ёмкости аккумуляторных батарей, поскольку большинство подводных лодок тогда использовали дизельный двигатель для надводного плавания и электрический – для подводного. Их можно назвать ныряющими: 80 % времени подлодка находилась над водой и даже атаки нередко проводила из такого положения. А вот ядерный реактор в теории позволял находиться под водой до нескольких суток!
На «Наутилус» был установлен не S1W, а реактор второго поколения, S2W, построенный с учётом результатов испытаний, но в целом аналогичный по конструкции. 21 января 1954 года подлодка «Наутилус» (SSN-571) была спущена на воду, а 17 января 1955-го впервые вышла в море. Радисты передали на землю знаменитую радиограмму: «Под водой на ядерной энергии». Двигатель подлодки имел мощность 13 400 лошадиных сил, а реактор за месяц сжигал всего 450 граммов урана-235 – по сути, запас энергии был практически неограниченный. Длительность плавания зависела только от психологического состояния экипажа и запасов пищи. Самым знаменитым походом «Наутилуса» стало путешествие к Северному полюсу: подлодка вышла из Пёрл-Харбора 23 июля 1958 года, 1 августа погрузилась в районе мыса Барроу (Аляска) и 3 августа стала первым в истории судном, достигшим географического Северного полюса. Всплыла она через 96 часов после погружения у берегов Гренландии. Стоит заметить, что этот вояж, помимо исследовательских и соревновательных целей, преследовал и военные задачи, связанные с разрабатываемыми как раз в то время баллистическими ракетами для запуска с подводных лодок.
Сегодня «Наутилус» – это корабль-музей; лодка находится на вечной стоянке около Музея подводных вооружённых сил в городе Гротон (Коннектикут), где и была спущена на воду более 70 лет тому назад.
СССР: надводное судно
Естественно, американские разработки вызывали беспокойство в Советском Союзе. 12 сентября 1952 года, через год после указа Конгресса, появилось постановление «О проектировании и строительстве объекта 627», представляющее собой результат прямой конкурентной гонки, поскольку таинственный объект 627 был подводной лодкой с ядерной силовой установкой. Её проектировал уже знакомый нам по предыдущей главе Николай Антонович Доллежаль.
В итоге первая лодка проекта К-3, она же «Ленинский комсомол», была спущена на воду 12 сентября 1957 года и стала третьей в мире атомной субмариной (американцы к тому времени успели построить ещё одну, USS Skate). К-3 служила до 1991 года, затем была выведена из состава флота и долго ржавела в ангаре. В 2013 году по доброй русской традиции её собрались разрезать на металл, но неравнодушные моряки отвоевали артефакт, и Минобороны выделило средства на переоборудование подлодки под музей. На момент написания этой главы «Ленинский комсомол» находится на стапелях, ведутся работы по восстановлению.
Как я уже говорил, первая советская атомная подлодка оказалась третьей по счёту в мире. Но у СССР, помимо военных кораблей, было и ещё одно морское направление, для которого требовались суда, способные долго находиться вдали от цивилизации. Я говорю о северном судоходстве, и в частности о ледокольном флоте. В принципе, ледокольный флот как таковой нужен не очень большому количеству государств – только тем, что граничат с Северным Ледовитым океаном (Россия, Канада, Скандинавские страны), и ещё тем, которые имеют обширную арктическую программу (например, Франция). СССР был, конечно, ледокольной страной номер один (если вы читали первую книгу, то знаете, что ледокол как таковой изобрели в России). В первую очередь это связано с тем, что Северный морской путь, пролегающий через Северный Ледовитый океан, является кратчайшей дорогой между европейской частью СССР (или России) и Дальним Востоком и потому имеет важнейшее стратегическое и экономическое значение. А без ледоколов Севморпуть большую часть года непроходим.
Вот почему 20 ноября 1953 года, уже после смерти Сталина, было подписано постановление № 2840–1203 – о строительстве атомного надводного ледокольного судна. Разработчиком реактора стал будущий гигант советской атомной промышленности Игорь Иванович Африкантов, тогда ещё довольно молодой человек, 37 лет от роду. Он возглавлял Особое конструкторское бюро по опытным работам при Горьковском машиностроительном заводе. Главным конструктором всего корабля назначили Василия Ивановича Неганова, выдающегося специалиста по ледокольным и вообще транспортным судам. За разработку арктического ледокола «Сталин» он в 1940 году получил Сталинскую премию.
Строили быстро. Заложен «Ленин» был на Ленинградском судостроительном заводе № 194 (в прошлом – завод имени Андре Марти) 25 августа 1956 года, а спущен на воду 5 декабря 1957-го. Полтора года заняли достройка и доводка корабля, а также монтаж ядерного реактора. В декабре 1957-го предприятие, кстати, в очередной раз переименовали, так что принимал заказ завод № 194, а сдавал его уже Адмиралтейский завод. Сегодня это ГП «Адмиралтейские верфи».
Реактор, получивший наименование ОК-150, был разработан ещё до закладки корабля, весной 1955 года. Он относился к уже знакомому нам водо-водяному типу с двумя контурами и имел довольно скромные размеры: всего 186 сантиметров в диаметре, топливо было тоже проверенное: оксид урана с 5 %-ным обогащением по урану-235. Корабельная установка состояла из трёх таких реакторов с твэлами различной конструкции. Каждый реактор выдавал 90 МВт мощности, пар поступал на четыре турбогенератора, а от них уже питались электродвигатели, вращавшие винты. Всего на винты поступало около 44 000 лошадиных сил.
Конечно, как и в случае с Обнинской АЭС, над реактором трудился огромный коллектив сильных учёных. Самым опытным был академик Анатолий Петрович Александров, работавший ещё в лаборатории № 2 АН СССР с самого её основания в качестве заместителя Курчатова, а затем принявший руководство Институтом проблем физики после отстранения опального Петра Капицы.
6 августа 1959 года реактор был запущен, 12 сентября атомоход официально сдан в эксплуатацию, 5 декабря – передан Мурманскому морскому пароходству ММФ СССР. На тот момент это было первое в истории надводное судно с атомной энергоустановкой, первое в мире атомное судно гражданского назначения и, к слову, самый мощный в истории ледокол.
«Ленин» сразу стал незаменим, а опытная эксплуатация незаметно перетекла в регулярную. Первым капитаном судна был назначен Павел Пономарёв, ранее работавший капитаном на легендарных «Ермаке» и «Красине». «Ленин» провёл навигацию 1960/61 года, затем по состоянию здоровья Пономарёв ушёл в отставку, а капитаном стал молодой, подающий надежды Борис Соколов, ранее работавший дублёром капитана. За шесть сезонов навигации «Ленин» провёл через льды 457 судов, пройдя более 115 000 километров, а также многократно принимал участие в различных научных исследованиях. В частности, в октябре 1961 года он доставил на место дрейфующую станцию «Северный полюс-10», с его борта устанавливали метеостанции и брали пробы.
В 1967 году весь реакторный отсек судна был обновлён: три уже устаревших ОК-150 заменили двумя более совершенными и надёжными реакторами ОК-900 без изменения в основных показателях судна. Операция по замене была сама по себе подвигом науки и техники: ледокол отбуксировали в район захоронения (залив Цивольки неподалёку от Новой Земли), там дистанционно разрезали переборки с помощью кумулятивных зарядов и выгрузили отсек массой 3700 тонн! По сути, из корабля «выгрызли» кусок днища и бортов с реактором и затопили прямо на месте. Затем ледокол, лишённый центрального отсека, на малой скорости отбуксировали обратно в Мурманск, где начали монтаж нового реактора и восстановление корпуса. Аналогов этой операции на тот момент в мире не было.
Ледокол «Ленин» сегодня стоит в Мурманске – его вывели из эксплуатации в 1989 году; Борис Соколов оставался его капитаном до 2001 года. К 2005 году завершилась реставрация, и «Ленин» открыл двери для всех желающих в качестве корабля-музея.
