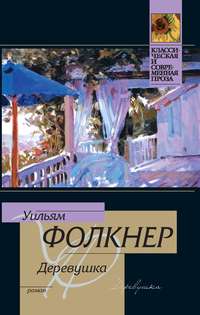Loe raamatut: «Деревушка»
William Faulkner
THE HAMLET
Перевод с английского В. Бошняка (кн. 1, 2) и В. Хинкиса (кн. 3, 4)
© William Faulkner, 1940
© Перевод. В. Бошняк, 2009
© Перевод. В. Хинкис, наследники, 2009
© ООО Издательство «АСТ МОСКВА», 2009
* * *
Книга первая
Флем
Глава первая
Французовой Балкой называлась часть плодородной речной долины в двадцати милях к юго-востоку от Джефферсона. Защищенная холмами и уединенная, обособленная, но четких границ не имеющая, лежащая на стыке двух округов и ни одному из них не подчиненная, Французова Балка когда-то была жалованным поместьем, ко времени войны Севера с Югом превратившимся в колоссальную плантацию, останки которой – выпотрошенный короб огромного дома, рухнувшие бараки для рабов и конюшни, террасы, укрепленные кирпичной кладкой, дорожки и заросшие сады – по-прежнему именовались усадьбой Старого Француза, хотя первоначальные границы поместья были обозначены теперь только на пожелтевших старинных планах, хранившихся в архиве финансового управления, размещенном в Джефферсоне, в здании окружного суда; и даже поля, в прошлом урожайные, кое-где давно уже вновь заполонила сплошь поросшая камышом непролазная кипарисовая чаща, некогда вырубленная их первым владельцем.
Вполне возможно, он был иностранец, хотя и не обязательно француз, поскольку для людей, пришедших после него и почти начисто уничтоживших следы его трудов, любой, в чьей речи угадывался нездешний призвук либо чья внешность или даже род занятий казался странным, был не иначе как француз, что бы ни утверждал он в отношении своей национальной принадлежности, подобно тому как их существеннее затронутые городской цивилизацией современники (вздумай он обосноваться, скажем, в самом Джефферсоне) окрестили бы его голландцем. Откуда он был родом на самом деле, теперь никто уже не имел и понятия, даже шестидесятилетний Билл Варнер, нынешний владелец большей части бывшего поместья, включая участок под разрушенной усадьбой. Потому что пропал, исчез тот иностранец, Француз тот, вместе с семьей, рабами, со всем своим великолепием. Его мечта, необъятные поля его плантации были раздроблены на части под мелкие, заложенные и перезаложенные захудалые фермы, и директора джефферсонских банков сперва из-за них между собой перегрызлись, а в конце концов продали Биллу Варнеру, так что все, что от Старого Француза осталось, – это русло реки, которое на протяжении почти десятка миль его рабы спрямили, дабы река не размывала земли, да еще скелет грандиозного дома, который его самозваные наследники уже лет тридцать растаскивали по частям, отдирая и отковыривая все, что только могли: ореховые балясины перил и опоры винтовых лестниц, дубовые половицы, которым лет через пятьдесят цены бы не было, вплоть до дощатой обшивки дома – и все на дрова. Забыто было даже имя иностранца, и от его гордыни не осталось ничего, кроме предания о земле, отвоеванной им у зарослей и покоренной, увековечившей позабытый титул, который те, кто явились позже, приехали в обшарпанных фургонах, верхом на мулах или даже пришли пешком со своими кремневыми ружьями, собаками и детьми, самогонными аппаратами и протестантскими молитвенниками, даже по складам прочесть не смогли бы, не то что правильно выговорить, и который не имел уже отношения ни к кому на всем белом свете; и вот не осталось ни его мечты, ни гордыни, прах, тлен и безымянная могила, а от всего предания – лишь сказка, упрямо твердящая о деньгах, зарытых им где-то в усадьбе, когда войска генерала Гранта хлынули в эти места по дороге на Виксберг.
Люди, ему унаследовавшие, пришли с северо-востока, через теннессийские горы, продвигаясь постепенно, каждый шаг отмеряя выношенным и выращенным поколением. Они пришли с Атлантического побережья, а прежде того из Англии, с болот Шотландии и Уэльса, и это видно по именам многих из них: Тэрпин и Хэйли, Уиттингтон, Маккалем и Марри, Леонард и Литтлджон, да и других тоже: Риддеп, Армстид, Доши – люди с такими именами сами собой, из ниоткуда, появиться не могут, поскольку никто, конечно же, не выбрал бы себе добровольно подобное прозвище. Не было у них ни рабов, ни дорогих комодов работы Файфа и Чиппендейла, – какое там, если у них что и было, так в большинстве своем они все свое имущество в состоянии были принести на собственных плечах, а зачастую и действительно принесли. Они заняли землю, понастроили лачуг в одну-две комнатенки, причем до покраски дело не доходило, переженились между собой и принялись плодить детей да пристраивать к своим лачугам клетушку за клетушкой, опять не утруждаясь покраской, но на большее их не хватало. Их потомки все так же растили хлопок в пойме, а кукурузу – у подножия холмов, из зерна гнали виски в запрятанных среди холмов укромных закутках и продавали, если не выпивали все сами. К ним направляли федеральных чиновников, но те исчезали. Кое-что из вещей пропавшего потом обнаруживалось – какая-нибудь фетровая шляпа, приличного сукна сюртук, пара городских штиблет, а глядишь, и пистолет даже – то у ребятишек, то у старика или старухи. Начальство из округа иначе как по поводу выборов туда не совалось. Они сами содержали свои церкви и школы, а их свадьбы, редкие прелюбодеяния и несколько более частые убийства – все это решалось между собой: сами себе судьи, сами себе палачи. Протестанты и демократы, они давали обильный приплод; негров среди местных землевладельцев не было ни одного, а чужие негры ни за что на свете не согласились бы пройти через Французову Балку после того, как стемнеет.
Главным человеком в этих местах сделался Билл Варнер, теперешний хозяин усадьбы Старого Француза. Он был крупнейшим землевладельцем и членом окружного совета в одном округе, мировым судьей в соседнем и уполномоченным по выборам в обоих, поэтому от него исходили если не законы, то по меньшей мере советы и поучения для местных жителей, которые отвергли бы такой термин, как представительство, если бы даже когда-нибудь о нем услышали, и приходили к Варнеру с намерением узнать не «что от меня требуется», а «как вы думаете, что бы вы от меня вздумали потребовать, если бы меня удалось заставить». Он был и фермером, и ростовщиком, и ветеринаром; судья Бенбоу из Джефферсона сказал однажды, что никогда он не встречал такого отменного учтивца средь всех, кто начинял избирательные урны иль мулам зубы рвал. Почти вся хорошая земля в округе принадлежала Варнеру, а на остальную он держал закладные. Он был владельцем лавки, хлопкоочистительной машины, мельницы с крупорушкой и кузни – все это в самом поселке, – и местные жители считали для себя, мягко говоря, неосмотрительным делать закупки, или очищать хлопок, или дробить кукурузу, или подковывать тягло где-либо еще. Тощий как жердь и почти такой же длинный, с рыжеватой, тронутой сединой шевелюрой и усами и маленькими, колючими, яркого, невинно-голубого цвета глазками, он был похож на попечителя воскресной школы при методистской церкви, который по будням ездит на пассажирском поезде кондуктором или наоборот и который при этом владеет церковью, а может – железной дорогой, а может – и той и другой. Расчетливый и скрытный, он при этом обладал веселым нравом и раблезианским складом ума, по всей вероятности до сих пор оставаясь подверженным позывам пола (своей жене он сделал шестнадцать детей, хотя только двое из них жили дома, остальных поразбросало, кого замуж, кого в могилу, от Эль-Пасо до границы с Алабамой), и вихрастая его шевелюра, даже на седьмом десятке более рыжая, чем седая, тому порукой. Живой и энергичный, он в то же время был ленив: ничего не делал (всеми семейными предприятиями управлял сын) и посвящал этому все время, успевая выйти из дому и исчезнуть даже прежде, чем сын спустится к завтраку, и поди знай, куда старик направляется, при том что и он и старая разжиревшая белая кобыла, верхом на которой он разъезжал, могли попасться на глаза когда и где угодно на десять миль окрест, а весной, летом и ранней осенью хотя бы в месяц раз – кобыла привязана на выпасе у ближнего столба забора – любой мог видеть, как он сидит в самодельном кресле посреди лужайки, заглохшей под натиском дикого мелкокустья, в усадьбе Старого Француза. Кресло смастерил ему кузнец, до половины распилив посередине бочку из-под муки, а потом подровняв края и приколотив сиденье, и Варнер теперь посиживал в своем кресле, жуя табак или покуривая тростниковую трубку, для каждого прохожего держа в запасе острое словцо, приветливое, но без намека на приглашение к беседе, один, на фоне останков былой роскоши. Все полагали (как те, кто видел его там, так и те, кто об этом только слышал), что он в это свое уединение забирается, чтобы обдумать, как бы опять у кого-нибудь отобрать землю, лишив очередного должника права выкупа по закладной, поскольку одному лишь бродячему торговцу швейными машинками по имени Рэтлиф – человеку младше его более чем вдвое – он выдал некое подобие причины: «Люблю здесь посидеть. Все пытаюсь поставить себя на место того остолопа, которому все это вот было нужно… – он даже не шелохнулся, даже головой не повел в направлении затейливого лабиринта старых, уже сплошь проросших травой кирпичных дорожек, подымавшихся к колоннаде громадного полуразвалившегося фасада за спиной, – …которому все это нужно было, чтобы только есть там да спать». А потом добавил, так и не дав понять Рэтлифу, где под шуткой кроется зерно истины: «Одно время похоже было, что меня от всего этого избавят, растащат дочиста. Да народец-то у нас вишь какой: до того обленились, уже на лестницу не залезть, чтобы доски поотдирать, какие остались. Скорее в лес пойдут да дерево завалят – это им проще, чем глянуть выше собственного носа, где бы охапку дранки налущить на растопку. Все же, думаю, пускай как есть, так и стоит – что еще осталось. Пусть напоминает мне о моей ошибке. За всю жизнь это единственное, что купить-то я купил, а перепродать никому и не выходит».
Его сыну Джоди было уже лет тридцать – видный, цветущий мужчина с немного выпученными, вероятно из-за щитовидки, глазами, и не только не женатый, но прямо-таки источающий флюиды непреоборимого и незыблемого холостяковства, подобно тому как порой говорят, что от человека исходит дух святости или благородства. Крупный мужчина с намечающимся брюшком, которое лет через десять – пятнадцать обещало изрядно вырасти, пока что он ухитрялся выглядеть завидным кавалером. И зимою и летом, и в праздники и в будни он носил черный костюм добротного тонкого сукна (с сюртуком, правда, на время теплого сезона расставался), под которым неизменно белела рубашка без воротничка, застегнутая на шее массивной золотой запонкой. Впервые он надевал все это в день, когда костюм доставляли от джефферсонского портного, и с той поры носил его каждый день в любую погоду, пока не продавал кому-нибудь из негров, прилепившихся к дому Варнеров, заменяя следующим, так что чуть ли не в каждый воскресный вечер любой из его старых костюмов (либо целиком, либо представленный одной какой-нибудь частью) можно было встретить и тотчас же опознать на летних дорогах округа. В противоположность неизменно облаченным в комбинезоны окружающим, вид у него был не то чтобы похоронный, но торжественный, отчасти из-за присущих ему эманаций холостяковства, поэтому поглядишь на него и, несмотря на некоторую расплывчатость абриса и общую помятость, сразу видишь – вот он, неувядаемо бессмертный Первый Парень, апофеоз мужской исключительности, как порой за раздутым от водянки телом бывшего футболиста университетской команды 1909 года выпуска угадывается тень поджарого, неудержимого форварда. У родителей он из шестнадцати детей был девятым. Вел дела в лавке (номинальным владельцем которой все еще считался отец и в которой они с отцом занимались главным образом сделками по скупке просроченных закладных), на хлопкоочистителе тоже он распоряжался и за наделами арендаторов надзирал – инспектировал те разбросанные там и сям земли, которые сперва его отец, а потом оба они вместе напропалую скупали последние сорок лет.
Как-то под вечер он был в лавке, отматывал с барабана новую веревку, нарезал из нее постромки для плуга, сворачивая их и навешивая по-корабельному, аккуратными шлагами, на рядок гвоздей, вбитых в стену, и тут позади послышался стук, он обернулся и увидел в дверном проеме силуэт человека, ростом пониже среднего, в широкополой шляпе и сюртуке с чужого плеча, причем стоял этот человек со странной, прямо-таки деревянной неподвижностью.
– Ты Варнер? – сказал незнакомец голосом не то чтобы грубым, во всяком случае не намеренно грубым, а скорее как бы подзаржавевшим от редкого пользования.
– Ну, смотря который, – отозвался Джоди напористым и зычным голосом, но при этом довольно любезно. – Чем могу служить?
– Моя фамилия Сноупс. Слыхал, будто у вас сдается в аренду ферма.
– Да ну? – проговорил Варнер, становясь так, чтобы лицо пришельца оказалось повернуто к свету. – И где ж это ты такое слыхал? – Ферма была новая, только-только они с отцом ее приобрели, выкупив просроченную закладную, не прошло еще и недели, а этот ведь не из местных. Даже фамилия незнакомая.
Тот не ответил. Теперь Варнеру было видно его лицо: пара холодных, серых, матово-непроницаемых глаз под седеющими, сердито сдвинутыми бровями да короткая, стального цвета спутанная бороденка, густая и клочковатая, как овчина.
– А у тебя где раньше хозяйство было? – спросил Варнер.
– Западнее. – Краткость его ответа не означала ни резкости, ни пренебрежения. Просто это единственное слово приобрело в его устах завершенную и необратимую окончательность, словно он дверь за собой закрыл.
– В Техасе, что ли?
– Нет.
– Понятно. Просто отсюда к западу. Семья большая?
– Шестеро. – Теперь явной паузы дальше не предощущалось, но и торопливого перехода к следующему слову тоже не было. Однако высказано было не все. Это Варнер почувствовал еще прежде, чем тот же безжизненный голос завершил высказывание, казалось бы, нарочито противоречивое: – Парень и две девки. Жена и ее сестра.
– Это же только пятеро.
– И я, – сказал мертвый голос.
– Обычно хозяин не считает себя среди своих работников, – возразил Варнер. – Так вас пятеро или семеро?
– В поле могу шестерых вывести.
И опять тон Варнера не изменился, все такой же напористый, такой же любезный.
– Не знаю, стоит ли брать арендатора на этот год. Уже ведь май на носу. Я тут прикинул, может, и сам управлюсь – с поденщиками. Если вообще стану в этом году с ней возиться.
– Ну, согласен и так, – сказал пришлый.
Варнер поглядел на него.
– Абы как, лишь бы устроиться? – Ответа не последовало. Варнер даже не мог понять толком, смотрит тот на него или нет. – А платить сколько собираешься? За аренду-то.
– А сколько берешь?
– Треть и четверть, – объявил Варнер. – За провизией сюда, в лавку. Наличных не надо.
– Ясно. А потом на каждый доллар двадцать пять центов сверху.
– Правильно, – любезно согласился Варнер. Теперь он и совсем понять не мог, смотрит тот вообще куда-нибудь или нет.
– Согласен, – сказал пришлый.
Потом Варнер стоял на галерее лавки, где человек пять мужчин в комбинезонах, кто сидя, кто на корточках, пристроились со своими карманными ножами и обструганными палочками, и смотрел, как его посетитель, деревянно хромая, сошел с крыльца и, ни направо, ни налево не взглянув, выбрал среди привязанных под галереей запряженных в повозки и оседланных животных тощего незаседланного мула в драной плужной упряжи с веревочными вожжами, подвел его к ступенькам, неуклюже и деревянно на него вскарабкался и уехал, так и не поглядев ни разу по сторонам.
– Послушать, как он ногой топочет, подумаешь, что в нем сотни две фунтов, – сказал один из сидевших. – Кто таков, а, Джоди?
Варнер цыкнул зубом и сплюнул на дорогу.
– Сноупс его фамилия, – отозвался он.
– Сноупс? – удивился другой. – Надо же. Это он, стало быть. – Теперь не только Варнер, но и все остальные обернулись к говорившему – костистому человеку в линялом, но совершенно чистом, хотя и латаном комбинезоне, и даже свежевыбритому, с кротким, почти печальным выражением лица (пока не разглядишь сразу два выражения: преходящее – мирной и успокоенной неподвижности и постоянное – явной, хотя и едва проступающей усталой замотанности), а губы у него были нежные, хранившие, казалось, юношескую свежесть (пока не сообразишь, что этот человек, видимо, просто никогда в жизни не курил) – ни дать ни взять живой прообраз и олицетворение целого разряда мужчин, тех, что рано женятся, на свет производят одних дочерей и сами для своих жен не более чем старшие дочери. Звали его Талл. – Это же тот бедолага, что провел зиму со своим семейством в старом хлопковом амбаре у Айка Маккаслина. Он еще два года назад в ту историю был замешан – сарай тогда кто-то поджег у одного малого по фамилии Гаррис из округа Гренье.
– А? – вскинулся Варнер. – Что такое? Сарай поджег?
– Я разве говорю, что это его работа? – отозвался Талл. – Я говорю, он просто, похоже, в это замешан, как говорится.
– И сильно замешан?
– Гаррис добился, чтобы его арестовали и притащили в суд.
– Понятно, – сказал Варнер. – Обычное дело. Обознались слегка. Он для этого просто кого-то нанял.
– Это не доказано, – возразил Талл. – Так ли, этак ли, но если Гаррис и нашел потом какую зацепку, все одно было поздно. Его уж и след простыл. А потом, прошлой осенью, в сентябре, объявился у Маккаслина. И он и его домашние батрачили у Маккаслина поденно, на уборочной, и Маккаслин пустил их перезимовать в старом хлопковом амбаре, который у него в тот год пустовал. Вот все, что я знаю. А сплетен не пересказываю.
– Я тоже, – сказал Варнер. – Мужчине-то слава досужего сплетника не к лицу. – Он стоял над всеми, широколицый, благообразный, в официальном, хотя и замызганном черно-белом облачении: крахмальная, но засаленная белая сорочка и отвисшие на коленях неухоженные штаны – костюм одновременно торжественный и затрапезный. Коротко, но громко поцыкал зубом. – Так-так-так, – сказал он. – Сарай спалил. Так-так-так.
В тот же вечер за ужином он рассказал об этом отцу. За исключением несуразного, наполовину бревенчатого, наполовину дощатого строения, известного как гостиница миссис Литтлджон, единственным в тех местах домом, над первым этажом которого возвышался еще и второй, был дом Билла Варнера. Варнеры даже кухарку держали, которая была не только единственной прислугой-негритянкой, но и вообще единственным в тех краях человеком, находящимся у кого-либо в услужении. Она у них жила год за годом, но миссис Варнер по-прежнему не уставала повторять и сама, видимо, себя убедила в том, что кухарке нельзя доверить даже воды вскипятить без присмотра. Пока в тот вечер Джоди говорил с отцом, его мать, дородная, жизнерадостная, хлопотливая женщина, родившая шестнадцать детей, пятерых из них уже пережившая и все еще получавшая на ежегодной ярмарке призы за варенья и маринады, в запарке металась от стола на кухню и обратно, а его сестра, тихая полнотелая девочка с округлившейся уже в тринадцать лет грудью, опустив глаза, напоминавшие росистые оранжерейные виноградины, и по обыкновению чуть приоткрыв полные влажные губы, сидела за столом в мечтательно-печальном оцепенении молодой самодовлеющей женской плоти, причем чтобы не слушать, ей никаких усилий прилагать явно не требовалось.
– Ты договор с ним заключил уже? – спросил Билл Варнер.
– Даже не собирался, пока Вернон Талл не рассказал мне, что тот учинил. А теперь возьму, пожалуй, захвачу туда завтра бумагу, да пусть подпишет.
– Так, может, ты и дом ему покажешь, который спалить? Или хочешь ему на выбор оставить?
– Эт точно, – нимало не смутился Джоди. – Сейчас мы это тоже обсудим. – А потом и говорит (уже без шуток, без ложных шалопутных выпадов: удар – отбив – укол): – Все, что мне надо, это докопаться без дураков, что там с сараем. И потом, не один ли хрен, вправду это его рук дело или нет. С него хватит, если вдруг под самый сбор урожая он обнаружит, что я грешу на него. Слушай, давай вот как рассудим… – Он перегнулся через стол, набычившись, жилы вздуты, глаза выпучены. Мать только что выскочила на кухню, и оттуда слышалось, как она неугомонно и горласто распекает чернокожую кухарку. А дочь – та и вовсе не слушала. – Имеется надел земли, с которой то семейство, что им владеет, шиш чего получить собиралось, тем паче когда уже и время-то упущено. И тут появляется этот малый, арендует ферму из доли, а в тех краях, где он прежде пробавлялся, сарай спалили. Не важно, он подпалил сарай или не он, хотя проще будет, если мне удастся узнать точно, что без него там не обошлось. Главное вот что: сарай сгорел, пока он по соседству околачивался, и улик хватило, чтобы он почуял жареное и удрал. И вот он появляется и арендует эту землю, с которой мы всяко шиш чего получить собирались, по малой мере об этот год, и мы его довольствуем через лавку, все честь по чести. Он снимает урожай, и хозяин земли продает его, чин чином, деньги наготове, и арендатор приходит за своей долей, а хозяин ему и говорит: «А ну-ка, что это там поговаривают про тебя да про тот сарай?» И все. Только и забот. Что, дескать, там такое поговаривают про тебя да про тот сарай? – Отец и сын глядели друг на друга глаза в глаза – слегка выпученные, темные, без блеска у одного и голубые, маленькие и колючие у другого. – Что он на это скажет? Что ему остается, кроме как «Ладно, ваша взяла».
– Ну, а твой счет – в лавке-то, за провизию – поминай как звали?
– Эт точно. Тут на кривой не объедешь. Но, слушай-ка, худо-бедно человек просто так, за здорово живешь растит тебе урожай – это же стоит того, чтобы хоть покормить его, пока он работает… Обожди-ка. – Джоди помедлил, соображая. – Прах тебя дери, мы даже без этого обойдемся: он у меня пару трухлявых дранок на своем пороге найдет, да на них накрест спичку – как раз наутро после того, как с Божьей помощью управится с окучиванием, – и ему уже ясно: пиши пропало, пора уносить ноги. Это снимает со счета за провиант месяца два, а нам всего-то и хлопот, что принанять кого-нибудь урожай собрать. – Глаза в глаза они глядели друг на друга. Для одного из них дело было, что называется, в шляпе, он уже видел воочию результаты и говорил так уверенно, словно прошло уже по меньшей мере полгода. – Прах подери, ему и деваться некуда! Не огрызнется даже! Не посмеет!
– Гм, – произнес папаша. Из кармана незастегнутого жилета он достал прокуренную тростниковую трубку и принялся набивать ее. – Ты бы от таких лучше подальше держался.
– Оно конечно, – отозвался Джоди. Он взял из фарфоровой подставки на столе зубочистку и снова уселся. – Да ведь нехорошо же – сараи-то поджигать. А коли завелась у кого дурная привычка, будь любезен за нее и поплатиться.
Ни на следующий день он не пошел никуда, ни через день. Но на третий день, едва солнце к закату, оставив своего чалого дожидаться на привязи у одного из столбов галереи, он сидел в задней комнате лавки за шведской конторкой (выдвижная ее крышка целиком убиралась в заднюю стенку, открывая столешницу) – сгорбившись, черная шляпа на затылке, одна здоровенная, поросшая черными волосами ручища, тяжелая и неподвижная, как копченый окорок, придерживает бумагу, в другой перо, – сидел и выводил своим крупным, неспешным и развалистым почерком слова контракта. Через час, с подсушенным и аккуратно сложенным контрактом в заднем кармане, уже в пяти милях от поселка он осаживал коня рядом с остановившейся посреди дороги бричкой. Немилосердной своей участью потрепанная и облепленная засохшей, еще зимней грязью, она была запряжена парой лохматых лошадок, на вид таких же звероватых и необузданных, как горные козлы, и почти таких же низкорослых. В задок к ней был прилажен ящик из листового железа, размерами и формой вроде собачьей конуры, но разрисованный под сельский домик, с окошками, причем в каждом нарисованном оконце красовалась нарисованная женская головка, с бессмысленной ухмылкой склоненная над нарисованной швейной машинкой, – но вот конь стал, и Варнер с возмущенным и растерянным видом уставился на седока брички, который только что с невинной улыбкой, как бы между прочим, осведомился: «А что, Джоди, говорят, у тебя новый арендатор?»
– Прах тебя дери! – взвился Джоди. – Да не хочешь ли ты сказать, что он и еще что-нибудь спалил? Попался, и после этого – опять?
– Ну, – слегка замялся человек в бричке, – не знаю, ручаться бы не стал – тот ли он сарай поджег, другой ли, а может – и ни одного. Штука тут в том, что оба они загорелись, когда он более или менее поблизости болтался. Можно подумать, пожары тащатся за ним по пятам, как за другими собаки. – Он говорил мягко, с ленцой, ровным тоном – не сразу и заметишь, что проницательности в его голосе даже побольше было, чем насмешки. Это был Рэтлиф, агент по продаже швейных машинок. Он жил в Джефферсоне, но колесил на своих кряжистых лошадках вдоль и поперек по четырем округам, везде таская за собой размалеванную собачью конуру, в которую как раз помещалась настоящая машинка. Потрепанная и замызганная, его бричка сегодня тут попадется, а завтра где-нибудь за два округа – крепкие разномастные лошадки пасутся себе на привязи в ближнем тенечке, а сам Рэтлиф, с его привлекательной, добродушно-понятливой физиономией, уже сидит в чистой синей рубахе с расстегнутым воротом среди мужчин, расположившихся на корточках у какой-нибудь придорожной лавки, либо в обществе женщин, среди провисших бельевых веревок, корыт и закопченных котлов для кипячения у ручья или колодца (все так же на корточках и все так же, по видимости, больше всех болтая, но на самом деле еще больше прислушиваясь, а насколько больше – это только впоследствии выяснялось), или на веранде домика, сидит себе уже благопристойно, в плетеном кресле – вежливый, приветливый, обходительный, остроумный и непроницаемый. Продавал он от силы машинки три в год, остальное время приторговывал землей и скотиной, подержанным хозяйственным инвентарем и музыкальными инструментами – в общем, всем, от чего хозяин не прочь избавиться, а заодно, вездесущий, как газета, разносил от дома к дому новости, с четырех округов собранные, да передавал из уст в уста кому какие надо поручения касательно свадеб и похорон, солений и варений, надежный, как почтовое ведомство. Никогда ни о ком не забудет, а знает всех – не то что людей, а каждого мула и собаку в окружности полусотни миль.
– Право слово, огонь будто по пятам бежал за его фургоном, покуда этот Сноупс ехал к дому, в который его де Спейн пустил – барахло на возу навалено так, словно у Гарриса – или где они там раньше жили – он только во двор фургон загнал да приказал всем этим котлам и кастрюлям: «Грузитесь!» – и тотчас кровати, стулья, печка и все прочее своим ходом в фургон попрыгали. Вроде и кое-как, а с толком, сноровисто, плотно, будто им это дело привычное – переезжать, да без всякой сторонней помощи. И этому Эбу, и сыну его, который постарше, Флем они его называли… Был у них и еще один, маленький такой, где-то я, помнится, его однажды видел. Вот его с ними не было. Теперь-то уж точно нет. Не иначе как забыли его покликать, чтобы вовремя, значит, из того сарая убрался. Ну так вот, Эб с Флемом на козлах сидят, а две девки здоровенные поставили на пол фургона стулья – и на стульях, а Сноупсова супруга и сестра ее вдовая – те сзади, на барахле, и всем будто наплевать на них – едут ли, нет ли, да и на мебель тоже. Ну, к дому подъехали, стали, Эб глянул на него и говорит: «В такой развалюхе я бы и свиней не поселил».
Осаживая коня, Варнер в бессловесном ужасе пучил глаза на Рэтлифа.
– Ну так вот, – продолжал Рэтлиф. – Только фургон стал, Сноупсова жена и эта вдовица вылезли и принялись разгружаться. А те две девки сидят себе на своих стульях, обе в праздничных платьях, не шелохнутся, знай сладенькой смолкой чавкают, покуда Эб, обернувшись, не прикрикнул на них, чтоб шли туда, где миссис Сноупс и ее сестрица с железной печкой в обнимку барахтаются. Шуганул он их (будто пару телок, которых колом бы треснуть, да жаль, все же деньги плачены), а сами сидят с Флемом, наблюдают, а эти девки, кровь с молоком, взяли в фургоне одна фонарь, другая веник, весь размочаленный, и опять стоят, но тут уж Эб с козел свесился да как щелкнет ту, что поближе, вожжой поперек зада. «А ну, – рявкнул, – шевелись, живо в дом, а после подсобишь мамане с печкой». Потом с Флемом вместе слезли и пошли проведать де Спейна.
– И прямо к тому сараю? – не удержался Варнер. – Прямо так сразу пошли и…
– Нет, нет. Это потом. С сараем это потом. Похоже, тогда-то они еще знать не знали, где и сарай стоит. Сарай сгорел, когда время пришло, все в свой черед, этого у Эба не отнимешь. А тогда они просто де Спейна проведать зашли, чисто по-дружески: ясно ведь, где поле, и ясно, что надо там начинать ковыряться – все же середина мая. Прямо как сейчас, – добавил он с ангельски невинным видом. – Потом, опять же, ходит слушок, будто он всегда свои арендные контракты заключает позже всех. – Сказал и даже не усмехнулся. Та же лукавая смуглая физиономия, приветливая и непроницаемая, и те же лукавые невозмутимые глаза.
– Короче! – нетерпеливо перебил Варнер. – Если он поджигает, как ты рассказываешь, то мне аж до Рождества не о чем волноваться. Ближе к делу. Что ему надо, чтобы начать чиркать спичками? Может, какие признаки вовремя угадать удастся.
– Ну так вот, – продолжал Рэтлиф. – Вышли они на дорогу – покуда миссис Сноупс и вдовица с печкой барахтаются, а девки стоят-прохлаждаются, одна с проволочной крысоловкой, другая с ночным горшком – и отправились к дому майора де Спейна, да не абы как, а свернули по боковой дорожке, где та куча навоза лежала, конского, да еще нигер говорит, будто Эб в нее нарочно вляпался. Кто его знает, может, нигер в окошко за ними следил. В общем, Эб проволок за собой это дело через все крыльцо, стучится, а когда нигер сказал ему, чтоб вытер ноги, Эб отпихнул его да и вытер (по словам того нигера) все, что еще оставалось, о стодолларовый ковер, стал посредине и орет: «Де Спейн! Эй! Де Спейн!» – пока жена де Спейна не вышла, на ковер посмотрела, потом на Эба и, не говоря худого слова, велела ему выйти вон. Тут и де Спейн пришел к обеду, и я так понимаю, что миссис де Спейн ему в загривок вцепилась, потому что и свечереть не успело, как он уже подъезжает к Эбову дому, и следом на муле нигер, ковер везет, а Эб сидит на табурете, косяк подпирает, и тут де Спейн ему: «Какого дьявола ты не в поле?» – а Эб говорит (не встал, ни чтоб даже зад оторвать): «Ну, может, завтра начну. У меня такого в заводе нет, чтобы переехать и в тот же день начинать горбатить», а тот вроде как не слышит: я так понимаю, миссис де Спейн здорово ему на загривок села, потому что он прямо окоченел там на лошади, только все повторяет: «Ну зараза, Сноупс, ну зараза», а Эб сидя отвечает: «Если б я так заботился о ковре, уж и не знаю, стал бы я его класть туда, где каждый кто ни попадя того и гляди натопчет».