Романовы: тайная жизнь царской семьи. Великая любовь, неравный брак и загадка заспиртованной головы
Tekst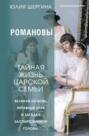


Mine üle audioraamatule
- Maht: 190 lk.
- Žanr: Biograafiad ja memuaarid, Ajalooline kirjandus, populaarne ajalugu
Несостоявшаяся императрица Наталья Алексеевна
Удивительно, какие домашние перипетии могут быть в семьях самых влиятельных людей своего времени. Проходят целые века, но проблемы во взаимоотношениях свекровей и невесток остаются прежними. Так вышло и в семье императрицы Екатерины Великой. Если изначально она описывала первую супругу своего сына Павла как кроткую и любезную девушку, то позже царица настолько разочаровалась в ней, что уже не могла скрыть своих эмоций. Великая княгиня Наталья Алексеевна, урожденная принцесса Вильгельмина Луиза Гессен-Дармштадтская, казалась и свекрови, и ее окружению крайне взбалмошной, не любящей своего мужа и не прилагающей никаких усилий, чтобы заговорить на русском языке и выучить традиции своей новой страны. Что же произошло в этой семье? Как княгиня прошла путь от обожания мужем и свекровью до презрения ими же?
Но обо всем по порядку.
Принцесса Вильгельмина, которую описывали как прелестную блондинку, родилась в Гессен-Дармштадте. Как почти в любом немецком княжестве, ландграфы не имели ни реальной сильной власти, ни тем более богатств. Однако ценность их, которую подметил еще российский император Петр Великий, была в принцессах, с которыми мужчины из семьи Романовых могли заключать выгодные династические браки, – у немецких принцесс была отличная родословная, а поэтому и связь с передовыми монархиями.
Так было и в семье ландграфа Людвига IX Гессен-Дармштадтского и его первой супруги, принцессы Каролины Цвейбрюкен-Биркенфельдской. Ландграфиня состояла в переписке с Фридрихом II, королем Пруссии, а на родине оказывала большое влияние на политику. У Людвига и Каролины была многодетная семья, а сами они были очень образованными людьми. Ко двору всегда приглашались философы, поэты, музыканты. Ландграфиня покровительствовала Гете и Гердеру.
Подрастали в семье три принцессы – Амалия-Фредерика, Вильгельмина и Луиза. Современники замечали, что средняя девочка очень умная, пылкая, всем интересовалась и во все вникала. Но одновременно отмечали и вспыльчивый характер принцессы. В детстве с Вильгельминой произошло несчастье – девочка упала с лестницы и повредила спину. Врачи советовали больше двигаться и чаще совершать пешие прогулки. Это не всегда помогало – спина все равно болела.
Когда принцессе исполнилось семнадцать лет, в далекой России начали искать невесту для цесаревича Павла. Как и обычно, из разных концов Европы советники отбирали принцесс и ко двору доставляли портреты. Активизировался и Фридрих II, желая пристроить одну из гессенских принцесс, что позволило бы ему держать в России своего человека. В идеальном для него варианте было бы замечательно, если бы наследник прусского престола, его племянник, и российский наследник Павел женились бы на родных сестрах. Портреты принцесс и их описания были отправлены в Россию.
Портрет Вильгельмины пришелся по вкусу и императрице, и жениху. Павлу Петровичу уже тогда казалось, что у девушки не может быть никаких недостатков. Екатерина же была настроена более рационально. В письме к посланнику, который занимался поисками невесты, господину Ассебургу, императрица писала, что «совершенства, как мне известно, в мире не существует». Нужна была личная встреча, которую назначили на лето 1773 года.
Ландграфиню Каролину вместе с дочерьми пригласили в Россию. Всю поездку оплатила императрица. Корабль с принцессами поручили сопровождать близкому другу Павла Петровича, графу Андрею Разумовскому. Неизвестно доподлинно, действительно ли между Вильгельминой и молодым графом тогда завязались отношения, которые вскрылись уже после смерти принцессы. Многим петербургским красавицам он разбивал сердца: красивый, обаятельный, всегда с иголочки одетый (порой для этого он влезал в огромные долги).
Сопровождающим фрегаты Екатериной Второй было дано указание – отмечать любые особенности характера, манер и поведения принцесс. Ландграфиня же с девушками тоже должны были провести серьезную работу – выучить указания российской самодержицы о том, как они должны себя вести, если кто-то из них станет великой княгиней. Например, отмечалось, что нельзя слушать сплетни и наветы, копить долги, а на людях нужно держаться с достоинством; развлечения выбирать согласно статусу, больше читать и заниматься музыкой.
15 июня фрегаты прибыли в Ревель, где их встретил фаворит императрицы граф Орлов. Он пообещал, что за обедом гостьи познакомятся с придворными дамами. Однако каково было удивление ландграфини и ее дочерей, когда пожаловала сама Екатерина! Это было нарушением всех согласованных графиков, но императрица пожелала познакомиться с прибывшими немками в спокойной неформальной обстановке. Гостьи ей понравились: ландграфиня была интересной собеседницей с «большими достоинствами», а все три принцессы оказались милыми девушками. Старшая, Амалия, произвела впечатление слишком скромной, младшая, Луиза, – очень умной. В Вильгельмине же императрица отметила и красоту, и ум. Конечно, она не забыла наблюдения своего посланника, который писал о честолюбии, склонности к интригам и амбициозности, но дело оставалось за Павлом.
И он был очарован принцессой.
Цесаревича, конечно, понять можно – в прелестной Вильгельмине он видел возможность обрести верную спутницу; семью, которой ему так не хватало. Как известно, цесаревич чувствовал себя очень одиноким, с матерью отношения не складывались. Ему нужен был близкий человек.
В столице шла череда балов и маскарадов в честь прибывших гостей. Наконец через два месяца официальный выбор был сделан: принцессу Вильгельмину выбрали в жены для Павла Петровича. После этого она принялась изучать основы православия, а 15 августа приняла его под именем Натальи Алексеевны. На следующий день всем было объявлено о помолвке. Свадьбу назначили на конец сентября.
Павел не отходил от своей нареченной, а будущая свекровь одаривала ее драгоценностями: бриллиантовое ожерелье, кольцо и серьги в честь помолвки, ожерелья из изумрудов и бриллиантов, серьги и подвески позже. Сестры Натальи Алексеевны тоже не были обделены – всем вручили Орден святой Екатерины, который считался высшей наградой для женщин в Российской империи.
Гуляния в честь свадьбы продолжались целый месяц. В день бракосочетания невесту облачили в наряд такой пышности, какой она ранее и не представляла – парчовое платье было усыпано бриллиантами. Блистала и самодержица, одетая в платье из атласа и горностаевую мантию. Гуляния проводились как для аристократии, так и для простого народа. После них мать и сестры Натальи отбыли домой, а у цесаревича с женой началась семейная жизнь.
Все замечали, как Павел Петрович, ранее замкнутый, так походивший на отца, преобразился. Он не оставлял свою жену, проявлял внимание и ухаживал за ней. Только вот Наталья Алексеевна очень холодно принимала ухаживания мужа. Был ли в ее сердце Разумовский или она просто не полюбила Павла? Так или иначе, в своих письмах отцу она даже словом не упоминала о своем супруге или своих чувствах к нему. Заметили это и окружающие – казалось, что княгиня просто терпит цесаревича.
В чем она нашла отдушину, так это в балах и танцах. Она веселилась, порой избегая компании мужа. А вот компания Андрея Разумовского ей нравилась. К слову, еще с юношеских времен покои графа располагались рядом с покоями цесаревича. Тем временем в окружение Натальи попали люди, видевшие Павла императором. Да и сама княгиня, впитавшая много свободных и просвещенных мыслей еще с юности, стала говорить об освобождении крестьян, свержении императрицы и даже самого Павла. Ей казалось, что раз когда-то ее свекровь смогла занять трон, то чем же она хуже?
Несмотря на ходившие слухи, сначала Екатерина Великая старалась помочь невестке. Все еще были свежи воспоминания, как когда-то она сама приехала в Россию и не нашла здесь поддержки. Но постепенно княгиня Наталья начала раздражать свекровь: русский язык она учить не хотела и так и не выучила за полтора года, много времени проводила в празднествах. Нелестными были и донесения о мыслях невестки, которые та неосторожно высказывала вслух. К тому же вот уже два года у пары не получалось выполнить свой долг – родить наследника. А именно это – первостепенная задача любой великой княгини.
Императрица стала зорко следить за женой Павла Петровича. У княгини оказались большие долги, хотя ей было выделено приличное содержание. Нередко она занимала деньги у придворных, о чем те, конечно же, шептались за спиной. Поговаривали, что были даже иностранные займы. Отношения между княгиней и императрицей стали настолько холодными, что Екатерина даже намекнула сыну о связи между его лучшим другом и женой.
Павел призвал жену к ответу. Наталья Алексеевна объяснила ему, что между ней и Разумовским нет абсолютно ничего, кроме дружбы, а императрица ее ненавидит. У цесаревича был выбор – поверить матери, к которой у него никогда не было теплых чувств и привязанностей, или любимой жене, в которой он души не чаял. Конечно же, в итоге Наталья была обелена.
Лед в отношениях венценосной свекрови и ее невестки тронулся лишь два года спустя, когда пара объявила о том, что Наталья ждет ребенка. Императрица Екатерина была счастлива – она очень хотела внуков и уже тогда рассматривала идею забрать ребенка на воспитание себе, чтобы вырастить так, как нужно было ей.
Беременность протекала тяжело. Современные врачи и исследователи говорят, что княгине вообще нельзя было беременеть. Та самая травма спины, которая усугубилась ношением жесткого корсета, не давала возможности родить естественным путем. Роды были сложными и продолжались целых пять дней. Княгиня за это время потеряла все силы. Императрица же не отходила от роженицы, по сути, став сиделкой и контролируя каждый шаг врачей. Все их усилия были тщетными, и помочь княгине было невозможно. Сперва в утробе умер младенец, а затем скончалась и сама Наталья Алексеевна.
Ходили слухи, что Екатерина запретила применять щипцы и специально хотела убить строптивую невестку. Позже, когда появились точные исследования, выяснилось, что щипцы бы не помогли: у врачей того времени не было опыта в сложных операциях, а таз княгини был слишком узким, чтобы младенец появился на свет.
Узнав о гибели и сына, и жены, Павел Петрович был неутешен, он не мог есть и пить. Чтобы унять опустошающую горечь сына, хоть как-то привести его в чувство, Екатерина решила отдать все найденные письма княгини Натальи Алексеевны к графу Разумовскому. В переписке были все доказательства того, что обожаемая Павлом супруга изменяла ему с его же лучшим другом. Два ближайших человека, которым так доверял цесаревич, предали его. Бывшего друга сначала укрывала сестра в своем имении, затем императрица приказала выслать Андрея Разумовского из столицы, направив на службу в Неаполь, а потом в Швецию и Австрию. Кстати, службой графа Екатерина была очень довольна – он проявил себя с хорошей стороны, многое делая для укрепления престижа России.
В любовь после предательства будущий император Павел Первый не верил. Еще сильнее стали проявляться подозрительность и недоверие ко всем и вся, унаследованные им от отца. Эти качества впоследствии будут большой проблемой как для самого Павла, так и его окружения и близких.
Для него была найдена новая невеста, опять немецкая принцесса, которую звали София Доротея Вюртембергская. Когда-то ее кандидатура очень понравилась Екатерине Великой, но девушка была слишком юна для брака. Сам же Павел теперь был равнодушен к тому, кто станет его женой. Для будущей новой княгини он представил целый список того, что она никогда не должна была нарушать. Это были четырнадцать правил касаемо отношения к религии, окружающим, русскому языку, обращения с мужем, денег, образа жизни. Особенно оговаривалось, что княгиня никогда не должна вмешиваться в те дела, которые ее не касаются, участвовать в обсуждениях мужа и слушать чьи-то советы, кроме его. Этот перечень Павел Петрович вручил принцессе Софии, которая в православии стала называться Марией Федоровной, перед ее согласием на приезд в Россию.
Принцесса, хоть и удивилась такой скрупулезности, спокойно приняла список. Позднее она отмечала, что понимала, по какой причине он ей был представлен и как это было важно для ее супруга.
Брак Павла Петровича и Марии Федоровны оказался удачным. Цесаревич, а позднее император очень ценил свою жену. К тому же именно благодаря Марии Федоровне древо Романовых обросло ветвями – она родила десять детей, из которых только одна дочь, Ольга, умерла в детстве. Печальную страницу первого брака Павел Петрович перевернул, однако никого в жизни он больше не допускал так близко.
Любовь или престол
Великий князь Константин Павлович и Жанетта Грудзинская
Поразительно, как один и тот же человек может быть абсолютно разным в любовных отношениях. Великий князь Константин Павлович, второй сын императора Павла I и императрицы Марии Федоровны, был очень неприятным мужем для своей первой супруги Анны. Княгине даже пришлось бежать из страны, чтобы прекратить издевательства над собой. Однако второй брак, из-за которого князю пришлось отказаться от престола, разительно отличался.
Детство и юность Константина прошли под контролем бабушки, императрицы Екатерины Великой. Практически сразу после родов невестки Марии Федоровны самодержица забирала себе на воспитание внуков – старшего Александра, которого планировала сделать своим наследником в обход законного Павла Петровича, и затем Константина, который пригодился бы в осуществлении плана по возрождению Константинополя. Князей воспитывали лучшие учителя того времени, а Екатерина строго следила за их успехами. Она же выбрала и невест для внуков. Старшему предназначалась принцесса Луиза Баденская, ставшая в России Елизаветой Алексеевной. Константин Павлович же обручился с Юлианной Саксен-Кобург-Заальфельдской, которая приняла православие под именем великой княгини Анны Федоровны.
Но брак, заключенный в 1796 году, оказался пыткой для принцессы. Молодые супруги: князю было семнадцать лет, а княгине только исполнилось пятнадцать, – оказались совершенно разными. Константин Павлович имел вздорный и грубый характер, а перепады его настроения не могли не затронуть жену. Комплименты и нежные слова могли резко смениться гневом и ревностью. Последняя стала сильно проявляться, когда окружающие стали считать Анну украшением двора. Князь ревновал княгиню даже к старшему брату, высказывая свое недовольство именно ей. Супруги жили в Мраморном дворце, и слуги передавали друг другу рассказы о страшных сценах, свидетелями которых они становились. Так, к примеру, все общество судачило о случае, когда князь посадил Анну Федоровну в большую напольную вазу и начал стрелять по ней. Единственными заступниками княгини стали Александр Павлович с женой Елизаветой, которые не раз пытались говорить с Константином. Императрица и цесаревич Павел Петрович ничего в этом отношении не делали. Мария Федоровна, не любившая старших невесток, так вообще не упускала случая, чтобы уколоть обеих.
Анну Федоровну спасали частые отъезды мужа на военную службу, которую он обожал. Со временем у нее созрел план – сбежать из России к себе на родину и, в лучшем случае, развестись. В 1801 году после воцарения Александра Павловича заболела мать Анны Федоровны. Так как царственная чета дружила с княгиней и сочувствовала ей, император разрешил поездку в Кобург. Анна Федоровна добралась до родителей и отправила письмо, в котором сообщила, что в Россию она больше не вернется и требует развода. Константин Павлович был не против, однако его мать, вдовствующая императрица, настояла на том, что развод сильно ударит по репутации Романовых. Дело отложили «в долгий ящик».
Тем временем князь стал наследником престола, так как у Александра I и Елизаветы Алексеевны единственная на тот момент дочь Мария умерла в младенчестве (вторую дочь, Елизавету, родившуюся в 1806 году, постигнет та же печальная участь). Конечно, император и императрица были молоды и могли завести наследника, однако вопрос с порядком наследования на тот момент был решен таким образом. Князя Константина Павловича очень привлекала военная служба – он не раз проявлял себя не только в командовании, но и на поле боя. К политике же никакого интереса у него не было, однако время шло, и вопрос о привлечении Константина к политическим делам встал остро. Решение было найдено в связи с присоединением Польши к Российской империи.
Теперь это было Царство Польское, в котором императору нужны были свои люди. Так и совместили политику с военной стезей великого князя – Константин Павлович стал главнокомандующим польской армии и начал ее модернизировать.
Постепенно Царство Польское стало возвращать свой прежний блеск после Наполеоновских войн. В столице обосновалось дворянство, балы перестали быть редкостью. К слову, к этому времени великий князь не жил бобылем. Во-первых, во время заграничных походов он навестил свою супругу Анну Федоровну. Конечно, после всего произошедшего в этом браке сам Константин навряд ли стал бы инициатором поездки. На этом настоял император, надеявшийся на примирение брата с женой, однако этого не произошло – Анна Федоровна по-прежнему требовала развода (который наконец и получила в 1820 году). Во-вторых, еще с 1807 года великий князь состоял в отношениях с фавориткой Жанеттой Фридерикс, которая родила ему сына Павла. Правда, слухи об отцовстве мальчика ходили разнообразные, но великий князь поселил женщину с сыном в своем дворце в Стрельне.
Жанетта и Павел Константинович поехали вслед за Константином в Варшаву, и князь надеялся жениться на фаворитке, но этого ему сделать не позволяли. Максимум, который она получила, – дворянский титул и имя Ульяны Михайловны Александровой. В Польше она занималась благотворительностью и воспитывала сына, но Константин Павлович стал отдаляться. На одном из балов сердце великого князя пленила «прекрасная Ундина», как ее прозвали окружающие, – двадцатилетняя графиня Жанетта Грудзинская.
Красота девушки передалась ей от матери, которая слыла одной из первых красавиц Польши. Вот такое описание оставил о молодой графине поэт Вяземский: «Она не была красавицей, но была красивее всякой красавицы. Белокурые, струистые и густые кудри ее, голубые выразительные глаза, улыбка умная и приветливая, голос мягкий, звучный, стан гибкий и какая-то облекающая ее нравственная свежесть и чистота» [13]. Обратил свое внимание на девушку и великий князь, однако долгое время держал свою влюбленность в секрете – очень ревнивой была фаворитка Жанетта, и Константин Павлович всерьез опасался последствий, если она узнает о романе, который оставался платоническим.
Великий князь стал часто бывать в доме матери Жанетты. Девушка на протяжении долгого времени не давала пищи для злых языков Варшавы, дорогие подарки князя никогда не демонстрировала, но и на роль любовницы не соглашалась. К Жанетте Константин Павлович относился совсем иначе, чем когда-то к своей жене или даже к Жозефине. Графиню отличала простота и сдержанность, она была в меру религиозна и никогда не вмешивалась в политику. Она могла сдерживать горячий пыл князя, и это замечали все вокруг. Константин Павлович настолько ценил эти отношения, что решил добиться развода с официальной женой во что бы то ни стало. Наконец в 1820 году брак был расторгнут. Теперь Константину ничто не мешало жениться на возлюбленной, хотя он понимал, что такой неравный брак лишит его претензий на престол.
Видя, как изменился великий князь рядом с Жанеттой, император Александр I разрешил брату жениться. Более того, он очень уважал графиню за ее характер и всячески старался поддерживать. В мае 1820 года Константин и Жанетта тайно обвенчались: сначала в православной церкви, а затем по католическому обряду. Несмотря на разницу в возрасте (на момент венчания ей было двадцать пять, а ему – сорок один год), великий князь заявлял: «Я счастлив в своем семейном быту, наслаждаясь глубоким спокойствием благодаря жене».
Но не всегда их счастье было тихим и спокойным. Прямой и порой жесткий князь не исключил из окружения свою бывшую пассию Фридерикс, которая вела себя неуважительно по отношению к Жанетте, получившей титул княгини Лович. Скандалы и истерики Фридерикс (уже замужней дамы, между прочим) не давали покоя молодой жене князя. Наконец все разрешил император – он выслал из Польши соперницу своей невестки. После ее отъезда в семье воцарился мир.
Их брак продлился одиннадцать лет. За это время Константин Павлович стал наместником Царства Польского, однако его супруга никогда не вмешивалась в политические дела. Пара очень мечтала о ребенке, но забеременеть Жанетта не смогла. В 1830 году супруги смогли спастись во время восстания. Великий князь командовал русским корпусом, но к 1831 году в армии произошла эпидемия холеры. Скончался не только главнокомандующий войсками, но заболел и сам Константин Павлович.
Болезнь очень быстро прогрессировала. Спустя примерно две недели, в июне 1831 года, великий князь скончался в Витебске. Смерть любимого мужа подкосила княгиню Лович. Во время похорон она отрезала свои белокурые волосы и положила под подушку в гроб. Окружающие замечали, что из нее будто ушла жизнь. Княгиня Лович пережила супруга всего на четыре месяца.
