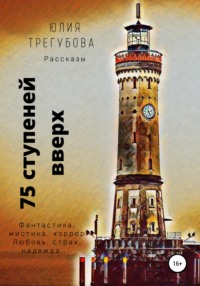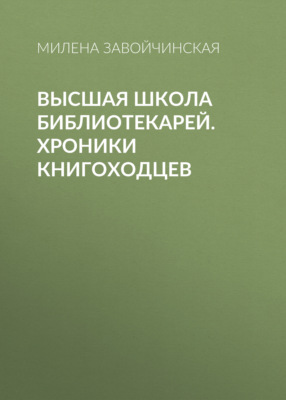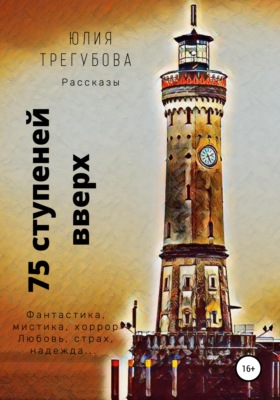Loe raamatut: «Семьдесят пять ступеней вверх. Сборник рассказов»
Семьдесят пять ступеней вверх

Вчера Фимыч ещё как-то уговорил дряхленький прибор, под которым значилась длинноволновая радиостанция – единственная связующая ниточка с большим берегом, получить метеосводку. А сегодня жестяная банка с гордым названием заартачилась – работать не хотела.
Стальные волны с силой ударялись об острые клыки скал. Штормило. Уже который день видимость нулевая, холодной стеной надвигался с Тихого океана циклон.
Подгоняемые ветром капли проливного дождя тарабанили о крышу скромного жилища – небольшое деревянное сооружение, пара комнат, печка, лежак. Маяк рядом, дизельная, а больше-то и не надо ничего. На криво загнанном в стену гвозде за длинную цепь с крупными звеньями подвешен массивный серебряный крест. Из-под толстого слоя пыли выступала на нём угловатая фигура Христа, склонившего в печали голову. Покинутый всеми и вечно распинаемый на ржавом гвозде сын Божий давно уж забыл тепло человеческих рук. Как и остывшая много лет назад лампада, что изо дня в день смотрела чёрным засохшим фитильком в мутно-серую даль непогоды с узкого подоконника.
На подходе к проливу в беснующейся водяной мгле Охотского моря рыболовный траулер жадно ловил луч маяка. Но тот, вздрогнув, словно в предсмертной судороге, исчез за последним шквалом штормовой волны…
Фимыч завидел из окна своей каморки, что больше свет не прорезает плотную ливневую завесу. Затянул в хвост на затылке побелевшие куцые пряди, поправил выцветшую фотографию с улыбающимся на ней морячком. Задержался взглядом, словно запечатлевая уже на сто рядов заученные и выточенные в памяти черты – всё такой же задорный взгляд, на лбу бескозырка, только контуры смазались, краски побледнели. Но лицо от этого словно помолодело, разгладилось и ещё больше светилось изнутри жизненной силой. Фимыч смахнул осевшую пыль и пробормотал что-то под нос, словно прощаясь, пригладил седую бороду и зашагал к выходу.
Холодным шквалом ударило в бок, и Фимыч не удержался, повалился наземь, крепко приложившись грудью о булыжник. Боль сковала левое подреберье. Кряхтя, он поднялся, взглянул на вышку маяка – нет огня. Идти надо. Раньше у Фимыча был помощник, но надолго его не хватило – не каждый выдержит такую жизнь. Да и притереться двум взрослым людям под одной прохудившейся крышей не так-то и легко. Так что привык Фимыч справляться в одиночку. Маяк для него – живое существо, с ним обращаться уметь надо, контакт наладить, с любовью, лаской, где подлечить, а где и уговорить.
Добравшись до цоколя, Фимыч подошёл к лестнице. Но не успел он занести ногу над первой ступенькой, как горячие тиски обхватили грудь. Ноги подкосились. Промёрзший пол встал на дыбы, тупым ударом обожгло щеку. Семьдесят пять ступеней сливались в уходящую ввысь спираль, лентой обвивали ствол башни до самой маячной комнаты. Боль растекалась огненной лавой в левом подреберье, губы безуспешно хватали воздух. Фимыч пытался встать. Там, наверху, святая святых – фонарный отсек.
Капитан траулера отчаянно сжимал пальцами бинокль, впивался глазами в слепые окуляры. Волны разбивались о борт корабля, разлетались на тысячу мелких брызг и снова соединялись в полёте, подхваченные ветром. Всё сливалось в едином буйстве, перемешивалось в сумасшедшем танце, вода взмывала вверх, ветер устремлялся в морские глубины, и лишь долгожданный луч мог прочертить грань между небом и водой – тонкую полосу горизонта, осветить путь. Но непроглядной оставалась ночная даль.
Щека онемела, с трудом отдиралась от ледяного пола густая борода, крепко схваченная за несколько минут морозом. Пошатываясь, Фимыч встал на ноги. Винтовая лестница расплывалась в глазах, словно рябью покрывалась от брошенного камешка гладь воды. Ступенька, ещё одна ступенька – огрубевшими от долгой работы на ветру и холоде пальцами Фимыч опирался о шершавую стену. Зажечь огонь, чтобы не случилось снова… Он не мог допустить повторения той трагедии, не мог остаться лежать на промёрзшем полу. Всего семьдесят пять ступеней вверх.
Третья ступень, и на него смотрит не с пожелтевшего снимка, а вживую, глаза в глаза, молодой паренёк – сын. Всё тем же задорным взглядом. Они прощаются, отцовские пальцы осеняют юношу крестом – благословение в путь. Молебен отслужен – Господь сохранит.
Ветер бьётся в окна. Над головой слабая рама не выдерживает натиска и вылетает, осыпая градом мелких осколков крутые ступени. Фимыч карабкается вверх, хватаясь занемевшими пальцами за покатые края, стекло врезается в плоть. Но смотритель не останавливается – ступень, ещё ступень: восьмая, десятая. Багряными отпечатками ладоней отмечена пройденная высота. Тёплая кровь сочится, пуская тоненькое облако пара в студёный воздух, словно последний вздох, словно дыхание уходит с каждой алой каплей.
Двадцатая ступень. Жена открывает дверь – на пороге статный мужчина в чёрной форме, рукава золотом отделаны. Две звёздочки поблескивают на погонах – капитан второго ранга, сам пожаловал. Фуражка прижата к груди, взгляд серьёзный, строгий. Входит, ничего не говорит. Жена всё понимает, материнскому сердцу слова не нужны – не сохранил…
Ещё пятьдесят ступеней вверх, ещё есть надежда. А там, в сером море несётся на скалы рыболовный траулер, который потерял ориентир. Так же, как когда-то под проливным дождём не разглядел огонь маяка корабль военно-морского флота.
Двадцать пятая ступень. Фимыч вспоминает, как видел тогда по ночам подброшенный волною корабль, зубастую пасть скалы и родную, полную жизни, улыбку. Тело не нашли, значит, и оплакивать нельзя, нельзя сдаваться. Может быть, именно сейчас его сын где-то там, в пенной синеве шторма, ищет спасительный луч маяка?
Пальцы не гнутся. Коричневой коркой покрылись раны. Тридцатая ступень, и нет больше сил… Нет больше сил смотреть, как увядает жена. После горькой вести она слегла и больше не встала, не оправилась. Нет больше веры.
Отец Серафим похоронил жену, закинул в дальний ящик толстый томик с Благой вестью на церковнославянском и покинул тёплую квартиру. От прошлой жизни остались клочки воспоминаний, потускневшее фото и слабая надежда. Так появился смотритель – Серафимыч. Время откинуло всё лишнее – оставило лишь короткое прозвище «Фимыч». Возродившийся здесь – в суровом краю, на границе двух миров: Охотского моря и Тихого бескрайнего океана – хранитель маячного огня покорно нёс служение в своём новом храме на верхушке холма.
Шестьдесят пятая ступень – ноги отказали. Шквалистый ветер силился сокрушить возвышающийся и хрупкий с виду стан маячной башни. Фимыч подтягивался на руках, ничего не видя и уже не ощущая боли. Шестьдесят девятая – семидесятая… Дойти, доползти, успеть.
Траулер тем временем, беспомощно подкидываемый на волнах, неумолимо мчался к берегу, к скалистым холмам.
Семьдесят третья – живые глаза неопытного матроса глядят сквозь вихрь непогоды, ждут спасительного луча. Фимыч словно вернулся назад, словно чувствовал, видел каким-то особым зрением через пелену времени потерянный в морской бездне корабль. С каждым порывом ветра он ощущал его приближение – словно открытой грудью летело на оголённый пик неведомое судно. А вдруг он там, на борту… и никто не спасёт, не сохранит.
Семьдесят пять ступеней позади, из маячной комнаты в фонарный отсек ведёт вертикальный трап высотой около двух метров и упирается в тяжёлую крышку входного люка.
Руки отказывались поднимать отяжелевшее тело – последняя перекладина трапа отделяла от главной цели. «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты меня оставил?» – вырвался сжатый стон из груди Фимыча.
Ещё считанные секунды, и уже ничего не спасёт траулер от крушения. Считанные секунды и…
«Маяк! Маяк! По правому борту земля!» – яркий луч спасительного огня прорезал ночную завесу.
Ещё несколько дней бушевало море, но благополучно обходили корабли острую кромку суши, направляемые светящимся в ночной дали оком. Сквозь плотный туман и солёно-горькую взвесь морской пены пробивался тусклый свет маяка «Курбатов», что уже не первый десяток лет стоит на своём посту под ударами безжалостной стихии и отводит корабли от крутых берегов Курильских островов. Камчатка – край, где одинаково приятно умереть или возродиться.
А как только море утихло, и ветра присмирели, дошла до маяка группа техников. Нашли Фимыча бездыханным у подножия винтовой лестницы в семьдесят пять ступеней в высоту. Так и пролежал все штормовые дни, скованный холодом да смертью. Вот только каждую ночь неизменно зажигался маячный огонь. И до сих пор в непогоду виднеется в святая святых чей-то силуэт – согбенная фигура с тонким хвостиком на затылке, обращённая к морю.
Проснуться
Где только ни прячутся люди от самих себя! Кто-то бежит в Тибет, кто-то – на Алтай, а кто и в чарку хмельную ныряет. Я же поспать любила. Да-да! Засыпаешь, и проблемы уходят. Все беды в дрёму проваливаются. Радость взаправду, а плохое – понарошку. Проснёшься, и всё прошло. Уж если где и прятаться, то во снах – не иначе.
Помню, боялась до жути выпускных экзаменов. Не то, чтобы не знала ничего. Наоборот, училась я прилежно. Но это последние экзамены были. А всё последнее меня пугало. Уходит из жизни что-то. Словно приговор. Старайся, не старайся – не воротишь. Ведь это – последнее.
Как же я волновалась тогда! Сдала, домой пришла и в кровать завалилась. Проспала четырнадцать часов кряду. Не зря меня Соней прозвали. При рождении-то Софией нарекли. Но имя уж больно возвышенное, не пристало ко мне. Мудрость не нажила, да и умом не шибко блистала, а вот засоней была отменной.
Дома тогда не всё ладно было. Мама болела, ослабла совсем. Глядеть на неё – глазам горестно.
Бывало, подойдёт ко мне, сядет рядышком, платочек на голове поправляет да поправляет. Потом стянет его совсем и в руках теребит. Слова не проронит. Только смотрит, как я что-нибудь делаю, и сидит тихонечко. Говорю ей:
– Мам, ты чего? Плохо тебе что ли?
– Да нет, дочка! – Рукой махнёт. – Я так токмо, посмотреть. Вдруг не доведётся боле? Хоть полюбоваться на тебя последний раз.
А платочек так и мнёт тонюсенькими пальчиками – совсем прозрачными стали.
У меня от слов этих – особо «последний раз» – комок к горлу так и подкатывает. Уставлюсь, как полоумная, в одну точку и смотрю. А на маму-то и глянуть боязно. Раньше у неё коса тяжеленная была, по пояс. А сейчас головушка светится, словно пушком покрыта. И куда всё сошло?
Баба Маня смурная ходила. И без того всегда строгая, теперь лютовала как никогда. Бабушки, как водится, детишек балуют, а у нашей – не забалуешь. Всё по полочкам, всё под надзором, чин по чину. А тут дочь единственная захворала. Внуки-то ещё бестолковые. Я – школу заканчивала только, а брат и того меньше. Вот и печалилась баб Маня, всё вздыхала, ойкала да ахала. И от нас образцового поведения требовала. Словно спасения в нём искала.
– Чего сиднем сидишь? Мать твоя вянет, а ты расселась тут! Поди за хлебом сходи, что ли! – Только так команды раздавала, стоило лишь на глаза попасться.
Удивительно, как лихо она задания находила. Все при деле у неё были. Но почему-то не хвалила нас никогда. Может, всё не так мы выполняли? Даже казалось порой, что из-за меня непутёвой мама и болеет. То тарелки не так расставлю, то посуду не до блеска натру. А ещё пуще – разобью…
Вот и рвалась я из дому-то при удобном случае. Так и в то утро вышла прогуляться. Помню, волшебное утро было, а как проснулась – не помню. Воздух свежий, звонкий. Над речкой туманец полз, или пар это был – не знаю. Но казалось, что вода дышала. И так благостно на душе, а вокруг сказочно, будто в полусне – лёгкой дымкой мир затянуло. Мне бы понять тогда… Да где уж глупой?
Спустилась к берегу – под ногами песок мягкий, влажный, поскрипывает. Сандалии сняла и пальцами давай зарываться. С детства люблю буравить песочек. Холодок от пальцев по ногам поднимается, прохладой обдаёт, и мысли свежее становятся. Вижу – сквозь туман силуэт прорисовывается, словно проявляется на фотобумаге. Как сейчас передо мной: удочка тоненькая, хрупкие плечи и шевелюра пышная. Так я со своим Герой и познакомилась. Оказывается, он часами сидеть мог – не шелохнувшись. Ловил рыбку, а поймалась я.
– Откуда ты взялась в такую рань? – спросил он. – Не спится, что ль?
– Да выспалась, – отвечаю, – сам-то чего так рано?
– Самое то, рыбу ещё никто распугать не успел.
И дальше сидит с удочкой, на поплавок смотрит. А мне вдруг так обидно стало, что он на поплавок смотрит, когда я тут рядом стою.
– Значит, боишься, что рыбу твою распугаю? – Отвернулась и вроде как уходить собралась, а сама обмерла вся и жду: остановит аль нет.
– Да не страшная вроде, не распугаешь, – спокойно так отвечает.
А мне много ль надо? «Не страшная» – точно признание. Я зараз себя красавицей писаной вообразила. И так мне радостно на душе стало! Наверно, именно тогда я к нему и прикипела душой-то. Никто мне до этого слов таких не говорил.
И стали мы с ним по утрам вместе рыбачить. С тех пор люблю туман – окутает нас своим одеялом, скроет ото всех, и только мы да река. И было мне так спокойно, словно и бед никаких нет, словно и матушкина болезнь не по-настоящему, во сне словно…
Около двух лет мы так прятались. Родителям ничего не говорила. Не до того им было. Мама уже совсем обессилила. Вот и пришлось на работу мне выйти сразу после школы. Утром на речку; как туман рассеется – на работу, а вечером до дому плетусь. Мечтала я тогда врачом стать, но вместо того флаги строчила, спецодежду да фартуки в пошивочном цехе. А дома глаза прятала от угасающей матери. Жалела она меня:
– Вот видишь, доченька, какая мать у тебя непутёвая… Если б не я, училась бы ты сейчас на доктора. Хороший бы доктор из тебя вышел. Вылечила б меня.
Мне бы тогда хоть словечко сказать ей… Ждала она – прощения от меня ждала, утешения. А я – бестолковая, молчала всё.
Братик подрос и родителям пособлять не меньше моего стал. Крепкий он был, много работать мог. Вот и надумали мы с Герой, что пора. Чудно дело, но деньки мои самые счастливые, как вспышки в памяти – сверкнут и погаснут. Светлые, яркие, картинки будто. Вот мы в ЗАГСе расписываемся. Я – в скромном белом платье по колено, в руках пионы простые с огорода. Гера – в отцовском пиджаке. Плечи широкие, а шея тонюсенькая. Шевелюра, точно грива у льва – такая ж пышная. Локоны у него непослушные, густые. Запустишь, бывало, в них руку – она утопает, словно трясиной затягивает, не вытащишь.
Первую брачную ночь, думала, на всю жизнь запомню. А на деле так перепугалась, что быстро уснула. Всё, как в тумане. Да и неважно это совсем. Столько ночей впереди. И почему все так первую ночь почитают? Пронеслась – и нет её. А жизнь – день ото дня, бок о бок – вот, что главное!
Ещё одна вспышка: дом на берегу, куда меня Гера привёл – жили мы там одной семьёй, а семья большая была, дружная. Утро летнее, во дворе мальчишки соседские резвятся, а мы с бабой Нюрой намесили целый таз теста да блины печём в две руки. Аромат на всю округу разлетается. Тесто шипит, по чугунной сковороде растекается. Баба Нюра ловко подкидывает блин вверх, он переворачивается и послушно шмякается в сковородку.
А у меня духу не хватало. Или руки не из того места росли. Поначалу я даже лопаточкой перевернуть не могла. Все блины, словно гармошки получались. Помню, огорчалась я шибко, а Гера только мои гармошки и уплетал. Да ещё приговаривал, что вкуснее никогда в жизни ни едал.
Удивительный был человек – мой Гера. Ведь он не спал никогда. Ни минуточки. Не мог. Я засну, а он рядышком мой сон сторожит, одеяло поправляет, волосы с лица убирает. Говорил, что любуется мной, что очень я красивая, когда сплю. Говорил, что ждёт моего возвращения, будто ухожу куда. Все спокойной ночи желают, а он мне: «до встречи». Склонится надо мной – плечи узенькие, локоны во все стороны растрёпаны – как сейчас перед глазами. Прижму, бывало, его руку к щеке – пальцы у него, как ледышки, холодные – да так и засну.
В то время стали мне сны страшные сниться. Один долго забыть не могла. Такой ясный был, словно и не сон вовсе. Баба Маня передо мной вдруг появилась. Глаза ввалились совсем, болью светятся, горе на них слезами солёными накатило. Морщин прибавилось. Смотрит на меня, сказать что-то пытается, а губы дрожат. Огляделась я – за столом сидим. Много людей, все в чёрном. Тихо так, аж тоска в душу царапается. Только ложки брякают да посуда. И тут баба Маня выговорила:
– Ты, Сонечка, не оставляй нас. Отцу без тебя теперича совсем тоскливо будет. Один он остался. Женский догляд ему нужен, забота, тепло.
Замолчала вдруг. Сглотнула, перекрестилась трясущейся рукой и добавила:
– Не думала я, что дитя своё переживу. Не уберегла, не оградила. Не оставляй нас, Сонечка. Худо без тебя будет.
Проснулась, а Гера рядом сидит и смотрит. Пристально так смотрит. Говорит, долго я не возвращалась. Совсем ему страшно стало. Но, говорит, сидел бы и ждал всю жизнь. От сердца у меня отлегло. Знамо дело, баб Маня мне ещё часто вспоминалась, но это ведь сон. Всего лишь сон…
Вскоре дочка у нас родилась. Помню её свёрточком на руках у Геры. Плакала она всё время, а как Гера на ручки брал – так успокаивалась. Целыми ночами он её на руках носил, укачивал. Склонится, бывало, над ней, словно всем телом закрыть пытается, к груди прижмёт и баюкает. Сам всегда тихий был, и ребёнок с ним затихал. А я засыпала.
Мама Геры, Зинаида, всему учила меня тогда. Руки у неё волшебные! За что бы ни взялась – всё получалось. Отдыха не знала совсем. Меня приняла, как дочь родную. Такое тепло от неё исходило. Взгляд добрый, лицо смуглое, сама крепкая. Рядом с ней даже такой неумёхе, как я, не страшно.
Она ж меня и кормить, и пеленать да подмывать дитя – всему обучила. Но ловчее у Геры получалось. Бывало, пыхчу над крохой, пелёнку комом намотаю, а Гера подойдёт, раз-раз и аккуратно так уголочек в складочку закрепит. Конвертик получался на загляденье, словно кукольный. И чтобы я без него делала?
Назвали в честь мамы моей – Каной. Сейчас вот думаю, что совсем тогда я о маме своей позабыла. Ведь не было её, ни когда малышку крестили, ни когда… отпевали.
Просыпаюсь я однажды, а рядом Гера сидит – конвертик в руках держит и глаз с него не сводит. Тихо так в комнате. Подошла я к нему сзади, до плеча дотронулась, а он и не дрогнул даже. Только прошептал: «Вот ты, Сонечка, вернулась, а Каночка наша нет». Много наша малышка плакала…
Похоронили да жили дальше, как обычно. Только я покой потеряла. Видно, дочка моя забрала. В груди досада пухла, ядом своим отравляла. Будто обманул меня кто. Будто стены надо мной смеются. И так укрыться захотелось, не видеть, не слышать. Я и не видела, не замечала ничего. Лишь пелёнки да чепчики с глаз убрать не могла. С ними и засыпала. Гера склонялся надо мной, берёзкой плакучей словно. Тоньше ещё стал, плечи опали, а на висках седина припорошила. Вот таким я его и запомнила.
– В каком смысле, тёть Сонь? А сейчас он где?
– Знать, меня сторожит. Я вот проснулась, а он… Да и как проснуться, коли не засыпал никогда?
– Что ж это – всё сон? И долго же вы спали?
– Долго, видать. Братец мой возмужал – не узнать, деток нарожал. Вон, какие вы уже большенькие выросли.
– Да уж, тёть Сонь. А ведь и правда, я-то вас совсем редко видела. Неужто спали вы всё время?
– Для кого спала, а для кого…
– А вам не жалко, что всю жизнь вот так? Проспали?
– Жалко? Упаси Бог! Я ведь жила…
– Но ведь это всё не взаправду…
– Не знаю… В чём правда-то? Не в том ли, что сердце моё колотилось, когда малышку к груди прижимала? Или правда – в боли жгучей, когда дитя моё не проснулось? Что значит «взаправду»? Коли не спишь да не чувствуешь ничегошеньки, как чурбан – это взаправду? Всё было в моей жизни – жизнь была, потому как познала я и скорби, и радости. И Гера был…
– Вы его больше не видели? Ну… Не снился он вам больше?
– Бессонница у меня, детонька… Не спится мне.
А может быть, я сплю ещё и проснусь скоро с Герой моим рядом? Кто знает? Хотя… Я и раньше могла догадаться. Ведь вся жизнь, как вспышки фотокамеры: бах – свет, бах – темень. И ошмётки токмо в памяти – не склеить, не слепить. Видно, не хотела догадываться-то. Да и проку? Любила я, меня любили – чего ещё надобно-то? Вот человеку главное – счастье сыскать. А сыскав, кто ж по сторонам озирается? Так и проморгать можно. Вот и я нашла, а где… не велика важность.
– Тёть, а вы адрес помните? Где с Герой жили?
– А как же? Помню-помню.
– Так может, прогуляемся? Поглядим?
– А что, почему нет? Ишь ты, молодец – придумала!
Улица переменилась: запахи не те, шум да гул. Машины тарахтят, дымят – свет Божий не видно. Но берег этот я узнаю, пологий склон и пляж песчаный. Водица всё та же, но покров утеряла свой – туманец сошёл, оголил все прелести – блестит теперь, переливается. Не мудрено – скрывать-то больше некого. Да… Цвета ярче, но глазам больнее. Краски обжигают будто. Так и хочется зажмуриться покрепче да убежать, спрятаться.
Вот и дом, родной до последнего кирпичика, но в то же время и чужой. Подумать только, вся жизнь в нём прошла…
– Но как?! Как вы его признали?
– Что ж не признать-то? Один к одному всё. Разве что во сне попроще было, подушевнее. Заместо новёхонькой розовой штукатурки побелка на стенах трещинками вся исходила. Кованых лавок и в помине не было. Зато скамеечки деревянные стояли – сосед смастерил. Клумбы возле парадного входа в астрах да георгинах утопали. А вон там пионы огромным кустом росли. Под ногами игрушки – детвора носилась, не утихая. Весело было, радостно.
– Ей-Богу, не бывает так! Где ж это видано, чтоб такой правдивый сон был?
– Хм… Так я же в детстве частенько тут на речку бегала. Места здешние хорошо знала. Вот и запали они мне в душу, видать.
– А может, вы и Геру видели? Где-нибудь здесь, наяву?
– Да что ты? Я бы помнила. Должна была…
– А давайте постучим? Ну, так просто. Проверим.
– Да Бог с тобой! Чего проверять-то? Ещё за полоумных нас примут… Не знаю я тут никого.
– Тёть Сонь, ну пожалуйста! Пожа-ааа-алуйста! Мы просто спросим и всё. Только одним глазком внутрь заглянем.
Заглянуть внутрь… Прошлое в спину дышит, сверкая вспышками воспоминаний. Оглянуться и обернуться соляным столбом – навеки схорониться в прожитой где-то там жизни. Пускай не здесь, пускай в ином, пригрезившемся мне мире. И, видит Бог, я почти остолбенела. Укроюсь ли я там вновь? Вернусь ли? Тот мир такой же настоящий для меня сейчас, как и этот день, как и этот дом. Он существует, потому что я никогда не видела границ между сном и явью. Кто возведёт стену? Кто проведёт черту? Нет её – этой границы! Пока не загляну внутрь… Вот порог – вот черта. Загляну, и одна реальность поглотит другую. Мой мир исчезнет. Останется лишь серая явь и жизнь, прожитая понарошку.
– Нет! Постой!.. Зинаида?!
В слегка заплывших глазах теплился взгляд – родной и близкий. Морщинки опутали лицо, а губы истончились и понуро свесили уголки. Какая же немыслимая усталость извела приветливую улыбку на этом лице? Но руки, умевшие делать всё на свете, так же крепки, загорелы. Те самые руки, которые учили меня пеленать ребёнка… Руки Зинаиды.
– Вы меня не узнаёте?
– Нет. А мы разве знакомы? Я что-то не припомню. – Ну, да. Конечно! Ведь это мой сон – не её. Как глупо… Но всё же…
– А Гера тут живёт?
– Вы знаете моего сына? – Отчего-то голос дрогнул, недоверием кольнул взгляд. Больно так кольнул, в самую грудь, до детской обиды, как шлепок от матери.
– Так он живёт? – Ой, что я несу?! – Да, знала… Но не уверена, что он меня вспомнит…
Я, верно, сошла с ума. Иль в горячке, в бреду? На что надеюсь, глупая? Пустое всё, пустое… Ведь не признает – ещё горше мне будет, окаянной. Да что скажу ему? Довольно! Надо уходить.
Но… Это же мой Гера. Как смогу я уйти и в глаза не заглянуть? Жить и маяться, что где-то он – реальный, без ласки моей, без опеки? Нет сил, мочи нет совсем.
– Не думаю, что вспомнит… – словно вторила моим мыслям Зинаида. – Но пойдёмте, раз уж пришли.
И я заглянула внутрь…
Маленький дом на двух хозяев. Квартира, где мы жили всей семьёй. Кухонька, где баба Нюра частенько устраивала постряпушки.
– О-о! Баб Нюрин тазик. Какие блинчики она пекла, ммм-м – за уши не оттащишь. А где она?
Встала Зинаида, уронила руки беспомощно. Влага солёная на глаза её опухшие накатила.
– Почила мама уж лет пять как, – выговорила тихо. – Тазик так и висит. Любила она его. Всё говорила: «Чего с этими пузырьками чикаться? Таз – самое то».
Быть может, мир грёз и опасен. Как омут коварен, дурманом своим пьянит, в путы манит, крепко держит. Пускай! Реальность не лучше. Время – река, сквозь пальцы течёт, тебя в дураках оставляет. И жизнь пролетает, будто и не было её. Разве не обман это? Разве не лукавство? Ведь совсем недавно баба Нюра румяна ходила там, в моём мире.
– О-ох, что-то не разумею никак, откель вы её знать могли? Особливо про тазик? – Невмоготу мне вытерпеть этот взгляд – так и буравит меня Зинаида глазами раскрасневшимися, с усилием, с надрывом. Броситься бы на шею ей, рассказать всё, выплакаться! Но… – Как величать-то вас?
– София… Соня! Зовите меня: «Соня». Я вам всё расскажу. Обязательно расскажу.
Не ответила Зинаида. Смолчала. Но чувствую, приняла меня. Дома… я снова дома.
– А вот и Гера… Да вы проходите! Что ж на пороге-то встали?
Так разве я уходила куда? Вот комната, где много бессонных ночей провела, малышку нашу убаюкивала. Где Гера ходил взад-вперёд с дорогим свёрточком в руках. Где радовались и горевали вместе. Где дочь нашу оплакивали.
Узенький луч света прорвался в притемнённый мирок. Подобно озорному мальчишке, нарушал он покой. Поймать, отшлёпать – немедля! Лишь бы не разрушать эту поволоку, уютное ощущение дремоты. Только еле слышное дыхание нарушало всеобъемлющую тишину – вдох-выдох, вдох-выдох.
Оно сливалось со стенами, и уже вся комната дышала – вдох-выдох, вдох-выдох.
– Он спит?
Худощавый, совсем хрупкий человек лежал на высокой перине. Так же не шелохнувшись, будто с удочкой в руках, там, у реки, с таким же собранным и умиротворённым лицом. Едва слышное – вдох-выдох, вдох-выдох – облаком парило над его кудрями. Локоны непослушно распластались по подушке. Белые, почти прозрачные, руки недвижно покоились поверх толстого одеяла. Это был он – мой Гера.
– Можно и так сказать, – прошептала Зинаида, – без мала двадцать лет как… В коме он.
– Как в коме?
– Так… Травма головы. Врачи сказали, надежды нет. Так и будет, говорят, как овощ. А я всё жду… Они говорят, что не живёт он, что зазря его мучаю.
– Живёт! Он живёт… Просто не может проснуться.
Пальцы всё такие же холодные. Припасть щекой. Это я от счастья, Гера, от счастья… Оно тоже порой солёное на вкус.
Седина на висках – я знаю, отчего она. И не говорите, что это годы. Это жизнь – наша с ним жизнь осела, припорошила лёгким снежком на висках.
Теперь, видать, мой черёд сторожить его сон. Сон того, кто никогда не спит. Он также сидит возле меня и ждёт. Что ж? Подождём вместе. Тут время – река, струится сквозь пальцы. Теченье скорое. Мало нам надо, совсем чуток – всего лишь проснуться.
Tasuta katkend on lõppenud.