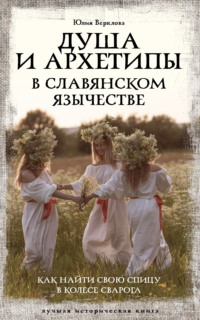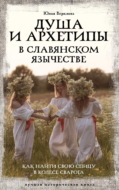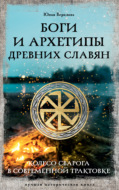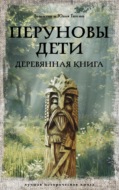Loe raamatut: «Душа и архетипы в славянском язычестве. Как найти свою спицу в Колесе Сварога»
Лучшая историческая книга

© Верклова Ю., текст
© ООО Издательство АСТ»
Введение (и сразу дисклеймер)
Легализовать языческих богов в монотеистическом, а тем более в атеистическом мире – не моя затея! Многим кажется, что более всех в ней преуспел Джеральд Гарднер, творец и популяризатор викки. Но рационалисты и агностики его всерьез не принимают. То ли дело Карл наш, Густав Юнг. Он умудрился сделать вид, что учение, которое он проповедует, – это никакое не язычество… Ну, как будто боги действуют не снаружи, а изнутри. А значит, это как будто и не боги, а некие психологические конструкты. В значительной степени это верно. «У бога нет других рук, кроме твоих» – этот афоризм надо понимать буквально. Мы нужны богам, чтобы они могли проявляться в этом мире и преобразовывать его.
Из этого понимания возникает понятие «душа» – еще более сложное и запутанное, чем «бог». У первобытных людей это слово означает способность дышать. Для них душа (или дух) – это признак живой материи. Но потом все усложняется. И на определенном этапе развития религиозной мысли формулируется постулат: «Бог у каждого в душе» (или «Бог в каждом из нас»). А отсюда буквально полшага до того, чтобы отождествить эти два понятия. Бог и есть душа.
Люди, опасающиеся обвинений в мракобесии, колдовстве, эзотерике и т. п., в разговорах о нематериальном оперируют словечком «архетип»: так солиднее, современнее, и атеисты не фыркают возмущенно. На Юнга опять же можно сослаться. Можно даже поверить самому себе, что отделил науку от религии…
Но давайте честно. У многих из нас само понятие «архетип» сформировано книгой Кэрол Пирсон «The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes», переведенной на русский язык в начале века и вышедшей в России в 2001 году под названием «Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов». За 20 с лишним лет эта тема развивалась и осваивалась разными спецами, перетаскивалась из сферы маркетинга в сферы общей психологии, культурологии, религиоведения и даже порой эзотерики. Поэтому местами происходят нестыковки и недопонимание на терминологическом уровне. Тем более что и сама Пирсон часто в объяснениях использует вместо слова archetype слово soul – «душа». Пытаясь прояснить ситуацию, я обнаружила, что понятие «души» вообще не слишком очевидно для современного человека – и надо, в общем, хорошо постараться, чтобы быть понятой. Вот, стараюсь…
Архетипы Пирсон – это конструкты постмодернизма. Они разработаны представителем европейской (христианской) культуры на землях индейских богов для жителей мегаполисов или вообще для обитателей виртуального пространства с целью построения брендов, хоть и с отсылкой к Юнгу. Строго говоря, это не архе-типы – не древние типажи коллективного бессознательного, а маркетинговые символы. Это универсальная схема самопрезентации для глобального мира… Того, что сейчас летит в тартарары, в полете распадаясь на фрагменты.
Вполне возможно, новый мир окажется хорошо забытым старым: в кризис людей тянет в архаику. Из глубин коллективного бессознательного, как из ада, вызываются души предков – настоящие «архе-типы», которые не связаны с нашим личным опытом и не походят на персонажей RPG (компьютерных игр-ролевок), – к этим мы более или менее привыкли и зачастую именно их образы считаем архетипическими.
Древние образы достались нам в наследство. Они внутри нас, и они знают, как выживать в любых условиях. Если апеллировать к Юнгу как к автору термина и понятия, то «архетип – объяснительная парафраза платоновского εἶδος. Для наших целей использование термина “архетип” в высшей степени уместно и целесообразно: он подразумевает, что, говоря о содержании коллективного бессознательного, мы имеем в виду древнейшие или, лучше сказать, первозданные элементы этого содержания, то есть универсальные образы, существующие с незапамятных времен»1.
Однако, как справедливо заметил Лев Гумилев (автор концепции этногенеза), где-то человеческие характеры формировались при покорении морей, где-то – при освоении лесов, а где-то – при выживании в пустыне. Архетипы универсальны, но имеют национальные (ландшафтом и климатом обусловленные) особенности. Японский самурай – не совсем то же, что русский витязь, хотя в обоих случаях это «архетип воина». Иными словами, некая природная данность (хтонический архетип) приводит к формированию социальных паттернов (героических архетипов) – везде одних и тех же, но не без местного колорита.
На разных территориях разные типажи будут восприниматься как «положительные» или как «отрицательные». Где-то нужнее охотники, а где-то собиратели. И вот эта ландшафтно, а затем и культурно предопределенная оценочность часто не позволяет нам признать в себе свой архетип. Никто не хотел быть колдуном в средневековой Европе, никто не хотел быть пахарем в Золотой Орде.
У Пирсон, кстати, архетипа Пахаря вовсе нет. В современной западной постиндустриальной культуре куда как престижнее именоваться Творцом. И это сильно осложняет и самоидентификацию, и мировосприятие. Все считают себя творческими личностями, никто при этом не хочет пахать.
Пока оставлю термин «архетип» как модный и потому (якобы) всем понятный. Но напомню, что сама Кэрол часто использует слово soul («душа»), и оно мне кажется более верным.
В моем понимании русское «душа» довольно близко индийскому «доша»2 и как бы намекает, что архетипические признаки проявляются не только в мыслях и поведении, но и в теле. Более того, особенности характера задаются и ограничиваются физическими особенностями. Поэтому для всякого язычника забота о душе – это, в первую очередь, телесная практика и, как ни банально, ЗОЖ.
Круто было бы пообещать, что сейчас в этой маленькой книжке я вам расскажу, что думали о душе славяне-язычники. Полноте! Я даже не могу рассказать, что думают о ней современные атеисты, хотя, казалось бы, я прожила в их окружении полвека и как минимум половину этого срока сама себя считала атеисткой.
Атеисты и материалисты, особенно те, что помоложе, могли бы опрометчиво заявить, что они не думают о душе ничего, поскольку не верят в ее существование. И это будет неправдой. Или, скажем, это будет добросовестным заблуждением.
Отрицая существование души (с популярно-атеистических или с атеистично-бытовых позиций), мы обычно хотим сказать, что не верим в некую бессмертную субстанцию, которая отделяется от тела после смерти и перемещается в иной мир или переселяется в другое тело. Иными словами, атеисты не верят в потусторонний мир, жизнь после смерти и/или в реинкарнацию, но верят в небытие либо вовсе не интересуются темой посмертия. Однако это не дает ни нам, ни им самим повода думать, что они отрицают существование души. Ходят же они к психологам (от др. – греч. ψυχή – «душа», λόγος – «учение»), изучают психическую деятельность и психологические особенности, исследуют уровни психики, а некоторые (тут уж в зависимости от профессиональной деформации и личных предпочтений) размышляют о духовности и бездуховности, душевности и бездушии… То есть все современные люди (а несовременные – тем более), вне зависимости от их философских и религиозных установок, тем или иным образом оперируют понятием «душа», но не знают наверняка, что оно означает для них самих и для других людей.
Вот примерно так же сложно (а то, пожалуй, за давностью лет еще сложнее) нам с вами будет подкопаться к тому, что думали о душе славяне-язычники. Чтобы объяснить, чем душа для них являлась, нам, наверное, придется идти от противного и объяснять, чем она для них НЕ являлась, послойно отшелушивая все версии, накопленные за прошедшие века разными народами. Слишком уж многозначный это термин! И при этом слишком ходовой, чтобы можно было совсем от него отмахнуться и подобрать что-нибудь понаучнее и посовременнее или, наоборот, поархаичнее и поэзотеричнее.
Мы говорим:
• «Заглянуть в душу».
• «Открыть душу» (а в результате – «Душа нараспашку»).
• «Пришлось по душе (или наоборот: «не по душе»).
• «Душа (не) принимает».
• «Проявить единодушие».
• «Смалодушничать» (не дать проявиться душе в полную силу).
• «Душа лежит к чему-то» (или «к чему-то тянется»).
• «Все, что твоей душе угодно».
• «В душе он такой-то» (хотя выглядит сяким)…
Язык сохранил древние представления, когда мы забыли их исконный смысл. Вся эта фразеология как бы намекает, что внутри у человека есть нечто, не проявленное (или не обязательно проявленное) во внешности, но определяющее и его поведение, и его благополучие. Что с этим «нечтом» происходит после смерти тела, мы в этой книге подробно рассматривать не будем: тема посмертия, похоронных обрядов, контактов с умершими заслуживает отдельной монографии. Здесь мы лишь краешком коснемся темы души как формы посмертного существования – просто чтобы убедиться, что у древних славян эта форма именовалась как угодно, только не «душой».
Описывая душу через Колесо Сварога, я говорю о спице в Колесе. Одной из восьми. Она – стержень нашей жизни, она и есть Душа.
Боюсь, чтобы объяснить вам, чем являлась душа для славян-язычников, мне придется сначала рассказать, что такое Коло Сварога. Тем, кто уже читал первую книгу о Коле Сварога или следил за темой в соцсетях, может стать скучно (я буду повторяться) – тогда беззастенчиво пролистывайте все, что для вас не ново. В смысле можете пролистать все «Введение» и переходить сразу к первой главе. А для тех, кто впервые погружается в тему, я сейчас постараюсь коротко и без лишних сложностей объяснить, о чем, собственно, речь.
Что такое Коло Сварога
Говоря о язычестве, я обычно имею в виду не просто набор разрозненных этнических религий, а целую философскую систему, охватывающую буквально все сферы жизни. У разных народов эта система проявляется в разных именах и в несопоставимых, на первый взгляд, традициях (ибо на каждом небе свои боги), но сам принцип согласования человеческих ритмов с природными – основа языческого мировоззрения.
Коло Сварога – универсальная схема, объясняющая практически все мироустройство для древнего и даже для средневекового человека. Да, теперь уж и для современного, если он перестал отождествлять «язычество» с «мракобесием».
Само название «Коло Сварога» можно (условно) считать моим авторским: нет нигде никаких подтверждений, что у кривичей, вятичей, радимичей, словен и соседствующих с ними племен (славянских и угро-финских) было учение с таким заголовком. Я лишь исхожу их того, что славяне считали Сварога отцом. А колесо (коло) для всех цивилизаций, где его в принципе успели изобрести, было символом движения и повторяемости.
В. В. Иванов, В. Н. Топоров – ведущие исследователи славянской мифологии, – ссылаясь на Ипатьевскую летопись, определяют Сварога как отца Солнца (и, соответственно, деда всего подсолнечного мира): «Сего ради призваша и богъ Сварогъ и по сем царствова сынъ его именем Солнце, его же наричуть Дажьбогъ… Солнце царь, сынъ Сварогов еже есть Дажьбогъ».
Современные родноверы возводят имя Сварога к индоевропейскому svarga – «небо, небесный» и почитают его, собственно, как Отца-Небо, отца трех огней: солнца (Даждьбога), молнии (Перуна) и земного огня (Огнебога). В общем, признают его верховным божеством славян.
В символике современных славянских родноверов широко используется так называемый Крест Сварога – цветок с 8 лепестками. Как пишет волхв Велеслав (один из основателей и бессменных лидеров родноверческого движения в России, автор самого термина «родноверие»), этот крест «трактуется как символ направленной во все стороны света созидательной мощи Бога-Творца, расширяющегося Творения»3. Часто, особенно при изготовлении амулетов и оберегов, этот символ вписывают в круг – вот вам и Колесо (Коло) с 8 спицами.
Будем честны, совершенно такой же символ я видела на камнях античного храма Гарни (I в. н. э.) в Армении. Традат, великий государь Великой Армении, построил и посвятил храм не кому-нибудь, а богу Солнца, греческому Гелиосу, и это в очередной раз нам намекает, что колесо с 8 спицами или цветок с таким количеством лепестков – символ солярный. Влияние эллинизма в Гарни несомненно. Влияние славян (в первом-то веке нашей эры!) – столь же несомненно исключено. Как исключено оно, кстати, и у шумеров с вавилонянами за тысячу лет до нашей эры, а у них на межевых камнях такая красота тоже присутствует.

Крест Сварога – символ славянских родноверов.
Используется в вышивках и амулетах.
По сути, Крест Сварога представляет собой прямой и косой кресты, наложенные друг на друга. Словосочетания «восьмиконечный крест» я сознательно избегаю, чтобы не возникало путаницы с православным крестом, который и выглядит совсем иначе, и наполнен другими смыслами, но, говоря о «восьмиконечном кресте», обычно подразумевают именно его. Поэтому давайте придерживаться этой терминологической условности: не восьмиконечный крест и даже не Крест Сварога, а Коло (или Колесо) Сварога. Тем более что семантика круга в этой фигуре столь же значима, как и семантика крестов. Двух крестов – прямого и косого.
Лепестки цветка (или секторы круга) имеют самостоятельное значение: если весь круг – символ Сварога, неба, то каждый из лепестков (секторов) – символ одного из богов пантеона (Сварожичей).
В разных языческих системах эта схема может называться по-разному – и вся целиком, и отдельные ее «лепестки». Вы наверняка знакомы с викканским или кельтским календарем? Или с Багуа? С Колесом баланса? С шумерской звездой Иштар? С мандалами, в конце концов?
Не было для древнего человека более простого узора, чем крест. А потом – два креста, наложенных друг на друга. Этот узор легко вписывался в круг (коло) – и тогда круг начинал лучиться, буквально на глазах превращаясь в солнце.
В южных широтах колесо может делиться не на 8, а на 12 секторов – это объясняется особенностями аграрного цикла и легкостью подсчета лунных фаз. Если рассматривать колесо как круглый (неслучайное определение) год, то от одного зимнего солнцеворота (рождения нового солнца) до другого умещается 12,5 рождений луны. Но до того как человечество разобралось с солнцеворотами (особенно в тех широтах, где один зимний месяц принципиально не отличается от другого), оно простодушно делило год на 4 части: зима, весна, лето, осень – смерть, возрождение, жизнь, умирание. Между этими большими вехами есть переходные (демисезонные) периоды – когда будущее еще не наступило, но уже ощущается и можно успеть к нему подготовиться. 8 лучей делят год на равные и понятные части.
В общем, человечество с самого своего детства живет по законам Кола. Коло накладывается на календарь, на часы, на схему человеческого тела… Ну и вот, на представления о душе – тоже.
Будучи язычником и в равной мере почитая всех богов, вы реализуете земную миссию одного из них (говорят же: «У бога нет других рук, кроме твоих»). И в процессе реализации транслируете в мир именно его архетипические качества – это и есть душа. Как видите, в данном абзаце это слово обозначает одновременно и архетип, и призвание (миссию). Но чего оно только не обозначало за время развития человечества!
Основные (старшие) боги пантеона символизируются одной из спиц Кола (или одним из лепестков, если мы рассматриваем крест-цветок, без круга). Для территорий условной Московии (то есть для нашей ландшафтно-климатической зоны) это будет выглядеть примерно вот так:

Географические ограничения, как ни странно, действительно очень важны. И они в значительной степени объясняют, почему славянские архетипы не всегда (даже по количеству) совпадают с пирсоновскими или, скажем, древнегреческими. Об этом мы с вами подробно поговорим в первой части книги.
По современным представлениям, боги – это архетипические образы в мифах разных народов – антропоморфные воплощения стихий, или человеческих качеств, или социальных событий, или даже ремесел.
Разные стихийные (климатические) условия – разные боги, разные методы адаптации людей к окружающей среде – и, соответственно, разные национальные характеры и архетипы. Колесо Сварога, трансформируясь в колесо архетипов, будет выглядеть вот так:

Почему именно так и каким образом архетип соотносится с душой (то есть зачем в заголовке книги два этих слова стоят рядом) – обсудим прямо в первой главе. А во второй части книги будут даны описания всех душ (архетипов) по Колесу Сварога и алгоритм, который позволит вам заглянуть в собственную душу.
Зачем нам душа (в этой книге)
Во времена глобальных трансформаций люди (не все, но многие) наконец осознают, что не могут контролировать внешний мир. Наиболее рассудительные из них, как говорил Юнг, понимают, что «любого рода внешние исторические условия <…> мы должны рассматривать не поверхностно, но как решения, порожденные бессознательным».
Упс! А что такое «бессознательное»? По Юнгу, если мы говорим об индивидуальном, не коллективном бессознательном – это некая врожденная данность, совокупность характеристик, формирующих образ. Юнг называет их то архетипами, то проформами… Они не контролируются сознанием, а включаются и проявляются сами при возникновении соответствующих обстоятельств. Сдается мне, это и был новый термин для понятия «душа» в эпоху резкого отделения науки от религии.
По Фрейду, бессознательное – вместилище всего, что не желает принимать сознание. То есть поп-психология обычно все упрощает именно до такого уровня. Фрейд ведь сказал: «Вытесненное мы рассматриваем как типичный пример бессознательного». Однако потом он подумал-подумал и добавил: «Все вытесненное – бессознательное, но не все бессознательное есть вытесненное. Даже часть “Я” может быть бессознательной»4.
И вот в такие исторические моменты, как сейчас, понимая, что практически ничего из происходящего вокруг не укладывается в сознание, но при этом, несомненно, придумано и затеяно людьми, мы начинаем копать вглубь.
Постепенно мы смиряемся с тем, что не можем перекроить этот мир или хотя бы «вернуть все как было», и начинаем в себе (как в отдельной личности и как в представителе человечества) искать предпосылки происходящего и аналогии. Признаем мы это на сознательном уровне или нет, но человек – модель мира в миниатюре. Что происходит в нас, то происходит в мире. Если слишком многие люди одновременно загоняют и запрещают некое древнее проявление в себе, то оно потом все равно выпирает наружу – через других людей, менее послушных запретам, а то и через всех. «Первобытное или нет, – говорит Юнг, – человечество всегда стоит на грани поступков, которые оно совершает само, но не контролирует. Весь мир хочет покоя, и весь мир готовится к войне. Человечество бессильно против человечества, и боги, как и прежде, определяют его судьбу»5.
То есть, заныривая в бессознательное, мы на самом деле ищем того бога, который через нас играет миром. Нам кажется, что вот эта глубинная архаичная сущность, будучи извлеченной на поверхность, позволит нам выжить, как помогала нашим не очень осознанным предкам в древние времена, где не было еще света, вайфая и ООН. А кризисы уже были.
В темные дофрейдовские времена мы бы сказали, что люди пытались «заглянуть себе в душу» или «раскрыть свою душу». В особо мрачные исторические периоды ее, душу, усиленно спасали (бывало, что в ущерб телу)… С учетом современных языковых и социальных тенденций люди, избегая религиозного термина «душа», берутся «исследовать свой архетип», а то и вовсе «дизайн» – так нам пока понятнее, чем «бессознательное» (и уж тем более – чем душа или бог).
Моя первая книга о славянском язычестве (и вообще о языческом мировоззрении) называлась «Боги и архетипы древних славян». Подозреваю, едва ли не половина аудитории купила ее именно из-за слова «архетипы» (вторая половина – из-за древних славян, и лишь особо интересующиеся – из-за богов).
Архетипы, по Юнгу, – это что-то вроде платоновских идей – древнейшие универсальные образы, существующие в коллективном бессознательном.
Но «архетип» для большинства из нас – это все же маркетинговый термин по Кэрол Пирсон – база потребительского поведения. Поэтому, например, в соцсетях, употребляя это словечко или используя архетипические ярлычки типа «воин» или «любовница», я всякий раз поясняла, что вот здесь можно трактовать и «по Пирсон», а вот тут – почувствуйте разницу.
На самом деле модное слово я вынесла в заголовок именно для того, чтобы читателям было понятно, о чем речь. И это тоже «управление потребительским поведением». Оставь я там только «душу» – стали бы вы читать? Вы бы решили, что я вас в секту заманиваю. И книжку в магазинах выкладывали бы в разделе религиозной или эзотерической литературы. Так исторически сложилось: для читающей аудитории понятие «архетип» яснее, чем «душа». «Душа» отдает эзотерикой и мистикой – поэтому отпугивает. Насколько взаимозаменяемы эти понятия? Вопрос чрезвычайно сложный!
Душа – это лишь иногда архетип (психологический, социально обусловленный феномен) – паттерн поведения или узнаваемый образ (персонаж).
Как я уже сказала, славянское понятие души ближе, пожалуй, к индийским дошам, чем к европейским архетипам, поскольку душа неразрывно связана с телом и обуславливается его анатомическими и физиологическими особенностями.
Но, едва начав говорить о «телесных» особенностях, мы непременно упремся в тему «генетической предрасположенности» – а значит, не сможем игнорировать сходность понятий «душа» и «гений» у древних римлян. А где у римлян гений, покровитель рода, там у славян – чур с теми же функциями. И здесь мы вынуждены будем увязывать понятие души с темой наследственности, родовых сценариев, а также посмертия и загробного мира.
Есть нюанс. Где у римлян гений, там у греков даймон (или, чего уж там, демон). А где у греков демон, там у русских бес. Таким образом, поблуждав в лабиринте трактовок, душа превращается в Тень – то есть опять в архетип. Только не тот, который принято раскрывать и демонстрировать, а, наоборот, тот, который мы предпочитаем не замечать и скрывать. Круг замыкается, мы возвращается к фрейдовскому «бессознательному» в значении «вытесненного».
Поэтому давайте я тут, во введении, сразу сформулирую как постулат: душа – это проявление одного из основных богов в человеческом теле.
Боги проявляются в нас – и именно эту проявленность мы называем душой. Я бы могла на этом и закончить… Но тогда бы рухнула сама идея язычества. Зачем нам 8 богов, если душа – это лишь один из них? Все остальные – как раз архетипы. Включаются в соответствии с требованиями момента, но не составляют нашу сущность и не формируют нашу личность. Древний человек сказал бы, что в такой-то ситуации ему помог такой-то бог, и даже не заморачивался бы дополнительными объяснениями: он вообще не стремился отделять происходящее снаружи от происходящего внутри.
Разницу между душой и архетипом можно объяснить почти по Фромму: Душа – это «быть». Архетип – «иметь». Причем «иметь» не в сугубо материалистическом смысле, но и в более широком – обладать некими навыками, не данными от рождения и даже не предполагаемыми по праву наследования. По-русски это хорошо передается через тот же корень: у-меть.
Архетип – это навык, которым вы можете воспользоваться в моменте для решения данной конкретной задачи, то, что имеете, умеете или хотя бы пытаетесь продемонстрировать. Это божество, на чью поддержку уповаете здесь и сейчас. Ясно, что в драке надо проявлять перунические (воинские) качества, даже если в душе вы мирный пахарь. А ухаживая за девушкой (или соблазняя мужчину), надо включать архетип Лады (любовницы)… Да он и сам включится, даже если от природы вы великий ученый, отшельник и, скорее всего, таковым останетесь.
Душа – это ваша суть. Ваше «есть».
В этимологическом смысле это тоже занятная игра слов: «суть» в древнерусском языке – это глагол «быти» во множественном числе. То есть некий перечень качеств (условно: сила, ум и красота) суть вот этот человек. Его суть. Она не изменится, чем бы он ни обладал, чему бы ни научился, в какие бы наряды ни переоделся. И даже если лишить его всего, Душа (суть) будет проявляться не только в поступках и характере, но и в особенностях здоровья, во внешности. И она определяет талант и/или предназначение.
Я бы сказала, что смена архетипов – это процесс качения Колеса жизни. Душа – главная спица в колесе, жизненный стержень. Она удержит, даже если все остальные повылетают.
Можно ли вместить в себя все 8 спиц одновременно? Можно! В качестве архетипов (архетипических проявлений), но не души.
Душа – понятие зыбкое, ускользающее, неконкретное. В разных исторических эпохах и в разных землях ее пытались объяснить через разные феномены. И обычно сравнивали с чем-то уже известным (или противопоставляли ему). Собственно, этим я и собираюсь заниматься на протяжении всей книги. Чтобы к концу ее вы могли заглянуть себе в душу и делать все, что вашей душе угодно. Именно душе и именно вашей. Думаю, когда вся поп-психология говорит об «истинных желаниях», она имеет в виду именно это.