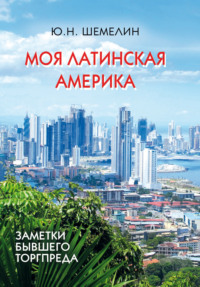Loe raamatut: «Моя Латинская Америка. Заметки бывшего торгпреда»
© Шемелин Ю. Н., 2023
© Издательство «Союз писателей», оформление, 2023
© ИП Соседко М. В., издание, 2023
Предисловие
Насущное отходит вдаль, а давность,
Приблизившись, приобретает явность.
Гёте
Мне кажется, я писал всегда. Это были сначала прописи первоклассника, выводимые пером № 86 с помощью персональных чернильниц, потом заметки в стенгазету, письма, дневник, школьные сочинения, студенческие рефераты, конспекты, потом, статьи в специальных журналах, переводы-рефераты, тексты с грифом «секретно» и без, шифротелеграммы, деловые и другие письма, проекты контрактов и договоров, бухгалтерские отчеты, и вдруг уже на склоне лет – стихи, песни, стихотворные переводы и даже сценарий спектакля-сказки для кукольного спектакля с участием моих внучек и внука…
Со школьных лет я мечтал быть дипломатом или хотя бы журналистом. Наша учительница литературы в старших классах читала иногда мои сочинения вслух в классе моим одноклассникам, всячески направляла меня на литературную стезю. Легко давался мне в школе и в вузах английский, потом в Академии внешней торговли СССР и испанский… Моя государственная служба состояла в том числе и в написании таких ответственных документов, как записки «в Политбюро ЦК КПСС». Мой любимый, как теперь говорят, чиновник, заместитель председателя ГКЭС СССР, моряк-фронтовик, замечательный человек, к которому слово «чиновник» ну никак не приклеивалось, Петр Яковлевич Кошелев, прочитав как-то мой черновик одной такой записки «Об оказании СССР помощи в строительстве и оснащении партийной школы в Браззавиле (Конго)», сказал: «Тебя, Юра, тут держать – это как часами гвозди забивать… прошибаешь…» Вскоре мы поехали на работу в Перу. В выбранных мной публикациях, как я думаю, будет видно мое мировоззрение, характер, всегдашний поиск компромисса с реальностью – в общем, добрый взгляд на людей и надежда на них, стремление доказать важность обретения человеком какой-то, пусть и на время ошибочной, но позиции. Есть в них и следы романтизма на грани с наивностью и той самой моей показавшейся кое-кому опасной «доброжелательности до неразборчивости», о которой (и совершенно правильно!) как-то написал в моей характеристике один из кадровиков спецслужб.
Эта моя книга хотя и похожа на мой «жизненный отчет», все же в основном о работе в Латинской Америке, о некоторых чисто профессиональных темах, связанных с этой моей деятельностью, и об эмоциональной стороне этого моего жизненного опыта. Конечно, не вся жизнь уместилась в эти странички… И пока она продолжается, она ежедневно приносит новые реальности, эмоции, а «счастье… оно ведь всегда за углом», как считали мои любимые латиноамериканцы Габриэль Гарсия Маркес и Марио Бенедетти.
По ночам, когда не спится, многое вспоминается и просится в компьютер, но часто утром те самые правильные, пролетающие мимо, как жужжащие осы, слова, что вдруг пришли ночью, исчезают… Писание, литература – это большой труд, поиск выражения себя через тысячи понятий и отражений бытия. Не каждому это под силу, и не всегда есть для этого быстротекущее время. В этой же моей книжке – главное, как мне кажется, из того, что я видел, понял и записал на эту тему, и хотел бы поделиться этим с моими коллегами латиноамериканистами, родными, моими друзьями и товарищами, читателями вообще…
И про первую в жизни мою заграницу – работу и жизнь в Перу, про неожиданное путешествие в еще пиночетовскую Чили, когда я впервые увидел бесконечную аргентинскую пампу и вздыбленные в темно-синее небо черно-белые Анды, про так называемую глобализацию, о которой я говорил в 2005 году на Конгрессе латиноамериканистов в Риме и был награжден на диспуте поддержкой мексиканского профессора-марксиста, про беглого власовца, боровшегося за русскость в среде бессовестных панамских и прочих буржуев, про сбывшуюся мечту латинского Робин Гуда – панамского генерала Омара Торрихоса, добившегося ценой своей жизни передачи от США своей стране Панамского канала, про Уго Чавеса, наследника Симона Боливара и современного Христа, честно взошедшего на свою Голгофу, про китайское отмщение Америке за рабские унижения в прошлом, про местечкового еврея и патриота России Льва Иосифовича Родина, заработавшего миллионы долларов для себя, а заодно и для СССР на наших «Ладах», про уругвайского поэта и писателя Марио Бенедетти и про его так похожий на мой чувственный мир.
Но предлагать сегодня читателю что-либо публицистическое, связанное с общественной жизнью, даже если речь идет о прошлом, нельзя, не выразив свое отношение к самому важному, что происходит в мире сейчас. Поэтому несколько слов – об этом.
Речь идет о разразившемся на наших с вами глазах мировом кризисе в форме силового передела сфер влияния на историческом этапе 4-й промышленной революции, о намерении англо-саксонского глобального империализма, до сих пор главенствующего в мире, силой сохранить свое положение в мире путем захвата новых рынков и природных ресурсов, о попытке сохранить в обличье так называемого инклюзивного саму капиталистическую систему с ее классовым разделением ценой массового унижения человеческого достоинства и, наконец, о российско-украинском вооруженном конфликте, во многом решающем судьбу и пути развития человечества. Конечно, коротко высказаться об этом трудно.
Но уже само перечисление всего этого в значительной мере показывает читателю мое отношение к происходящему в мире и мою в этом позицию. Думаю также, что стоит здесь публично согласиться с выраженным учеными, политологами и политиками-марксистами, а также компартиями России, Греции, Мексики, Украины, Вьетнама и других мнением, что нынешняя российско-украинская война носит диаматически сложный, двойственный, со своими историческими особенностями и корнями характер.
Эта двойственность отразилась и в ее начальном определении как специальной военной операции на территории Украины без территориальных новообразований в РФ, и в фактическом затем отказе от этой ограниченной задачи, в характере ее первой фазы – глубоким проникновением ВС РФ вплоть до Киева, а затем переговорами в Белоруссии и Стамбуле, отходом назад и зерновой сделкой и отказом от нее, а самое главное – противоречивого сочетания в ней консервативного чисто геополитического интереса капиталистической России и ее правящего класса заставить англосаксонский империализм считаться с его интересами и влиянием в мире с прогрессивным справедливым стремлением всего народа России предотвратить новую попытку неоколониального порабощения нашей страны с использованием в этих целях марионеточного националистического украинского режима.
Эта двойственность пронизывает всю нашу жизнь и отражается на всем: от внутренних экономических противоречий, где сталкиваются усилия промышленников-государственников и силовиков с тормозящими дело позициями либералов в финансово-экономическом блоке правительства, государственной бюрократии и общественных народных организаций, движений вплоть до фронта, где частная военная организация «Вагнер» даже вступила в конфликт с государством в лице Министерства обороны, и так далее, где отнюдь не самое последнее место занимает противоречие между апатией и безразличием части общества к этой войне с проявлениями яркой пассионарности «совестливых оборонцев» (по довольно циничному, на мой взгляд, выражению В.И. Ленина в его статье «Грозящая катастрофа и как с ней бороться»).
От себя хочу добавить, что, в отличие от двойственного характера участия России в Первой мировой войне, к оценке особенностей которой относится именование вождем революции тогдашних русских патриотов, наши нынешние бойцы и командиры, которым выпала тяжелая доля защищать Россию от ее врагов, в отличие от тех неграмотных крестьян – солдат царской армии, несут в себе еще непогасший, не вытравленный гадостями их врагов: лжецов, хулитилей и безграмотных политиков, след от той, советской эпохи, советских образования и воспитания душ, переданных им предыдущим поколением. Хочу и я внести свой скромный вклад в этот заряд из прошлого во имя нашей новой Победы, хотя бы в форме моих воспоминаний и мыслей об в этой книге о «Моей Латинской Америке». Я хочу, чтобы здесь, в моих воспоминаниях, статьях, стихах, были бы видны читателю факты, мысли, и сравнения, которые, как я надеюсь, помогут нам лучше понять происходящее и увидеть путь к нашей Победе в этом многослойном противостоянии Добра и Зла.
Я добавил к воспоминаниям несколько моих стихотворений и песен на панамскую тему, переводы стихов с испанского, где в основним представлены переводы стихотворений моего любимого уругвайского поэта и писателя Марио Бенедетти, созвучных моему чувственному ощущению мира. Желание поделиться с читателями всем этим скромным моим багажом на склоне лет в форме этой книги перевесило боязнь разочарований, неприятия и отрицательных реакций другого рода. А теперь обо всем по порядку и без.
О Латинской Америке и не только…
Мы летели с Галей, моей женой и помощницей, в Боготу из Панамы, где тогда работали супружеской парой: я – торговым советником посольства, она – моим секретарем и бухгалтером. Везли в столицу Колумбии, куда регулярно залетали мидовские дипкурьеры, нашу, панамскую диппочту. Под крылом самолета тянулась зеленая горная колумбийская сельва и коричневая от всегдашних дождей змейка реки Магдалены. После раннего самолетного завтрака слегка подремывалось, когда в динамиках салона нашего А320 послышалось хриплое: «Nos aterrizamos en el aeropuerto de Medellin». Посадка в Медельине маршрутом не была предусмотрена, в Боготе нас ждали в одиннадцать (все-таки диппочта). Я забеспокоился и спросил нашу изумрудно зеленоглазую стюардессу: «А надолго ли и почему эта посадка и когда мы полетим дальше?»
Видели бы вы, с каким неподдельным изумлением она ответила: «Senor, y eso que importa? Lo importante es aterrizarse… Y si nos paren seran otros vuelos…» («Сеньор, и это Вам важно? Главное сейчас – приземлиться нормально!.. А если нельзя будет лететь дальше, будут другие рейсы…») Мы рассмеялись, а она, видимо не понимая почему, слегка смутившись, добавила: «Si el Dios lo quere…» («Как Бог даст…») И мы почему-то успокоились, хотя надо было бы, наоборот, занервничать. И я подумал: а ведь в том, как и что она нам сказала, было столько латиноамериканского. Какого-то их понимания сути бытия, спокойной подчиненности человека судьбе и воле Всевышнего и даже какого-то облегченного, нетрагичного отношения к возможному уходу из этого мира в любой момент… Si el Dios lo quiere. Как Бог захочет, и нет другого выхода, и все тут… А у самолета была какая-то проблема с двигателем… Мы приземлились и вышли в зал прилета. Через час нам заменили самолет, и мы полетели дальше…
С того дня прошло много лет. Закончилась моя загранработа на пылающем континенте, жизнь и работа в России захватила новыми проблемами и заботами, стали взрослыми дети, выросли и уже вступают в жизнь наши внуки. Шесть лет после возвращения я работал в Институте Латинской Америки, потом «управдомом» в созданном мной ТСЖ, но когда пришло время, как говорят, «подводить итоги», то мне захотелось прежде всего поделиться своими мыслями и наблюдениями, опытом, знаниями и ощущениями, испытанными там, в Латинской Америке, рассказать людям об этом не так уж давно открытом для нас мире, его людях. Рассказать, что главное там, что отличает их от нас, что сближает, что может быть интересным сегодня читающим эти строки людям об этом континенте и его народах, о которых написано немало и исследований, и книг, и поэм, зачем вообще России эта Латинская Америка.
Ответы на эти и другие, может быть, более важные для нас сегодня вопросы скоро даст само наше тревожное время, время нового поворота в жизни русского народа и истории России в сторону от навяанного нам зависимого развития и жизни, отказа от навязанных нам ради чужих интересов и в чужеродной форме ценностей, поворота к развитию независимому, к близким нам национально-историческим формам коллективного мышления и действия, веры в коллективный разум и добро в людях, в социальную, а не в индивидуалистическую потребность самого существования человека. Уж слишком много не просто плохого, а какого-то невнятного, не окрашенного ясной и простой целью чужеродного дерьма налипло и продолжает налипать на нашу жизнь. «Во что они превратили мое Перу»? – спрашивал герой романа перуанского писателя Марио Варгаса Льосы, оглядывая после долгого отсутствия на родине огни рекламы на новоявленных высотках Лимы. Зачем эти потомки инков назвали этот желтый напиток «Инка-Кола»? Чужая, все еще набитая чужими словами, захваченная чужеземной рекламой, чужими ценностями, лоснящаяся чужим блеском Москва всякий раз напоминает мне эту фразу из романа знаменитого писателя «Город псов», автор которого на уход из жизни великого Фиделя Кастро вдруг сказал: «История его не оправдает…»
Я думаю, что история оправдает Фиделя, хотя кубинскому народу пришлось немало пережить и перетерпеть за годы своей подлинной независимости от кого бы то ни было. Но она уж точно не оправдает на этот раз русскую интеллигенцию, если мы не сможем сегодня найти, понять и затем убедить и побудить к действию нужную для нашего поворота к новому критическую массу людей, способную громко заявить о себе, объединиться и сбросить, наконец, эту безликую идейно невнятную, космополитическую и заточенную на индивидуализм неолиберальную братию, ведущую нас к поражению в разворачивающейся постепенно на наших глазах третьей мировой гибридной войне. Ведь конечной целью может стать воцарение в мире инклюзивного капитализма, образование вместо самобытных культур и народов некой Всемирной Швабрании со все понимающей и знающей элитой и сытыми, довольными собой и всем на свете, но интеллектуально и чувственно пустыми, управляемыми этой элитой полулюдьми-полуживотными.
В нашем поиске и борьбе с этим ужасом нам нелишне знать и понять, как ведут и вели себя в схожей с нашей ситуацией борьбы за национальное возрождение, и независимость, и достоинство народы Латинской Америки. Потому что если и живут эти многоликие народы кое-где и как-то очень по-своему сносно, то это ими завоевано и в трудах праведных, и в нелегких социальных битвах с колонизаторами и глобализаторами.
Я окунулся в уникальный латиноамериканский мир в эпоху холодной войны в конце 70-х годов, побывав сначала на Кубе в качестве стажера Академии внешней торговли СССР, потом в качестве сотрудника представительства ГКЭС СССР в Республике Перу, потом в качестве торгового представителя РФ в Коста-Рике и Панаме и еще по разным делам и поводам в некоторых других странах. И меня уже давно и сразу очаровал, захватил какой-то общностью душевных струн и настроений, отношения к жизни этот пахнущий чем-то солоновато-сладким теплый тропический воздух, расцвеченные яркими и нежными красками морские и горные дали, то убеленные снегом, то черные, будто недавно вздыбившиеся из чрева земли, а порой мягкие и зеленые Кордильеры, загадочные потухшие и все еще тлеющие дыры вулканов, бескрайние поля сахарных, банановых и похожих на капустные ананасовых плантаций, апельсиновые рощи, кофейные склоны гор, многовековые секвойи и прочие реликтовые деревья-гиганты, возвышающиеся над океаном непроходимой сельвы, лунные пейзажи прибрежных пустынь, скачущие по камням горные и невероятные по ширине и объемам вод равнинные реки, огромные города, сверкающие кострами огней под крыльями ночных самолетов, и все это соединенное, как бы прошитое по всему тихоокеанскому побережью то прямой и стремительной, а то извилистой и трудной ленточкой Панамериканского шоссе, протянувшегося на 28 тысяч километров от североамериканской Аляски и Сан-Франциско до чилийского Вальпараисо и мыса Горн на берегу Магелланова пролива. Это гигантское и самое длинное в мире шоссе прерывается только на 87-километровом пространстве сельвы между Панамой и Колумбией.
С годами работы там, сначала, конечно, по-студенчески изучив, а потом и научившись говорить на их испанском, познав пусть и немногие лоскутки этого многоцветного латиноамериканского цивилизационного одеяла – их музыку, ритмы, стихи, песни, литературу, обычаи, а самое главное, узнав десятки самих латиноамериканцев, – мне, кажется, удалось понять и почувствовать особое латиноамериканское ощущение мира и человека в нем, воспринимать и прощать многое из того, что, как правило, кажется странным и непростительным для нас, например то самое знаменитое «hora Latina», которое может очень сильно отличаться от нашего понимания «прийти вовремя», когда сильно обижаться на опоздание даже на деловую встречу является дурным тоном.
Так пришло ко мне то, что называется «полюбить Латинскую Америку», ее людей, этот коктейль трех культур: западноевропейской испанской, местной индейской и еще одной – африканской. С их мягкой доверчивостью и стойкой обидчивостью на грубость, с готовностью поделиться всем, что есть, и помочь и лежащим на поверхности плутовством в мелочах да и по-крупному, демонстративным гостеприимством и часто закрытостью в глубоко личном, уважением к авторитетам, склонностью к подчинению им и внешним фанфаронством, фатализмом и жертвенностью, трактуемой как неизбежность, и вспыльчивостью, легко переходящей в ярость, склонностью к романтизму и вере, и все это в форме «кабальеризма» или грубоватого
«мачизма» мужчин и изменчивости и непостоянства женских привязанностей с их невероятной готовностью уступить, но и изменить и отомстить за измену. В них как будто сплавлена в единое целое смягченная ласковым тропическим муссоном испанская жесткость и определенность со странной и радостной беспечностью бездумных, безнадежно бедных и непонятно почему счастливых обитателей этих райских Карибов и Полинезий.
Разумеется, все они, люди этой Америки, разные, но и в герое, и в негодяе, в обыкновенном человеке и в каждой выдающейся личности вы найдете некие особые латиноамериканские черты.
«Любить латиноамериканцев» вовсе не означает любить каждого из них, речь идет о цивилизационном отблеске, как бы лежащем на каждом из них, придающем каждому из них, как той стюардессе, летевшей с нами из Панамы в Боготу, свой латиноамериканский, симпатичный мне рисунок души. Конечно, социальная, классовая доминанта в этой латиноамериканской цивилизации имеет тоже большое, часто ведущее значение, но и в бедняке, и в миллионере вы сможете прочесть этот особый латиноамериканский цивилизационный код.
Меня всегда искренне трогало завершение католического рождественского моления и пения в латиноамериканских католических церквях протягиванием руки рядом стоящему или стоящей слева и справа, образуя так единение людей с невольными обменами взглядов, которые уж никак не могут быть злыми, недобрыми. Скажете, католическое лицемерие… Может быть и так, но мне всегда вспоминалось в этих случаях и «возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке», хотя пелось это у нас совсем по другому поводу… В теплые там рождественские латинские ночи двери многих домов в этой Америке стоят открытыми настежь и для соседей, и для друзей. И в них может войти даже оставивший когда-то свою жену и детей неверный отец, чтобы принести в эту ночь под елку своим детям подарки, и тут уж никак не принято устраивать скандалы или сводить счеты… Все смягчается и становится другим, всепрощающим и внимательным к друг другу в эти рождественские латинские ночи…
Но пылающий континент известен, разумеется, и совсем другими, далеко не романтическими картинами жестокой классовой борьбы между властью и стремившимся к другой жизни угнетаемыми ею трудящимися. Следы этой эксплуатации и уничтожения человека человеком в этой борьбе до сих пор потрясают. В перуанском городе Кахамарка туристам показывают комнату объемом в два десятка кубометров, которую конкистадор Писарро приказал наполнить золотом и серебром в обмен на жизнь сидевшего в этой комнате последнего вождя индейцев и императора всей империи инков Атауальпы. Как только комната была доверху наполнена сокровищами перуанских Анд, Атауальпа был убит. В 1989 году я со своим коллегой из министерства в Сантьяго-де-Чили забрались на склон возвышавшегося над городом мемориального парка-кладбища, где один из чилийцев полушепотом и с оглядкой рассказывал нам, как люди из немецкой колонии Дигнидад, являющейся поселком закрытого типа, до сих пор выкапывают тут захоронения чилийских патриотов, погружают останки в грузовики и выбрасывают их потом с вертолетов в море. Широко известны в мире и жестокие расправы с коммунистами и левыми патриотами в Аргентине периода военной диктатуры Хорхе Видела в начале 80-х годов, периода военных диктаторов в 1964–1980 гг. в Бразилии, Уругвае, Колумбии, Сальвадоре, Гватемале, Никарагуа. Нищета и голод, с которой в последние годы здесь довольно успешно боролись левые и левоцентристские правительства Аргентины, Бразилии, Венесуэлы все еще остаются фактом в фавелах Рио-де-Жанейро, Лимы, Манагуа и других столиц, а еще сильнее – в отдаленных поселениях индейцев. Ойден Ортега, бывший помощник панамского генерала-патриота Омара Торрихоса, рассказывал мне, как в конце 70-х годов генерал привез из своей поездки в провинцию Дариен прямо на заседание кабинета министров 4-летнего мальчугана с отъеденной им самим от непомерного голода частью своей руки и с какими словами Омар обрушился на притихших от ужаса и страха от этих слов министров и председателя Национального банка, в кабинет которого он приказал повесить «на вечные времена» фотографию этого мальчугана. Что говорить, и Фиделю Кастро, и Че Геваре, и Фарабундо Марти, и Сальвадору Альенде, и тысячам других подлинных патриотов своей Родины было за что бороться и умирать в огнях латиноамериканских революций и восстаний.
Латиноамериканскую цивилизационную модель интересно и довольно точно, будто предвидев сегодняшнюю ситуацию в мире, оценил изучавший этот континент и его народы американский политик Дж. Кеннан, работавший в конце 50-х годов послом США в СССР. Суммируя свои впечатления от длительной поездки по континенту, он написал так: «Их (латиноамериканцев) лень и необязательность, небрежное отношение ко времени, излишние мечтательность и эмоциональность и талант потопить любое дело в разговорах порождают в конечном итоге слабость их экономик и политических институтов, коррупцию, непотизм и т. п., это правда… Но все же надо признать, что это единственный в мире континент, где человек остается человеческим существом, где нет ядерного оружия и никто не думает о его разработке, где сохраняется огромный запас заповедей, познаний и обычаев, выпестованных в христианском мире и направленных на единение человека с Богом и создание цивилизованных условий существования. Этот континент окажется однажды последним хранилищем и депозитарием человеческих христианских ценностей, которые на европейской прародине и в Северной Америке в результате пресыщения, заорганизованности и ослепления страхом и амбициями оказались выброшенными на свалку».
И в этом молодом (всего-то пять веков) мире возникла и расцвела совершенно особая глыба латиноамериканской культуры с ее поэтами, писателями, художниками, артистами и музыкантами, культура, не поддающаяся слому, несмотря на глобальный натиск массовой псевдокультуры со стороны наследников ее колонизаторов, отрицающих почти мистическую, сказочную и романтическую атмосферу бытия этих новых народов. Эта культура, ставшая частью мировой цивилизации, особенно ярко продолжает держаться на фольклорном уровне, где последним и невозможным для взятия редутом является уникальный музыкальный фон всего латиноамериканского бытия. В Буэнос-Айресе на большинстве радиочастот, в барах и ресторанах царит танго, десятки радиостанций Лимы, Сантьяго-де-Чили, Боготы, Сан-Хосе де Коста-Рика и так далее заполнены самбами, меренге и прочими национальными и классическими испанскими и латиноамериканскими мелодиями и песнями. Совершенно особые непобедимые ритмы и мелодии, песни на мягком португальском повсюду звучат в Бразилии. Вот бы и нам научиться так же защищать в этой траншее битвы за русскую культуру и русский язык свою идентичность, окрашенную к тому же уникальным музыкальным и песенным богатством советского времени.
История наложила на цивилизационный портрет этой Америки и еще одно особое качество – умение и навык, я бы сказал, изящно объединяться по самым разным социальным поводам начиная от карнавалов, похорон и праздничных демонстраций до массовых и грозных социальных протестов и вооруженной борьбы. Мне нечасто приходилось видеть это вживую, но то малое, что мне довелось увидеть, сделало меня убежденным сторонником эффективности массового объединенного протеста. Впервые – в Перу, когда я стал свидетелем разгона полицией митингующих против массовых увольнений муниципальных госслужащих и где потом неоднократно слышал их знаменитое, пришедшее из Чили вместе с песнями Виктора Хара «El pueblo unido jamas sera vencido» («Объединенный народ не победить» – исп.), исполняемое тысячами голосов, как гул из чрева земли, предшествующий страшному сейсмическому удару…
Когда случалось, то я и сам с удовольствием присоединялся к этому ритмичному грозному лозунгу, в котором каждое слово было правдой, как и сам лозунг или речовка, как это называют сейчас. Весной 89-го я оказался в Чили, в дни, предшествующие референдуму о возможности участия Пиночета в президентских выборах, и в одну из пятниц вечером вместе с моим коллегой по поездке с удовольствием участвовал в многотысячном хоре, шествовавшем по центральной авениде Сантьяго – Аламеде, повторяя припев из известной там песни об уходящем от невесты непутевом женихе: «Que se va, que se va» – т. е. пусть уходит, пусть уходит… И он-таки потом ушел, этот генерал-палач, когда официальный референдум подтвердил ему через несколько недель этот всенародный приговор-речовку, к которой присоединился и мой случайный голос… С массовым протестом приходится считаться… и с ним считаются и приходящие к урнам для голосования колеблющиеся избиратели… И если иногда в латиноамериканских протестных акциях случаются столкновения и жестокости, то они все же очень редки. В их латиноамериканских протестных митингах и маршах не бьют стекла витрин и автомашин, не мечут камни и не жгут покрышки, и есть в них какая-то особая красота сплоченности разностей и даже тайного сговора толпы и полиции, окружающей ее и часто делающей эти акции похожими на праздники, чего никак не скажешь о часто попадающих сейчас на экран сценах из европейских, арабских и азиатских столиц, не говоря уже о «майданных» разборках…
Латиноамериканский массовый протест, а в последнее время и не только латиноамериканский, со всеми его цивилизационными, романтическими особенностями имеет в современном мире, на мой взгляд, во многом универсальную единую социологическую основу. Это протест самой массовой для современного мира социальной общности – мелких и средних частных собственников вместе с городской образованной частью общества – работниками образования, здравоохранения, служащими государственных структур, которые тоже являются мелкими собственниками (недвижимости, вкладов, земель и т. п.). Именно эта социальная общность была политической и движущей силой, которая в свое время привела к власти в Чили «Народное единство» во главе с Сальвадором Альенде, в начале нового века обеспечила второй приход к власти сандинистов в Никарагуа во главе с Даниэлем Ортега, привела и поддерживала в Аргентине перонистов – супругов Киршнеров, «Партию трудящихся» во главе с Игнасио де Лула и Дильмой Русефф в Бразилии, Эво Моралеса в Боливии, Энрике Корреа в Эквадоре. Попытки же более радикальных, как бы опережающих время революционных экономических и политических преобразований общества в интересах беднейших слоев населения – восстания в Перу «Сендеро Луминосо», партизан-марксистов в Колумбии, Сальвадоре, Гватемале – нынешняя правящая буржуазия научилась сначала информационно изолировать, а затем жестоко подавлять, приклеивая к этим политическим движениям ярлык так называемых радикалов, экстремистов, а порой даже объявляя их террористическими.
Вот и тогда, в Москве декабря 2011-го, находясь среди огромной массы обыкновенных москвичей, – среди людей наемного труда, служащих государственных и частных контор, не бедных, но и совсем не богатых людей, шагавших от Октябрьской площади по Якиманке и далее к Большому Каменному мосту и Болотной площади, возмущенных тем, что их протест и голос за перемены, отданный в кабинках избирательных участков на выборах в Госдуму, оказался выброшенным из счета фальсификациями прихлебателей у власти, – я почувствовал очень похожее на то латиноамериканское дыханье этого объединенного народа – интеллигенции, среднего образованного класса и мелких собственников, а в смелых лозунгах-речовках я будто услышал знакомое «Эль Пуэбло унидо… хамас сера венсидо» (русский вариант: «Когда мы едины – мы непобедимы»). Либеральная «болотная» накипь потом использовала этот народный протест в своих далеко не патриотически направленных целях, как это часто случалось в нашей истории…
Бывали в истории Латинской Америки второй половины прошлого века случаи прихода к власти левых национально-патриотических и правых военных руководителей. При этом национально-патриотические военные режимы, как правило, опирались опять-таки на ту самую наиболее устойчивую перед оказываемым на нее давлением широкую социальную базу – от средней и мелкой буржуазии и госаппарата создаваемого ими госсектора в экономике до беднейших слоев населения (Веласко Альварадо в Перу, Омар Торрихос в Панаме, Уго Чавес в Венесуэле), а правые военные режимы служили опорой крупным собственникам, тесно связанным с интересами иностранного капитала. Потеря левыми военными поддержки той самой широкой социальной базы приводила либо к добровольному их уходу из власти, либо, и чаще всего при поддержке внешних сил, к их насильственному отстранению.
И с каким бы уважением мы ни относились к ярко выраженному социалистическому выбору Кубы, к ее прошлому и нынешнему руководству, к боливарианской социальной революции Уго Чавеса и другим революциям, нам необходимо признать, что, хотя такие рывки вперед в развитии общества могут вдохновлять даже и после поражений, многообразие форм социальных преобразований в обществе с учетом исторических, экономических и геополитических факторов лишь обогащает поиски совершенствования и самого общества, и человека в нем, а признав это и отвергнув всяческие штампы и шаблоны, надо искать в самой жизни нужные для блага людей решения.