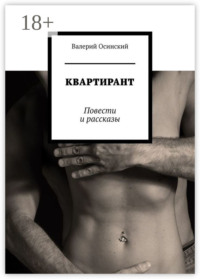Loe raamatut: «Квартирант. Повести и рассказы»
© Валерий Осинский, 2020
ISBN 978-5-4496-2706-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Квартирант
Повесть
1
Когда история открылась, знакомые навесили на мой прежний образ провинциального простачка новый ярлык: подающий надежды негодяй. Их поразил цинизм двадцатилетнего парня, облапошившего «старуху».
Начну с семейства моего московского дяди, младшего брата матери.
Мои ежелетние визиты совпадали с отпускными паломничествами в столицу многочисленных родственников Раевских (фамилия дяди), и стесняли московскую родню. Я от природы ласков, если меня хвалят. Увы – редко! И с годами чаще раздражал дядю колючей настороженностью безотцовщины и прямолинейностью провинциала. Родственные отношения замыкались любезным: «Как мать?» Помню заполночный высокомерный треп Раевских, ассимилированных москвичей в первом колене, на кухне о культурно-политической жизни страны, и неизменный совет тети Наташи, сорокалетней мадам с накладными ресницами и рыжим шиньоном на затылке: «Прочти „Розу мира“, остальное можно не читать!» Тетя преподавала в каком-то техническом вузе по собственной методе, без конспектов: экспромтом зачитывала учебник. Дядя Кадя по образованию инженер, по должности чей-то зам, что для домочадцев делало его фигуру одиозной, считал себя философом. Его метод познания исключал книжные и прочие знания: они засоряли первородную мысль. Дядя, по его выражению, постигал истину внутренним чутьем. Обычно он попыхивал сигареткой и едва слышно, под благоговение присных разгибал вензеля своих банальных несуразностей. Дочери Раевских, мои двоюродные сестры Феня и Катя, круглые троечницы, между кухонным трепом и школой, соответственно с четырнадцати и тринадцати лет, цыганили в кабаках дармовые коктейли у пожилых денежных импотентов. В общем, мои родственники люди добрые и терпимые. Но жили мы разной жизнью. И никак не могли привыкнуть друг к другу.
Тем летом на недостроенной веранде дачи Раевских, в дембельском кителе, увешенном блестящими побрякушками, хмельной от свободы и поцелуев, накопившихся за два года, я по-армейски прямо ошарашил дядю – он праздно заикнулся о моих планах – «Пропиши меня в Москве!»
Что ждало меня дома? Спивающиеся дружки, стареющая мать (отец нас давно бросил), безработица. Вся моя биография: дискотеки, пивбары, похотливые шестнадцатилетние дуры, программно-библиотечные, нудные книги и скука заштатного города. Я еще не знал: люди живут везде, блеск столицы – красочный фасад балагана, где каждый за себя, где тупеют от усталости и одиночества. Я грезил Москвой, удачей, и не думал отступать.
Дядя осторожно спросил: «А что ты будешь делать здесь?» «Не знаю!» Гнетущая паническая пауза и недвусмысленный намек: «Посоветуйся с мамой. Когда решишь, поговорим!» Серая от испуга тетя Наташа усиленно терла виски. «Я узнавал в милиции, просто так меня у вас не пропишут, – доканывал я родственников. – Идти ментом по лимиту – пять выброшенных лет. Да и жить придется у тебя. Не в общаге же. Я говорил с Катей. Ей восемнадцать. У нас разные фамилии. Мы можем фиктивно пожениться…»
Катя курила в кресле-качалке, независимо скрестив ноги лошадиного изящества. Ее прыщавая физия дозревающей девственницы (в целомудрии сестры, правда, не уверен: в квартире давно прижилась проститутка Ия, подруга сестер, а как говорят, с кем поведешься…) выразила готовность вступить в фиктивное супружество.
Блестящая идея жениться на двоюродной сестре потрясла родню. Сироте деликатно объяснили его заблуждения. Во-первых, кровосмешение; во-вторых, Катя с малолетства подозревалась в слабоумии (часто она разгуливала по квартире при мужчинах нагая) и могла ляпнуть, где угодно, что угодно; а в-третьих, жилплощади-то избыток, но на черта я тут сдался?
Закончилось объяснение скандалом. С юношеским максимализмом я решил навсегда порвать с дядей.
Раевские ремонтировали квартиру. В памятную неделю семейных страстей меня поселили в одну из бесчисленных московских многоквартирок к хорошей знакомой дяди, женщине пенсионного или около того возраста, к Елене Николаевне Курушиной. От нее в угрюмом настроении, ничего хорошего не ожидая от жизни, я уехал домой, твердо намериваясь вернуться.
2
Хроническую болезнь мегаполисов – одиночество – каждый лечит по-своему.
Сначала Елена Николаевна цеплялась за работу, затем придумывала обязательства перед московскими знакомыми, еще помнившими ее. Отец Курушиной некогда занимал пост при Подгороном. За стеклом серванта чиновные пиджаки вокруг вождя на групповом фотоснимке растворили неразборчивый лик Курушина. Давно в ее прошлом были университетские разгулы золотой молодежи, муж, мишура жизни. Родители оставили деньги, позволявшие ей не работать. В первую неделю хозяйка рассказала о себе. Нет грустнее истории о жизни, растраченной впустую.
Такой я и запомнил ее: миниатюрную, суховатую, с неизменным пуховым платком на плечах и пронзительными, усталыми, зелеными глазами, подведенными черным карандашом. Она называла меня «дружок», ходила неслышно и легко. Ей было тогда сорок восемь лет.
Погоди, как же это было? Лето, день укрытый теплым московским небом. Дядя ввел меня в ее крохотную квартиру со старомодной мебелью, женщина развела руками и безразлично-любезно сказала:
– Вот, дружок, если тебе нравится, оставайся!
У нее был грудной голос, приятный и тихий. Еще помню пышные каштановые волосы, уложенные вокруг головы. На кухне бормотала радиоточка, а в гостиной звонко тикали декоративные часы в узорном стекле. Я обмолвился и назвал ее Анна Федотовна. Женщина насмешливо вскинула бровь, поправила меня и прибавила «милый Герман».
Что-то во мне тронуло ее. За несколько вечеров, как в поезде с безымянным попутчиком, которого завтра растворит время, мы сблизились.
В день отъезда хозяйка собрала мне гостинцы: продукты, ароматное мыло, махровое полотенце – из щепетильности я отказывался принять. (Но принял!) В поезде мне стало грустно, попросту хотелось плакать.
Уже тогда ядовитый росток замысла отравил ее и мою жизнь.
3
И вот я снова в Москве.
Курушина накрывала на стол. На ней был голубой байковый халат, в волосах яркие китайские заколки. Она пользовалась ими в торжественных случаях.
Я плюхнулся в зачехленное кресло, осмотрелся. Ничего не изменилось. Фаянсовые слоники на серванте, стеклянные часы, диван под лохматой накидкой, цветы в глиняных горшках, книги. Женщина управлялась с тарелками неторопливо и ловко. При ходьбе полы халата открывали белые, стройные икры. Я рассеянно подумал: человеческое тело стареет медленнее лица.
– Что ты намерен делать?
– Я вам писал…
– Да, да, дружок. Извини.
Я украсил письма ей примерно следующим: «…дядей Степой – ни за что!», и «…лучше всю жизнь кочевать в киргизской палатке, чем кланяться на стройке за постоянный штамп в паспорте». Словом, не маялся мятежной тоской о родительском доме. Ни я, ни Елена Николаевна, мы не встречали человека, рвавшегося из Москвы.
Скоро я уплетал ее «фирменные» домашние пельмени с бульоном и черным перцем.
– Знаешь, что я подумала? – вдруг спросила Курушина. Она закурила, облокотилась о стол и внимательно посмотрела на пламя догоравшей спички в своих тонких, длинных пальцах, с алыми, ухоженными ногтями. – У меня есть знакомые. Они обязаны моему отцу. Одно время мы дружили. У них дочь примерно твоих лет. Хочешь, я поговорю с ними. Может, они согласятся устроить ваш брак. Пока поживешь у меня. А там решим…
Забыв разжевать, я проглотил и обжегся. Покосился на женщину. Почему она помогала мне? Хотела удержать? В общем, это ее дело.
– Понадобятся деньги, – подумав, согласился я. – У меня таких – нет.
– После отца остались фамильные драгоценности, занесенные в каталог. Я тебе их как-нибудь покажу. Уникальная коллекция. Подаришь девочке что-нибудь, как от себя. Заработаешь – отдашь.
– Не боитесь, что я обману вас? Вы ведь меня совсем не знаете!
– Боюсь! – полусерьезно ответила она. – Но ты ведь хочешь остаться в Москве? И надеюсь, твой дядя поможет мне с тобой справиться, если что!
Мы улыбнулись.
Я прильнул щекой к руке Курушиной и она ласково пригладила мои волосы.
Но в двадцать лет я уже не верил в бескорыстие людей. Чтобы верить человеку, надо владеть его душой.
4
Перед армией, на День рождения дяди меня познакомили с семьей его институтского приятеля. И их дочерью, моей ровесницей и подругой сестер.
Неля была застенчивая тихоня, худенькая, остроносая, белокурые волосы барашком, малокровное, угловатое лицо. Она стеснялась своей внешности. Но имела собственные суждения и, по-моему, как и я, едва терпела треп Раевских. Папаша – он, кажется, владел швейной мастерской – не скупился на дочь. Неля хорошо одевалась. Мои сестры завидовали ей, и злились, как только начинали говорить о девушке.
Перед армией я два или три раза приглашал Нелю в кафе. В ее присутствии на меня, будто надевали стальной корсет, в голову насыпали опилок, а язык пришивали к небу сапожными гвоздиками. Застенчивость, похоже, и сблизила нас. Из армии, помнится, я написал ей несколько писем.
Почти за два с половиной года я изменился: не Казанова, но и не «одуванчик». Пока, как говорят армейские, я тащил службу, мать, скромный заведующий детсадом, подкопила деньжат и одела любимого сынулю в модное по тем временам барахло. Дорогущий джинсовый костюм «Левис», поляроиды, кроссовки – настоящий «Адидас»! – и золотая нить на шее. Еще старшеклассником, в заношенных, по щиколотки брюках, ненавистных до слез, я ловил на себе любопытные взгляды девчонок. Но воображал их разочарование моей рубашкой, линялой от стирки, и школьным пиджаком, вытертым на рукавах, и трусил. Армейская хэбэшка меняет представления о моде. Короткую стрижку я предпочел нечесаным патлам и козлиной бороденке. Плюс загорел за два месяца пляжного сибаритства в промежутках работы посудомойкой в курортном пансионате.
Назавтра после приезда я отправился в магазин, где Неля (по сведениям двухмесячной давности от сестер) проходила институтскую практику.
Она повзрослела, и, скажем так: оформилась в женщину. Но летние веснушки, ее хрупкие, как птичьи лапки, кисти рук, пушек на предплечьях и застенчивость напоминали прежнюю Нелю.
В кафе «Космос» на втором этаже мы с девушкой отхлебывали из фужеров шампанское и ковыряли оловянными ложечками мороженное в пластмассовых чашечках на длинных ножках. Едва тлевший разговор, казалось, снова сближал нас. Сновали официантки в крахмальных передниках и пилотках, баловались за соседним столом дети, десяток студентов сдвинули стулья и разряжали летнюю духоту взрывами смеха.
Я не сказал Неле о главном: о намерениях в этом городе. В те годы прописка в Москве означала работу на выбор, а не по лимиту, делала «белой костью», в моем представлении, ровней москвичам. Меня не пускали в парадную Москвы, вынуждали изворачиваться между крючками законов. После летних вояжей к дяде мне казалось: москвичи, вежливые и доброжелательные в переходах метро или в двух шагах от нужного приезжему магазина, как пограничники дают отпор вторжению чужих в их мир. Завести связи здесь, как и в любом новом месте, можно через друзей, которых у меня нет. Мои мрачные фантазии изумили б Нелю. Но я боялся открыть ей свой уродливый мир.
Я проводил девушку. И попросил не говорить Раевским, что вернулся.
Ее каблучки гулко стучали под аркой дома. А я, сцепив за спиной руки, думал: ни на Неле, ни на другой девушке, о которой говорила Курушина, я не женюсь. Хозяйка квартиры самая подходящая жертва.
5
Мне помог случай.
У одного писателя есть: в катехизисе добродетелей и достоинств современного человека, способность приобретать деньги, чуть ли не главный пункт. Соотечественники же от века не только не умеют много приобретать, не воруя, но и тратят зря и безобразно. Тем не менее, все хотят пристроится в жизни. Я не исключение. Как многие эгоисты, я ленив и нетерпелив. Хочу всего без усилий. И чтобы не придумала несчастная женщина, или кто иной, мне во благо, я уже подсознательно херил благодетеля. Можно ли положиться на прихоть человека, который вдруг соскучится по своему уютному одиночеству, разгадает во мне негодяя и отшатнется. Не-е-ет, подайте мне в полное распоряжение чужую душу. К чему мне доброта Курушиной! К чему мне проснувшееся в ней материнское чувство! Плевать на него: у меня есть родная мать. Мне нужно было все, чем старушка владела. Мне нужно было «зацепиться» в этом городе. Ведь, дикая, беспредельная власть – хоть над мухой – это тоже своего рода наслаждение. Человек – деспот от природы и любит быть мучителем. Назовете это раскольниковщиной-растиньяковщиной? Глупости! Я никого не собираюсь убивать или обирать ради юродивой идеи общего счастья. Человек должен захотеть сам отдать мне себя. Легкий успех – вот мой идол. В двадцать лет, с меня будет убогой жизни матери, родственников, знакомых нищих и честных дурачков, столетнего преемственного труда, терпения, ума, характера, твердого расчета, аиста на крыше!
А знаете, люблю я людей: мягкий, податливый материал в умелых руках! Овладейте мастерством его обработки, и ваши успехи поразят всех!
В двадцать о женщинах у меня были следующие представления!
Чтобы понравиться им, нужно усвоить несколько общих правил: никаких стереотипов поведения, умение ориентироваться по обстоятельствам, смелее фантазировать, быть остроумным, напористым и неординарно преподносить чепуху. Хитрите, придумывайте самые диковинные фокусы, пластайтесь тряпкой перед женщиной, и впустую, если не поймете сокровенное в ней. А поймете: говорите и делайте банальности, и вам простят. Важно учитывать занято ли сердце женщины, многое зависит от обаяния, от… Да мало ли премудростей известно ищущему человеку. Нет неприступных крепостей, есть бесталанные полководцы. Да! Бог вас упаси изощряться над тупицей. Но если вас привлекают женщины примитивного ума, трафите им: проще мыслишки, чтобы вас поняли, не напугались, и вы в дураках не остались. (Невольный каламбурчик!)
В общем, ничего я, куколка, о женщинах не знал.
На слово поверьте: психически я нормален; во всяком случае, к специалисту не обращался. (Хотя, это не говорит о здоровье!) Те месяцы вызывают у меня отвращение к себе и жалость к старушке. Но даже моему раскаянию лень бороться с подлецом внутри меня. Впрочем, к делу.
Рассуждал я так. Принято, что порнографические фильмы в большинстве смотрят мужчины, а не женщины. Даже на публике мужчина перелистает пикантный журнал, а женщина – нет: от застенчивости, из стыда, брезгливости… Но всякий наблюдательный человек найдет хоть один обратный пример в поведении тех и других. В десять лет на людном пляже я видел, как женщина средних лет, с вислым животом и «спасательным кругом» на боках, прикрывшись широкополой панамой и темными очками, возле мужской раздевалки, ибо, как говорят, негде было яблоку упасть, поворачивалась лицом к решеткам перегородки, устроенной полуоткрытыми жалюзи, когда ячейку занимали молодые мужчины. Позже я с ее угла взглянул на косой срез досок и обнаружил: раздевалка просматривается насквозь, что не заметно на расстоянии.
В сауне пожилая уборщица подглядывала за моим приятелем, настоящим красавцем с хорошо развитой мускулатурой. Он заметил ее и посмеялся: «Пусть кейфанет бабуся!»
А наши детсадовские шалости, нынешние тети и дяди: что мы вытворяли под одеялами, стоило няне отлучиться! Это потом мы повзрослели, закоснели, цивилизация залакировала нашу половую непосредственность! Иногда в постели я спрашивал женщин: стесняются ли они на меня смотреть? Как правило, они хихикали или пожимали плечами, и зыркали под живот, если я поднимался за сигаретами. Думаю, и в пятнадцать, и в семьдесят в здоровой женщине, хотя бы дремлет половой инстинкт. А вот как глубоко он спрятан в ней за моралью, условностями, всем тем, что заставляет людей думать об этом, но не говорить открыто, знает только женщина. И только она знает о своих тайных желаниях.
Природа приятно потрудилась над моей внешностью. Поверьте без доказательств: не клеить же фото. В армии и после я режимил: выполнял ненавистную гимнастику под манометр сиротских песен «мальчиковых» поп групп, обливался холодной водой. Добрые шутники утверждали: кабы я занялся своим телом и надумал сниматься для глянцевых журналов, плакаты с изображением Сталлоне и Шварценнегера обесценились. Словом, был физически развит, и как говорят, хоть не Марчелло Мастрояни, но умел понравиться женщинам.
Первое время на «гражданке» я просыпался в шесть утра, сколько не клялся себе отоспаться за два года службы. По моему подъему можно было проверять часы: без пятнадцати шесть веки автоматически открывались, а мозг спал. Курушина тоже вставала рано.
Накануне мы просидели с хозяйкой за шахматами часов до двух ночи и основательно уигрались. Женщина спала. В комнате с подзвоном тикали часы. Утренняя прохлада сочилась через распахнутую форточку. В дремотной тишине дома чирикание воробьев на подоконнике казалось оглушительным. Ежась от холода, я захлопнул форточку и шмыгнул под одеяло. Сплю я полностью раздетый из соображений гигиены.
Солнце нагрело спальню. Я откинул одеяло: решил поваляться и встать. Тыльной стороной ладони прикрыл глаза, и задремал.
Прошло что-то около получаса. За стеной послышались шаги. Или мне снилось. Тут рядом с диваном скрипнул паркет. Я осторожно приоткрыл веки. Женщина нерешительно стояла надо мной. Под моей кистью не видела глаз. Я из озорства передумал натягивать одеяло. Представил себя глазами Курушиной: юнец в сонной неге; луч золотит выгоревшие волосы на груди; одеяло меж бедер, белая полоса загара, и мягкие, податливые во сне мужские очертания; гибкая кисть, прикрывает лоб, и чуть подрагивает. Может, ей захотелось укутать меня, как мальчишку. Или беспардонное вторжение смутило ее…
Я обернулся. Дверной проем зиял рассветным полумраком.
Спустя час я умылся и вышел на кухню завтракать оплавленными в духовке бутербродами с сыром. Елена Николаевна курила у окна.
– Доброе утро! – приветливо сказала она, и улыбнулась. Одними губами. В квадратной пепельнице из стекла были намяты свежие окурки…
Я боялся взглянуть на ее руки и увидеть на вялой коже светло-коричневые пигментные пятна старости. Но рука женщины с простым золотым перстеньком на безымянном пальце была изящна и гибка.
Этим утром что-то произошло. Что – я еще не понимал.
6
Тем же вечером, еще не успев переодеться после выхода в город, румяная и запыхавшаяся, Елена Николаевна вошла в комнату, где я сонно листал книгу, и живо сказала:
– Они согласны! Правда, Оксана в Сочи и вернется в конце месяца. Родители поговорят с ней. Что ж, подождем, дружок!
Я осоловело вылупился на Курушину.
– А-а, эти! Что же делать целый месяц? Искать Оксане царицины черевички?
Курушина, обиженная сарказмом, пожала плечами и сухо ответила:
– Отдохни, посмотри город, – стянула газовый шарфик и направилась к себе.
Машинально зацепившись взглядом за ее фигуру, я брезгливо представил, как касаюсь губами дряблой кожи, светло-желтой подержанной плоти, обоняю кислую духоту старого тела, обнимаю, вероятно, костлявые, сухие плечи под зеленой синтетической кофточкой и льну к вялой груди…
Тут воображение забилось птицей в силках и замерло.
Так, верно, патологоанатом в морге с рутинным неудовольствием отмывает трупный жир, по неосторожности попавший под лопнувшую резиновую перчатку.
7
С завидным терпением, проверяя свое неожиданное открытие, я прививал женщине вкус к обнаженной натуре. Спал до обеда, или около того. Для этого методично «глотал» тома в их порядковых номерах на корешках. Если Елене Николаевне случалось войти ко мне, женщина неизменно заставала идеально скомканное в ногах сонолюбивого постояльца одеяло, на полу у дивана широченную подушку на четыре мои головы и двухметрового пупсика, бесстыдно разметавшегося во сне. Долгое, ленивое пробуждение сопровождали переговоры через всю квартиру. Наконец, голод пересиливал основной инстинкт, я вскакивал и одевался напротив распахнутой двери. Хитрый стратег пастельных баталий! Беспечно болтая, я зорко следил за мутной тенью хозяйки на полу коридора из кухни. Едва тень прекращала маячить от плиты к столу и от стола к умывальнику, и стремительно густела, я нырял в плавки, и, повернувшись к двери полубоком, невинно натягивал их от колен, будто не подозревал, что женщина, потупившись, торопливо скользит в свою комнату. (Где, наверное, падала в обморок от грандиозных фокусов сорванца: злая шутка!). Юный склерозматик специально забывал в комнате на стуле полотенце, и после душа, как Аполлон Бельведерский, прикрывшись для приличия дверью, просил принести, протягивал руку и невзначай ослеплял женщину наготой. Пропагандировал бесстыдство, как мироощущение современного поколения, о котором Курушина почти ничего не знала. Старательно дразнил в ней женщину.
Мою безнаказанность поощряла почти абсолютная замкнутость нашего сосуществования и разница в возрасте почти в тридцать лет. Конечно, я боялся оказаться в дурацком положении. Кто знает, что она думала обо мне? Но голых-то детей мы не заподозрим в дурном!
Я ругал себя психом. В темноте, обхватив голову, вспоминал свои представления накануне, и горел от стыда. Клялся, что завтра прекращу хулиганить. Но утром забывал клятвы и придумывал новые нудистские трюки, чтобы охмурить бабку.
Курушина же принимала мои ухищрения, как я их и преподносил: рассеянность и больше ничего.
По вечерам мы зевали у телевизора или играли в шахматы. Я балагурил, паясничал, забавлял ее рассказами о дядином семействе, уличными наблюдениями о прохожих. Она укоризненно кивала и повторяла: «Разве так можно о людях?» Но ей была приятна моя открытость.
За продуктами я ходил сам. Курушина наотрез отказалась (к моему тайному облегчению) брать с меня деньги за постой. Иногда мы прогуливались в ближнем парке у пруда.
В один такой вечер она рассказала мне, как умирала ее мать. Где-то одиноко трещала цикада. Квакали лягушки. Из-под декоративных неухоженных кустов и мохнатых каштанов по мутно-светлой асфальтовой дорожке расползался вечерний сумрак. И я подумал: молодость этой женщины закончилась, в сущности, не так давно. Если бы я знал ее раньше, то на моей памяти. Ее любили, целовали. Так же не спеша, брела она с кем-нибудь по засыпающей аллее, и им было хорошо, просто и сладко тревожно. Я так явно представил ее живые, чистые глаза, пышные, густые каштановые волосы, улыбку свежих губ, ее легкую, летящую походку, смятые белые цветы, гибкое, молодое тело, счастье ее юности, что невольно обернулся на трафаретно четкий темный силуэт на голубовато-матовом фоне пруда. И не увидел сутулости и примет одряхления, в которых себя убеждал. Что-то мохнатое защекотало мои глаза и грудь внутри, и я с трудом поборол желание обнять ее. «Бред!» – буркнул я, и видение рассыпалось. Женщина ничего не заподозрила. Отмахиваясь от наседавших комаров, она повернула назад: «Они сожрут нас, дружок!»
Но воспоминания о вечере еще долго беспокоили память, как музыка, мотив которой забыт, а одинокий аккорд звучит.
С утра дождь никак не решался окропить высушенный жарой город. Я сидел в постели, опустив в тапки ноги, и размышлял, как убить день.
– Ты встал, пожарный? – шутливо спросила Курушина, вплывая в двери с пластмассовой леечкой, покосилась – одет ли я? – и, привыкшая к моему расхлестанному виду, отогнула тюлевую занавеску, чтобы полить цветы на подоконнике. Изобретательный молодец сладко потянулся, неторопливо выпутался из одеяла и шагнул к стулу за вещами, как раз, когда женщина обернулась. Курушина остолбенела, спохватилась и порывисто подошла к цветам на балконном окне.
– Ты оделся? – сухо спросила она через плечо.
– М-м-угу…
Тогда она вышла, не взглянув на меня.
Озноб, сопровождавший сумасбродный поступок, сменили стыд и отвращение к себе. Я прибирал постель, вещи, долго плескался в душе: готовился доигрывать эпизод. Придумал десяток отговорок…
И вспыхнул после первой ее фразы.
– Артур, я женщина, – укоризненно проговорила Курушина и затянулась сигаретой. От подоконника, скрестив на груди руки, она смотрела на позор постояльца: я своевременно сел на табурет. – Ты ведешь себя не красиво. Ты уже не мальчик! – Я едва не провалился на первый этаж, но крепился изо всех сил. – Не смотри на меня невинными глазами, дружок. Ты прекрасно понимаешь, о чем я! – Ее губы кривила ухмылка. – Я заметила еще в первый день! (Что она заметила, ослу понятно!) Ты перед матерью ведешь себя так же? Не знаю, может у вас это принято…
– Нет, перед матерью нет! – пробормотал я.
– Есть такая болезнь…
– Да нет же! – уткнув пылающее лицо в ладони, я шумно выдохнул через нос. И тут – озарение! Во мне проснулся актер. – Со мной такое впервые. С первого дня, когда я вас увидел, мне хочется прикоснуться к вам. Я говорю ерунду, правда? Но, но… – я сглотнул, и, потирая прикрытые веки (какой пассаж!) унял дрожь в голосе, -…я не могу избавиться от наваждения.
Курушина побледнела и прищурилась от струйки сигаретного дыма.
– Да, – она кашлянула. – Давай, Артур, забудем этот разговор! – Она поняла мой отчаянный стыд и помолчала, чтобы я успокоился.
Но я не унимался и вкрадчиво произнес:
– Если вам сразу не понравилось мое поведение, почему вы не сказали об этом в первый день?
Курушина нахмурилась, и щеки ее порозовели. Но вдруг она неслышно засмеялась, и обхватила ладонью подбородок. Кружевной край ее ночной рубашки выпорхнул из рукава. Так же быстро женщина успокоилась, и все с той же иронией в глазах посмотрела на квартиранта.
– Ловелас, да ты настоящий Ловелас! – Она укоризненно покивала. – Ешь, картошка совсем остыла! – Погасив сигарету, она легонько пихнула мою голову.
У меня было ощущение, будто я пытался обмануть себя.