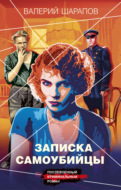Loe raamatut: «Вор крупного калибра»
© Шарапов В., 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Бывалый сержант Остапчук сообщил, что с фронта прибыло крупное пополнение, причем все как на подбор – командиры разведрот, штрафбатов, волкодавы-чистильщики, а кто-то клялся, что видел одного с дипломом юриста, но это не конкретно.
– Я так понимаю, Серега, спустят тебя обратно в участковые, – заметил старший товарищ, балуясь кипяточком с превеликим аппетитом.
Акимов возмутился:
– Это с чего вдруг?
– А с того, что с висяками у тебя глушняк, – скаламбурил Остапчук, собирая хлебные крошки и посылая их в рот. – Кроликов бабкиных отыскал? Нет. А «эмку» этого, как его… заслуженного пенсионера наполеоновских кампаний? Который кровь мешками проливал. Ну, ты помнишь. А этот, теткин пропавший отрез, как его, черта аль гиппопотама?
– Мадаполама, – угрюмо подсказал Сергей. Да, эта мадамочка со своей мануфактурой попила у него кровушки.
Сержант продолжал изгаляться и перечислять, тыча пальцами в больное, а Сергей, хотя и скрежетал зубами, внутренне был вынужден признать, что во многом товарищ прав. Он огрызнулся лишь для проформы:
– Хорош гнать-то, – и замолк.
Потому что мыслишка упрямая грызла: а ну как и вправду? Тогда крышка. Полная профнепригодность. А еще и позор. Потому что прилюдная выволочка получается: его, боевого офицера с удостоверением годичных курсов следователей, который, как ни крути, все-таки обезвредил банду домушников, спустить на землю, как в сортир? Тогда уж лучше сразу копать канал какой.
«Да вот пусть попытается, черт кривой. У меня благодарность от самого генерала. Пусть только попробует, иначе…» – храбрился Сергей.
«Иначе что?» – насмешливо вопрошала совесть.
Сам перед собой он должен был признаться: да, с раскрываемостью у него – швах. Фортуна следовательская – дама переменчивая, любит долгие ухаживания, терпение и труд.
У него, Сергея, с ухаживаниями не ладится. Не получалось как следует общаться с людьми, да и работа со свидетелем упрямо не давалась. Потому что тут требовались не быстрота, не нахрап, а умение промолчать, выслушать, подход найти, не напугать, а то и прогнуться. Когда и вдарить мотыгой, но лишь затем, чтобы расчистить русло для потока информации, направить его, куда следует, – и выудить нужное.
И размышлять, честно говоря, он еще не умел. И соображать, понимать логику происходящего, мотивы чужих поступков, не владел наукой выявлять причины и следствия (а то и путал их местами), хватался за первую попавшуюся версию и увязал в ней, по-детски не допуская вариантов.
Всему этому надо было учиться, но для начала – признать себя неучем, и было это безумно трудно.
И вот настал день, когда новое начальство потребовало его к себе. Акимов, намертво придавив сомнения в собственной профпригодности, заносчиво выслушал констатацию того, что и сам знал, – низкий процент, все сроки прошли, жалобы и прочее. Вздернув подбородок, заявил, чуть не звеня от злости:
– Разбираемся как положено. По документам, по удостоверению я – следователь.
Новый начальник, капитан Сорокин Николай Николаевич, был, как и предупреждали, не сахар. Кривой, придирчивый, въедливый. Глаз, говорят, ему еще до войны выбили, поэтому для фронта его забраковали. Все это время он, как с тайным высокомерием полагал Акимов, кантовался по тылам (по чьим, правда, не уточнялось). И вот этим-то единственным глазом – острым и красным от постоянного недосыпа и табачного дыма – он смерил Сергея с макушки до ног, как бы прикидывая, с чего приступить к потрошению. И начал с главного:
– Ты, товарищ Акимов, личинка, а если совсем по-народному, по фене, значит, то – салага. Не скажу «шестерка».
– Да я… – вскинулся Сергей.
– Ты про банду домушников? Так брюхо-то старого не помнит, друг мой. Было и прошло. Можешь забыть, а накрепко другое запомни: твои достижения, и в особенности курсы твои, – это тьфу и растереть. Уровень твой покамест – участковый на земле. На самой что ни на есть окраине, понял?
Акимов, играя желваками, молчал, но уши уже начинали гореть.
– И не вздумай бахвалиться, строить из себя крайнюю справедливость. Мол, я бы сажал, да по рукам дают. Знаю я вас: вчера вылупились, торбохвата грязного заловили случайно, по его же пьяни, прокурор по шапке надавал – отпустили. И на те, ходят по пивнякам, гимнастерки рвут на грудях: мы, мол, ловим, а оне отпускают.
– Да я… – снова всколыхнулся Акимов, и снова Сорокин прервал его:
– И про «я» забудь. Букву эту забудь. Есть «мы», органы. Мы, милиция. И мы, милиция, на то и работаем, чтобы «оне» не были вынуждены отпускать. «Оне» – это которые пусть и с опытом, и высшим образованием, а, представь, тоже служат такому же советскому правопорядку, законности. Или хочешь сказать, что прокурорские, судейские – наши, советские люди, – спят и видят, как бы всех кровососов – да вновь на волю?
Акимов покачал головой: эва куда руководство занесло, в какие высоты.
– Значит, так. Ты не просто преступника берешь, вываливаешь, как самосвал, – во, я привез, дальше сами-сами. Твое дело – спеленать его так, чтобы у других служителей закона нашего, Основного Закона, – будь то прокурор, эксперт, суд, – были все основания полагать: вот он, преступник, а ни в коем случае не неповинный, честный советский гражданин. Ясно?
– Да не совсем. С одной стороны, вы…
– Я? – прищурился Сорокин.
Вот клещ одноглазый!
– Руководство, – поправился Акимов, – настаиваете: давай скорее, выявить и задержать. А теперь, оказывается, не только держи-хватай, надо еще работать и за людей, как вы правильно говорите, с опытом и высшим образованием. Прокурорские, эксперты, суд – это все потом, а я – первое звено, основа, и от меня все зависит, и если я где напортачу, то все правосознание рухнет. А как мне вот это все обеспечить, без образования и всего такого? Как это вы себе представляете? Технически.
Сорокин внимательно выслушал и скривился, подняв ладонь:
– Все, достаточно. Хитренький ты жук, Акимов. Излагаешь гладко: то есть вы меня не так выучили, а спрашиваете, так?
Акимов начал понимать, что зря он все это начал.
– Теперь возвращаемся к тому, с чего начали: твои курсы следователей. Выучили тебя, друг мой, а дальше – именно сам-сам. Развивайся, анализируй, образовывайся. Чтобы не остаться чуркой с глазами. А главное: с людьми разговаривай, общайся, изучай людей. Стань для них не просто своим или таким же, как они. Им стань. Или ими. Вот с кем общаешься, тем и становись. Только так можно по-настоящему в душу влезть, так, чтобы люди сами к тебе шли, сами просили выслушать. Понял?
– Тогда, так получается, проще при задержании того… предупредительный в голову, а второй уже – в воздух, – проворчал Акимов.
– Давай, милый, давай, – поддакнул Сорокин, – если совести, правосознания, – да и – что экивоки разводить – ума не хватает, так и пали́. Людей-то у нас еще много осталось, всего-то двадцать миллионов полегло. И тот, по которому палишь не разобравшись, без достаточных на то оснований, он-то, конечно, ничей не муж, не сын, не брат, не руки рабочие. Чего его жалеть.
Ненавидел Акимов такие вот разговоры. И повороты такие. Ведь чувствуешь свою правоту, понимаешь, что в целом прав. А вот на деталях, на косвенном – берет начальство и так вдруг все повернет, что вот уже и уши не краснеют даже, а пылают.
– И что ж, выходит, саботажник я, а не опер? – тяжело, точно булыжники языком ворочая, проговорил он. – Удостоверение на стол, кайло в руки?
– Вот видишь, доходит до тебя, – одобрил капитан, – начал понимать, чего на самом деле стоишь. А все потому, что опыт. Ты боевой офицер, летчик, человек с высокой степенью ответственности. Самолет тебе доверяли, плод труда тысяч человек. Вот и со всей ответственностью спускайся на землю. Мотай на ус. Ты не думай, что я тебя в ковер закатываю, издеваюсь, ты же сам командовал, понимаешь…
– Я и не думаю.
– Вот и молодец. А то приходит иной пацан, понимаешь, из тех, кому под танки хотелось – да не успели, ему бы пистолет да гранат побольше. И работу свою видит не как созидание, а как разрушение: сплошная погоня, засада, пальба-поножовщина. Будет что девчонкам рассказать…
Сорокин оборвал свою речь и прищурился:
– Сам о таком мечтал?
– Нет, конечно, что я, не понимаю? – огрызнулся Сергей.
– Вот я и говорю, – мирно продолжал Николай Николаевич, – то, что для кумушек на лавочках да для девочек на танцах – героизм, то для нас, сотрудников советских правоохранительных органов, – топорная работа, нечеткие действия при задержании, а то и саботаж. Понимаешь, о чем я?
Акимов заверил, что понимает. Хотя не очень.
– Поспешил. Спугнул. Недоучел. Доказательств мало. Ты пойми: преступник – он не дурак. Если ты все сделал как надо, и он сам понимает – нет надежды, нет лазейки, то он и сопротивляться не станет. Зачем? Одно дело, если невменяемый – тут я не спорю. Но это исключение, не правило, а на деле нормальный человек – даже головорез – понимает: если все доказано, то идти некуда. Все равно возьмут, только уже с прицепом: сопротивлялся при задержании. И нарисует прокурор – я тебя уверяю, с превеликим удовольствием, – уже не восемь годков, а все десять.
Акимову показалось, что он все-таки уловил какую-то неувязочку, и не преминул по горячности вставить:
– Прям так-таки некуда идти, Николай Николаевич, скажете тоже. Годами бегают…
Сорокин аж руки потер от удовольствия:
– Прости. Про таких, как я, говорят: связался черт с младенцем. Ждал я твоей ремарочки. Но ты же сам понимаешь, как еще учить-то вас, умников? А на твою реплику отвечу так: если прямо сейчас кто и бегает, то ненадолго это. Эх ты, следователь! Не было тебя под Берлином в марте-апреле сорок пятого, а то бы…
Акимов насторожился: как же, говорили, по тылам одноглазый кантовался?
– А то бы что? – осторожно спросил он.
– Да ничего. Это со стороны казалось: крах, паника, толпы беженцев. Что ты! Осведомители работали как часы, о каждом информация поступала минимум из двух источников – от соседа и от жены… ну, не важно. Идею понял?
– Не совсем.
– Поясняю еще раз для особо одаренных, – терпеливо сказал Сорокин. – Если в агонизирующем рейхе система надзора карательного государства продолжала работать в лучшем виде, то как ей не работать у нас, в стране, спаянной военными годами, Великой Победой, совместным трудом?
Начальник поднялся, прошелся по кабинету, встал у окна, опершись на подоконник.
– Бегают, говоришь? Ну, пусть бегают, пока есть чем… Бегают, само собой, людей убивают, документы подделывают, да и есть где приткнуться: Западная Украина, Молдавия, Прибалтика, да и Сибирь. Но я тебе так скажу: недолго им бегать, если каждый из нас на своем месте, в своих пределах будет бдительным. Само собой, по тайге, по тундре, да и просто в лесу, еще не разминированном, есть где сховаться, только ведь пытку одиночеством мало кто снесет. Оно, одиночество‐то, страшнее голода и тюрьмы, даже самого строгого режима. А среди людей не утаишься, и с каждым годом все труднее и труднее будет.
– Это почему ж так?
– А потому что работает система. Прописка. Паспорта даже в деревне. Потому что и сейчас и в участковых, и в отделах кадров такие зубры сидят – похлеще смершевцев. Потому что проходные с вахтерами, общежития с комендантами, потому что лесники, сторожа со сторожихами – это не считая бдительных пионеров! Вот с этими, мой тебе дружеский совет, в контакте всегда находись. Бесценные ребята. До всего им дело есть, до всего докопаются, все примечают. И от чистого сердца желают родине послужить. Ясно?
– Так точно.
– Вот так и служи, – подвел черту Николай Николаевич. – Времена трудные, квалифицированных кадров нехватка, бандиты да ворье распоясались, неучтенного оружия фронтовики понавезли, да и после победной амнистии… да. Поднагадили нам. Теперь так. Тут сигнал поступил с Летчика-Испытателя. По дачам лазают. Вот отправляйся туда и разберись, что там да как. Помни только, что там не простые люди, а со связями. Покультурнее, в общем. Проявишь себя как следует – вопрос о том, чтобы на землю тебя спустить, рассмотрим в положительном для тебя ключе. Усек?
– Усек, – угрюмо ответил Акимов.
– Свободен.
* * *
Правильно говорят: беда не приходит одна. Сначала Батошку – Анчуткину подобранную собаку, которая работала грелкой, спала между друзьями-огольцами, – заловили в собачий ящик, потом, прямо перед самыми холодами, свалилась новая напасть.
Власти принялись за разбор завалов. Это как раз когда зима на носу и по ночам уже мерзнешь до костей. Что им приспичило прибираться именно сейчас? Что тут строить, на окраине? Это там, в центрах, возводили огромные дворцы с потолками по три метра, где-то вырастают целыми кварталами трех-, четырех-, пятиэтажки с уже подведенной водой, сортирами в квартирах, с батареями… врут, наверное. Кому это все строить? Где рабочие руки брать? На какие шиши?
Как-то раз, когда уже хорошо подморозило и без Батошкиной шубы у друзей зуб на зуб не попадал, послышался рев мотора и кашель выхлопа, и, выглянув в оконный проем, увидели Анчутка и Пельмень целую армию, как в газете на фото про Сталинград.
– Глянь, фрицы, – просипел Яшка.
Он никак не мог согреться, и старая хворь одолевала его с новой силой: чуть пошевелишься – и кашель, чуть успокоишься, прикорнешь – и свист в груди.
– Что, опять? – возмутился Анчутка, откашливаясь.
– Расстрелять паникера, – скомандовал Пельмень. – Не сопи. Вон наши, со стволами.
Тревога, естественно, оказалась ложной. Просто на окраину доставили пленных на разбор завалов. Было их человек… немало, вполне нормально одеты были фрицы, даже в большинстве своем выбритые и постриженные, как есть не вшивые, а стало быть, и не тифозные. Бодрые, а главное, в целом упитанные.
– Беда, слушай, чего-то вертухаев маловато, – заметил Андрюха.
– А чего ж много-то, куда им деваться? Куда им бежать-то? – рассудительно заметил Яшка.
– Ну, это… нах вест?
– Скажешь тоже. Ну и добежит до первого угла, а там его моментом разъяснят.
Пельмень, подумав, согласился: так-то охрана защитит, не даст на расправу, а бежать фрицам до хаузе далеко и незачем. Зима скоро, да и куда деваться без языка и документов.
– Лодыри. Трудно, что ли, язык русский выучить? – недоумевал Яшка.
– А еще говорят, трудолюбивые, мол, фрицы, – заметил Пельмень. – Еле ползают, а ряхи вон поперек шире. Ночи три-четыре еще спокойно можно перекантоваться, а там поглядим, может, и похиряем в соседний квартал. Пока еще до нас доберутся.
Полдня отработали пленные, разбирая завалы, и Анчутка с Пельменем, которые уже перестали их опасаться, оценили качество их труда и масштаб работы и решили, что никакого смысла нет смываться прямо сейчас.
– Еле клешнями шевелят, – констатировал Анчутка, – только глаза мозолят. Принесла их нелегкая. И так мерзнем до полного окоченения, а теперь уже куда деваться.
Снова послышался шум мотора, отстреливалась очередями прогоревшая выхлопная труба, прокрякал клаксон. К развалинам причалила – совершенно определенно – кухня! Пленные моментально закончили и без того неторопливую, без энтузиазма, работу, зато быстро и четко, как на плацу, выстроились в шеренгу на раздачу.
– Только глянь…
– Вот твою ж бога душу…
Пацаны матерились, подбирали слова, делились впечатлениями: а как иначе? Что ж за дела-то на белом свете? Покрасневшие, сопливые носы услужливо сообщали ссохшимся кишкам: похлебка мясная, каша и… масло! И кому?!
– Жируют фрицы, – завистливо цыкая зубом, процедил Яшка. – Народ-победитель с голоду подыхает, а они…
– Ну мы ж не они, – заметил Пельмень, сглатывая слюну, – пленных голодом не морим.
Дурманящие ароматы туманили мозги, так и хотелось проскользнуть ужом между битым кирпичом, нырнуть с головой в этот дымящийся чан – и жрать, жрать, глотать, обжигаться. И пусть хоть убивают потом.
По счастью, остатки разума и жизненный опыт подсказали, что не то что нырнуть – добраться до чана не получится. Во‐первых, далеко, во‐вторых, Яшка, вот уже месяц перхающий, как старая овца, на полпути упадет, а то и вовсе откинется. Ну и охрана, хотя и мало их, что ни говори, а все ж бдит…
Бдил и тот, что на раздаче. Фриц. Точнее, половником орудовал наш, но рядом стоял пленный и каждую миску-кружку отмечал по бумажке. И не только посуду с хавчиком отмечал, но и кто по сколько раз подошел.
Кто-то из гансов пытался протиснуться за добавкой, но этот, с бумажками, мигом осаживал. Десяти минут не прошло, как на этого держиморду ругались уже все – и раздатчик, недовольный тем, что его заставляют половник заполнять не как получается, а точно как положено, и пленные, которые хотели жрать, а не стоять в очереди. Да и охрана косилась неодобрительно.
Этому, что с бумажкой, все было нипочем.
Возможно, потому, что остальные были в пижонистых кепчонках с пуговками и хлипкими ушами, а этот – в удивительной шапке, похожей на островерхий конус, из серебристо-серой овчины, да еще и в советской шинели, которая оборачивалась вокруг него чуть ли не вдвое. Перетянута она была ремнем с пряжкой, с которой был спилен орел.
Вот он стянул варежки – именно варежки, причем тоже наши, трехпалые, – и в глаза бросились удивительные руки с бесконечными пальцами. Которые немедленно побелели, потом посинели – видать, приходилось уже отмораживать.
Высокомерно игнорируя выступления, фриц успевал проконтролировать все – и количество жратвы в каждом половнике и в каждой миске, и соблюдение очереди, и физическое состояние товарищей, и кто сколько на выходе получил щец и хлебушка.
– Ты ручки им еще проверь, – проворчал Андрюха, – помыли – не помыли. Да, с таким клещом на сторону фиг что перепадет.
– Унтер какой-нибудь, из бывших, – предположил Яшка, – ишь как хлебалом дергает. А уж фуражка-то! Истинный ариец.
Они прыснули, но тотчас захлопнули рты – напрасная предосторожность. Ветер, гуляющий по развалинам, свистал разбойником, заглушая все звуки.
Раздача между тем медленно, но подходила к концу, последним свою пайку получал именно «унтер». Мстительный раздавала не преминул этим воспользоваться – плеснул прямо на самое донышко, да не в миску, как прочим, а в какую-то консервную банку, снегом наспех протертую.
Только было слышно, как он хабалисто вякал: «Где я тебе миску возьму? Ишь, фон-барон. Бери что есть». Обделенный фриц лишь дернулся, но не произнес ни слова.
«Размазня, – подумал Пельмень. – Уж я бы не промолчал, это факт… А молодец мужик: голодный, а сначала проследил за тем, чтобы не обделили товарищей, а потом еще жрет последки и добавки не требует».
Поскольку от него до «бруствера», за которым таились Анчутка с Пельменем, было не более полусотни метров, легко было видеть, как фриц застилает бетонную плиту газеткой, расставляет свою пайку, достает из недр шинели склянку…
– Бухло? – удивился Анчутка. Пельмень лишь плечами пожал, сбитый с толку не менее товарища.
«Унтер», взболтав склянку, плеснул из нее на замерзшие, по-покойницки синие пальцы, – в морозном воздухе аж зазвенело от сильного запаха.
– Шнапс, что ли? – прошептал Яшка.
– Сам ты шнапс, одеколон, – со знанием дела поправил Пельмень. – Ишь ты, ручки начищает. Что боишься-то, такой заразой и микроб побрезгует…
Не выдержав, хихикнул, и Анчутка прыснул – и очень зря это сделал: хапнув ледяного воздуха, немедленно зашелся в кашле.
Напрасно шикал друг: «Цыц ты, холера!» и прочее, напрасно Яшка зажимал рот и ужасно пучил глаза. Приступ не утихал.
Хорошо, что фрицу не до того было: закончив «сервировку» и сняв папаху свою распрекрасную – ну и уши же у него оказались! Локаторы! – он сложил руки, отвернулся к стене и на какое-то время замер.
– Чего это он? – шепнул Яшка, а Андрюха проворчал:
– Набожный. Небось, когда в наших девок-детишек пулял, тоже боженьку на помощь звал, черт… Черт! Да тихо ты!
Яшка, обессилев от приступа, привалился к стене. Кладка, обветшавшая от времени, взрывов, дождей и морозов, немедленно капитулировала, из-под Анчуткиных субтильных лопаток, словно пот, струйкой заструились пыль, камешки и прочая дрянь сыпучая. Тут еще, как назло, ветер попритих.
Фриц безошибочно – ишь, в самом деле ушастый – глянул в сторону шума, отложил ложку, которую только-только натер какой-то тряпочкой, и направился к ним.
– Тикаем! – вякнул было Пельмень, но Анчутка лишь руками развел, дыша со свистом. Андрюха пошарил по полу, нащупал увесистый камень, приготовился… хорошо, что это был не каратель с автоматом в руках, а пленный, в смешной папахе и советской шинели. И потому-то не влетел камень в высокий лоб, не брызнули на кирпичи тевтонские мозги, – и фриц просто подошел и заглянул за «бруствер».
Некоторое время они разглядывали друг друга: три оборванца, обмотанные чужим тряпьем.
Глаза у фрица оказались зелеными, как неспелый крыжовник, аж скулы свело, а лицо изуродованное: прямо по левому глазу, через лоб ко рту, проходил глубокий шрам. Разорванная и небрежно заштопанная губа вздернута, и лицо в итоге выглядит как маска на городском театре: одна сторона скалится в улыбке, другая пусть и не плачет, но мрачноватая.
И взгляд у немца был такой люто-голодный, пронизывающий, что Пельмень, позабыв о камне, пролепетал:
– Дяденька, нихт шиссен.
«Унтер» хмыкнул, выдал что-то на своем собачьем наречии, ворча, вернулся к своему «столику» и, когда подошел снова, протянул пацанам свою консервную банку.
– Отравить хочет, – быстро сказал Яшка.
– А покласть, – немедленно отозвался Андрюха.
И торопливо, но по-братски, по глотку на каждого, они сожрали фрицеву пайку – из подзадохшейся капусты, это да, но на мясном концентрате, сытном, ядреном. Было похлебки ничтожно мало, но все-таки лучше, чем ничего.
– Фсе? – спросил «унтер» и щелкнул своими удивительными щупальцами. – Тай.
Пельмень протянул ему посуду.
– Данке шон, – поблагодарил образованный Яшка и закашлялся.
И снова «унтер» зыркнул крыжовенными буркалами, вздохнул и, вытащив из кармана, вручил Пельменю кусочек хлеба, прозрачный, как осенний лист.
Впоследствии, уже взрослым, Андрюха сам себе признавался, что в этот момент был готов запихать в себя и эту скудную пайку, проглотить до последней молекулы – и плевать и на то, что протягивает хлеб смертельный враг, и на больного Яшку.
Однако так пристально, оценивающе смотрел фриц, что не посмел Пельмень опозориться, понял своим замерзшим и скукоженным умишком, что нельзя так. Бережно, по крошечке, он честно и поровну разделил пожертвование и немедленно заметил, что оскал фрица стал улыбкой. Синий от холода и голода, он как будто весь засветился ею, до самых оттопыренных, как в прошлой жизни мама замечала, «музыкальных», ушей. Хлеб был непривычный: не черный, не светлый, а какой-то серый, не магазинный, видать, из какой-то особой пекарни.
Раздался крик охраны: «Кончай перерыв! За работу». Фриц, собирая со своего «стола», выдал еще одну длинную тираду, в которой прозвучало «шпиталь», «швинзухт» («Больной свиньей ругается?» – подумал Анчутка), но, понимая, что говорит впустую, поспешил за зов.
– Тикаем, Андрюха, – поторопил Яшка. – Ща вертухаев приведет.
– Да хорош, – лениво возразил друг. – Ему-то на что? Ох и хорошо-то как!
Они прислушивались к своим внутренним ощущениям, к таким довольным желудкам. Радость оказалась недолгой, воспоминания о похлебке испарились очень скоро, и есть захотелось с новой силой.
К вечеру на промысел Пельменю пришлось идти одному, Анчутка совсем расклеился. Потом он всю ночь дрожал, не мог никак улечься, что-то приговаривал во сне и кашлял, кашлял, кашлял. Андрюха начал серьезно подозревать, что надо бы другу в больницу – а там как кривая вывезет, пусть в детдом, и там люди живут, говорят. Однако стоило наутро завести разговор, как Анчутка взбесился и зашипел:
– Только заикнись об этом, задушу ночью! Ишь чего удумал. Лучше тут подохнуть!
– Да тихо ты, – увещевал друг. – Не хочешь – не надо, только не ори. А то, слышь, снова едут!
И снова прибыл транспорт и вывалил немцев, которые неторопливо разбирали завалы, сновали с тачками, орудовали лопатами. И вновь появился «унтер» в папахе. Сразу по приезде он оторвался от своих и от охраны – было очевидно, что конвоиры не особо беспокоятся о том, что он надумает бежать, – направился к «брустверу». Убедившись, что его знакомцы на месте, вернулся к работе.
В этот раз во время обеда при раздаче «унтер» вел себя склочнее. Раздатчик поливал его отборными матюками, а тот огрызался плотными, хлесткими очередями, вставляя русские термины, – и, странное дело, в дуэли победил фриц. Выбив в качестве репараций не один, а три половника, – и не только котелок, но и три пайки в него выбил, – он, не обращая внимания на крики в спину, отправился к «брустверу».
– На, – кратко скомандовал он, подавая котелок, практически полный, – фрест, шнелле.
Пацаны поняли без переводчика. Они, чуть не с ногами влезши в посуду, уничтожили пожертвованный харч. Благодетель при этом выдавал какие-то ценные указания, то тыча в Яшкину грудь, то изображая повешение (или самоудушение?), употребляя русские народные слова, обозначающие «кирдык». Потом извлек из кармана какую-то жестянку и пантомимой принялся изображать: мол, это надо пить с горячим.
– Где я тебе горячее-то найду? – возмутился Пельмень, внимательно следящий за разъяснениями.
«Унтер» огрызнулся новой порцией разъяснений и мата, в которой проскальзывали уже знакомые «шпиталь», «швинзухт» и понятный без переводчика «капут».
– Сдается мне, он за больничку болтает, – заметил Яшка угрюмо. – Или госпиталь, или капут.
– Йа, йа, – кивнул фриц, в том смысле, что судьбу свою Анчутка понимает вполне правильно. И все совал в руки свою жестянку. Пришлось взять.
Покликали всех снова на «арбайтен», фриц поднялся, указал на пол, потолок и стены, затем ткнул себе в запястье, в отсутствующие часы, и, наконец, помахал руками, как бы сгоняя мух. Сдернул чудо-папаху, нахлобучил на голову Анчутке – и скрылся с глаз.
– Эва как, – вдумчиво произнес Пельмень. И замолчал.
Яшка прогудел из-под овечьего конуса:
– Грит, завтра тут разбирать начнут. Валить надо.
– Надо – свалим, – флегматично заметил Пельмень, рассматривая подарок. Под крышкой оказался перетопленный желтоватый жир.
– Вот это дело, – оживился Яшка, – это ж надолго хватит, если по чуть-чуть. Жир, он сытный.
Андрюха возразил:
– Э, нет. Лекарство это понемногу надо. Я так понимаю, что это жир собачий. Его от кашля и зэки принимают, все знают. Фриц все повторял – «хунд», «хунд» – это собака. Точняк говорю. Его и с горячим пить надо, как он показывал.
– Не стану, – упрямо заявил, надувшись, Яшка. – Может, это вообще Батошкин.
– Станешь, – таким же манером уверил Андрюха. – Ручки-ножки повяжу да в глотку засуну. Больно надо мне тебя хоронить, мороки много. А что до хазы, есть у меня одна идейка.
* * *
Андрюхиной идейкой оказался поселок под названием Летчик-Испытатель, располагавшийся в небольшом лесном массиве, сразу за железнодорожными путями.
Далее до соседней области тянулся серьезный лес, и ходить туда было небезопасно. Там и в мирное-то время пошаливали, а после войны до него саперы еще не добрались.
В этот светлый лесок и до войны наведывались за грибами, ягодами, орехами, хаживали туда и в военные годы. И пусть за это время в поисках съестного все сильно повытоптали и повыломали, но лес остался, пусть и подлесок сильно поредел. После Победы герои-летчики – так рассказывали – получили от товарища Сталина это место под дачи. Было ли это именно так или как-то иначе – никто не ведает, в любом случае массив нарезали на участки и выделяли их отставному офицерству не ниже полковников. Встречались и генералы. Поселок был невелик, всего пять улиц – Летная, Пилотная, Нестерова, Чкаловская и Гастелловская, – но летом заселен бывал довольно густо. Все теплое время там кипела жизнь, а чуть холодало – окна-двери заколачивали и съезжали на винтер-квартиры.
Пельмень, понаведавшись сюда несколько раз, выяснил, что зимовщики остались только на Летной и Пилотной, а на Нестерова, Чкаловской и Гастелловской было безлюдно. Вот одну из дач – одноэтажный скромный домик с мансардой и верандой, зашитой досками, – Андрюха и облюбовал под зимовку. Тем более что ворота и парадная калитка заперты на огромный амбарный замок, а задняя дверца, то есть та, что на задах двора, выходящая в лес, закрыта была всего-то на крючок.
– Курам на смех. Крючок долой, втихую снимем пару досок, – объяснял Пельмень, – пролезем – и порядок. Оно, конечно, насчет печки не уверен, можно ли топить. Хотя, если не раскочегаривать, может, и не заметят. Мороза еще нет, дым валить не будет.
– Вот беда-то, – боязливо отозвался Яшка. После месяца в холодных развалинах уж так хотелось погреться у настоящей печи, но было все-таки страшновато: а ну как завалит сердитый хозяин с пистолетом? Однако ради того, чтобы поспать в тепле, можно было и побояться.
Анчутка решился:
– А знаешь что? Да хрен с ними со всеми, сразу-то не выгонят, не увидят. Где, ты говоришь, зимуют?
– На Пилотной и на Летной точно, почту им туда носят.
– Ну так это где. Кто может увидеть-то? – неубедительно, но уверенно рассудил Анчутка. – Через парадное мы ходить не станем. А если кто с главной улицы будет заходить – так сразу увидим. Тикаем через лес – и всего делов.
На том и порешили. Дождавшись ранних сумерек, пробрались к задней калитке, без труда откинули ножиком крючок, отжали пару досок, которыми была забита веранда, и проникли в дом. Внутри было темно и уютно, пахло сухим деревом и хорошим табаком. То ли сама постройка была возведена на совесть, то ли не так давно хозяева съехали, но было довольно тепло. Сама обстановка простецкая: на первом этаже – одна большая просторная комната, и лестница шла наверх. Правда, что там наверху – неясно, ход забит листом фанеры, чтобы тепло не уходило, но вряд ли там было богаче, чем на первом этаже. Главное, что имела место – Анчутка вздохнул так, как будто чаша его счастья переполнилась, – великолепная печь-голландка, выбеленная, отделанная кафелем, с чугунной конфоркой да начищенными отдушинами, которые до сих пор поблескивали.
– Это хорошо, что не русская и не буржуйка, – со знанием дела пояснил Пельмень, рыща в поисках дров, – меньше будет дыму…
Предусмотрительные хозяева даже топливо уложили в сенях, и сами дровишки были отменные, никакой осины – береза и елка.
«Живут же люди, – дивился Яшка, оглядываясь. – Красота-то какая!»
Никаких особых сокровищ тут не было, но само помещение – с полукруглым эркером, отделанное деревом, – было таким просторным и уютным. Видимо, его использовали как кухню и как гостиную. Красовался породистый, под потолок, буфет. Тяжелый диван, кожаный, с салфеткой на высокой спинке. По одной стене шли забитые книгами полки, по другой были развешаны ковры, картины, над дверью висел пропеллер.