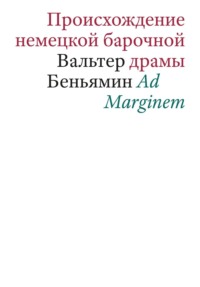Loe raamatut: «Происхождение немецкой барочной драмы»
Walter Benjamin
Ursprung des deutschen Trauerspiels
* * *
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
Скорбная механика Вальтера Беньямина
Вальтер Беньямин (1892–1940) – один из тех великих неудачников, святым покровителем которых служит Кафка и которые задним числом сформировали ХХ век. Беньямин, не сумевший сделать академическую карьеру и покончивший с собой в ситуации абсолютной безнадежности, под угрозой возвращения в оккупированную нацистами Францию, оказался для наших современников настолько важен, что даже стал героем мистификации (впрочем, вскоре забывшейся) с появлением его посмертных сочинений и интервью. Героем этой странной ситуации, больше всего напоминающей спиритический сеанс, трудно представить, скажем, Мишеля Фуко, а уж тем более – любого яркого персонажа из противоположного, правого лагеря (я бы не поручился за Эрнста Юнгера, но он прожил так долго и написал так много, что представлять его среди нас уже не хочется). С одной стороны, мертвый автор безобиден, поскольку не станет возмущаться и отстаивать свои права, с другой – сохранение наследия великого NN представляет собой подвиг, не лишенный респектабельности. В общем – каждому свое, suum cuique, Jedem das Seine.
Сказанное выше есть по большому счету стилизация. Но биографию Беньямина и в самом деле крайне сложно пересказывать, не опускаясь до романтических банальностей в духе посмертного признания, прозрения читающей публики и т. д. К тому же многое в его судьбе резонирует с чисто русскими, как принято считать (а на самом деле – общеромантическими), идеологическими конструктами – комплексом лишнего человека, интеллигентской бесприютностью, – провоцирующими симпатию с оттенком снисходительности. «Хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу», по выражению Хармса.
В случае Беньямина мы (на первый взгляд) сталкиваемся именно с этим – с категорической несозвучностью эпохе и с настоятельным желанием, ломая себя, вписаться в ее рамки (и здесь, опять же, можно привести множество параллелей на российском, точнее, советском материале; параллелей настолько очевидных, что называть имена тех, кого это навязчивое стремление погубило, физически или духовно, было бы излишне).
И тут пора объявить, что мне, как автору предисловия к книге, которую я люблю, ценю и перечитываю, Беньямин симпатичен без всяких оговорок и снисхождения. Большой мыслитель, как и большой художник, вообще не нуждается в снисхождении или в одобрительном похлопывании по плечу. «…посмертной славе, – писала Ханна Арендт в своем эссе о Беньямине, – обычно предшествует высочайшее признание равных»1, и справедливость этих твердых и мужественных слов многократно подтверждена. Тем более что неукорененность Беньямина, его чуждость системе (академической или идеологической) были его личным выбором, как и несистематический характер его сочинений, скорее поэтических, нежели философских.
Вальтер Беньямин родился 15 июля 1892 года в состоятельной еврейской семье в Берлине, бывшем тогда столицей Германской империи, созданной всего лишь двумя десятилетиями ранее. Легко подсчитать, что в момент падения империи Беньямину было двадцать шесть лет – возраст, который мы вправе счесть временем интеллектуального становления любого мыслящего человека. Если считать, что эпоха оставляет свой отпечаток на лицах современников (опять эти романтические штампы!), интересно сравнить лицо Вальтера с лицом его отца: при всем их внешнем сходстве бросается в глаза разница. Той уверенности, которая чувствуется и в гордой осанке антиквара Эмиля Беньямина, и в его взгляде, и в пышных закрученных усах, его великий сын не унаследует. Мир рано перестал быть для него простым и целым.
Сложный дом, сложные, почти как у Пруста (которого он переводил), отношения с прошлым и с городом, в котором хочется заблудиться, – всё это составляет содержание книги Беньямина «Берлинское детство на рубеже веков» (1932–1938). Но что касается его непохожести ни на что другое, то мы вправе задаться вопросом: унаследовал ли он из этих же времен и ее тоже? Ханна Арендт пишет о сознательной ориентации Беньямина на XIX век, когда воспетый Бодлером фланёр имел такое же право на существование, как и трость со шпагой внутри. «Попробуй мы обозначить в социальных категориях ту „профессию“, к которой Беньямин себя непроизвольно, хотя, быть может, и не очень тщательно готовил, – размышляет Арендт, – нам пришлось бы сделать шаг назад, в вильгельмовскую Германию, где он вырос и где сложились его первые планы на будущее. И тогда мы сказали бы, что Беньямин готовился к одному – к „профессии“ частного коллекционера и полностью независимого ученого…»2 Здесь на ум приходит человек, имя и круг идей которого редко связывают с именем Беньямина, хотя он и спорит с ним в «Происхождении немецкой барочной драмы», – историк искусства (и коллекционер) Аби Варбург (1866–1929), собравший колоссальную библиотеку и оставивший очень мало законченных текстов. Судьбу Варбурга тоже можно назвать трагичной (он провел несколько лет в психиатрической клинике), но ему посчастливилось родиться на поколение раньше, к тому же – в семье исключительно богатых гамбургских банкиров, так что его место в мире с самого начала было более определенным, да и более комфортным, чем у Беньямина.
Вынужденные странствия Беньямина начинаются очень рано: в 12 лет родители забирают болезненного мальчика из берлинской школы и отправляют его в Тюрингию, в один из интернатов, основанных педагогом-новатором Германом Литцем. В студенческие годы он будет перемещаться по немецкоязычной части Европы, сменив четыре университета: во Фрайбурге, в Берлине, в Мюнхене и в Берне. Именно в это время он познакомится с Мартином Бубером и Гершомом Шолемом – крупнейшими еврейскими философами ХХ века. Если говорить о плодотворном обмене идеями, то нужно признать, что интерес Беньямина к иудейской традиции был весьма своеобразным: больше всего его привлекал каббалистический тип мышления, проявлявшийся в пристальном внимании к языку и его логическим и комбинативным возможностям. В начале «Происхождения…» Беньямин говорит о языке как об основном инструменте, которым располагает философ, при этом отдавая предпочтение звучащему слову, то есть слову Адама, впервые называющего по именам вещи окружающего мира.
На фронт Первой мировой войны Беньямин не попал – отчасти по причине слабого здоровья, отчасти как студент. К 1916 году относится его первая работа, «О языке вообще и о человеческом языке», которую можно считать первой манифестацией интереса Беньямина к языку и его специфического способа мышления. В «Происхождении…» и то и другое раскроется в полной мере.
С биографической точки зрения «Происхождение…» можно рассматривать двояко – либо как искреннюю и неудачную попытку Беньямина подстроиться под стандарты академического мышления, либо как просчитанный, хотя и вынужденный ход, который должен был привести именно к тому, к чему он привел. В качестве хабилитационной диссертации, которая дала бы Беньямину возможность преподавать в каком-нибудь университете, текст обернулся неудачей: в 1925 году профессора во Франкфурте забраковали его как темный и неудобочитаемый (примерно так же, как А. К. Дживелегов посчитал ненаучным «Разговор о Данте» Осипа Мандельштама). Однако через три года неудавшаяся диссертация была опубликована в виде книги, что, может быть, более ценно, чем успешная защита в стенах университета. Отныне Беньямин мог быть только свободным художником, каковым и оставался вплоть до своего самоубийства на франко-испанской границе 27 сентября 1940 года.
К российскому читателю Беньямин пришел как автор «Произведения искусства в эпоху технической воспроизводимости» (1936), и этот текст до сих пор воспринимается как его визитная карточка, основное произведение, наиболее полно раскрывающее беньяминовскую концепцию культуры. Конечно, каждый из читателей и интерпретаторов волен сам выстраивать рейтинги и иерархии, но мне кажется, что лежащая перед вами книга не менее интересна, а в чем-то и глубже статьи, с которой начинался Беньямин по-русски.
Книга «Происхождение немецкой барочной драмы» посвящена, как следует из названия, эпохе, отдаленной от автора почти на три столетия. Однако разговоры об особой актуальности барокко начались задолго до Беньямина: первым здесь был, кажется, великий историк искусства Генрих Вёльфлин, который не просто объявил барокко самостоятельной и ценной эпохой европейской культуры, но и увидел в нем сходство с концом XIX века3. Этот разговор продолжился и в дальнейшем, так, итальянский семиотик Омар Калабрезе в 1987 году выпустил книгу «Необарокко»4, в которой рассматривал многие явления массовой культуры конца ХХ века, вплоть до франшизы «Звездные войны», находя в них барочные черты, такие как предпочтение изменения стабильности и столкновение различных логик.
Возможно, каждая историческая эпоха или, правильнее сказать, каждый тип культуры предлагает нам особую оптику для того, чтобы мы, далекие потомки, могли эту эпоху понять. Для барокко это механика, но механика, непохожая на то, к чему мы привыкли. Так, например, Эммануэле Тезауро в трактате «Подзорная труба Аристотеля» (1654)5 рассматривает механизмы и прочие технические устройства (в том числе и ту самую подзорную трубу) как вещи, аналогичные метафорам нашего языка и позволяющие менять мир под соусом «как если бы». И действительно, подъемные краны поднимают каменные глыбы, словно легкие пушинки, а телескоп приближает отдаленнейшие предметы, словно они находятся рядом с нами.
По наблюдению Ханны Арендт, Беньямин «обладал поэтической мыслью, а потому видел в метафоре величайший подарок языка»6. Казалось бы, вот оно – избирательное родство эпох, когда сквозь асфальт берлинской мостовой видишь камни барочного Рима, и что это, как не источник радости? Однако итальянский иезуит Тезауро полон оптимизма, а книга Беньямина, хотя он и пользуется той же оптикой, почему-то выдержана в более мрачных тонах.
В начале своей последней работы, эссе «О понятии истории» (1940), Беньямин пересказывает сюжет «про шахматный автомат, сконструированный таким образом, что он отвечал на ходы партнера по игре, неизменно выигрывая партию. Это была кукла в турецком одеянии… сидевшая за доской, покоившейся на просторном столе. Система зеркал со всех сторон создавала иллюзию, будто под столом ничего нет. На самом деле там сидел горбатый карлик, бывший мастером шахматной игры и двигавший руку куклы с помощью шнуров»7. Этот псевдоавтоматон был построен австрийским изобретателем Вольфгангом фон Кемпеленом в 1770 году и остался в истории под именем «Турок». Мистификация прожила недолго, и «Турка» вскоре разоблачили, но он (возможно, именно благодаря этому) успел породить обширную литературу и множество легенд. Нужно учесть, что его известность не была случайной или незаслуженной. Культура, всячески старавшаяся заполнить лакуну между природным и искусственным, нуждалась в некоей переходной форме между машиной и человеком, и «Турок» занял предназначенное ему место.
Лучшего вступления к размышлениям о сущности истории и пожелать нельзя. Механистичность – следствие грехопадения и, по всей вероятности, она – то же самое, что и история как таковая, если понимать ее как «гомогенное и пустое время». Поскольку человеческие аффекты испокон веков одинаковы, то знание правителя (да и драматурга, пожалуй) подобно знанию часовщика. Это никоим образом не умаляет их достоинства, ведь даже Бог в барочной Вселенной Ньютона берет на себя роль искусного часовщика, не позволяющего планетам сбиться с предначертанных им путей. Поэтому механика – ключ к барокко.
«Турок» в XVIII веке был провокацией, на которую культура незамедлительно отреагировала, поскольку ей был нужен объект, сомнительная подлинность которого соответствовала бы его двойственности в любой из возможных классификаций. Но это просвещенческая история. Барокко, в отличие от Просвещения, не видит ни противоречия между органическим и механическим, ни разрыва, который чем-то необходимо заполнить. Точно так же ему неизвестна и противоположность природы и культуры, поэтому уподобление сердца маятнику, а души – часовому механизму не вызывает у людей той эпохи того чувства болезненной жути, которое наши современники кокетливо назвали «эффектом зловещей долины». Люди барокко, похоже, даже не задаются вопросом о том, как различать искусственное и природное. «Все вещи искусственные, – писал барочный эрудит Томас Браун в трактате „Religio Medici“ (1643), – так как природа есть искусство Бога»8. Однако ренессансный гуманист Марсилио Фичино в «Платоновской теологии» (опубл. 1482) высказал ту же мысль намного ярче и изящнее. Природа, по Фичино, есть «искусство, изнутри приводящее материю в надлежащее состояние, как если бы внутри дерева имелся бы и плотник»9.
Причина барочной меланхолии в другом – в оторванности от Бога как подателя жизни и ее источника.
Сознание механистического устройства мира наполняет сердце Беньямина скорбью, равно как и сердца его героев. Барочным драматургам Даниэлю Каспару фон Лоэнштейну (1635–1683) и Андреасу Грифиусу (1616–1664), которых Беньямин постоянно цитирует, прекрасно известно, что дорога в ад вымощена не только благими намерениями, а вообще какими угодно. Персонажи барочной драмы вновь и вновь разыгрывают историю Эдипа, чтобы убедиться в том, что каждый, кто желает правды и справедливости, непременно погубит всё вокруг себя.
Но Эдип – трагический герой, а действие трагедии разворачивается в первоначальные, незапамятные времена, когда боги непосредственно правили людьми. Сущность трагедии – возвышенный спор между богами и героями, исход которого предрешен, так как за богами всегда остается последнее слово. Герой же может и должен самореализоваться исключительно в смерти. Смерть героя – это подобие величественного саркофага, сделанного великим мастером по его индивидуальной мерке.
Драма же становится возможной лишь после того, как боги окончательно самоустранились из земной жизни. Миф завершился, началась история, и уже нужно запоминать, какие цари когда правили. Это не живая, органическая история в нашем понимании, не способная повториться. Напротив, это царство вечного возвращения.
Герой умирает героическим образом, и в этом его успех, если считать успехом реализацию своего предназначения. Героев-неудачников не бывает, или мифы о них не рассказывают. Но персонажи барочных драм постоянно терпят фиаско – и, видимо, потому, что таков вообще удел человека исторической эпохи. А человеком остается даже могущественнейший из властителей. Поэтому драма повествует об утрате единства, о разладе во всем, когда чувства не просто противоречат разуму, но и побеждают его, приводя всех к гибели.
Скорбь оказывается прямым следствием механистичности мира и человека, а драма – рассказом о предзаданности судьбы. Любопытно, что культура барокко породила не только научную революцию, но и дискуссию о свободе воли, развернувшуюся поверх государственных и конфессиональных границ. Корнелий Янсений и Блез Паскаль, сомневавшиеся в том, что человек свободен, – такие же люди барокко, как Лоэнштейн и Грифиус, и точно так же могли бы присутствовать на страницах этой книги.
Беньямин пишет о барокко, но сквозь его XVII век постоянно прорывается современность межвоенной Европы. А для культуры того времени, которую в силу многих причин удобнее называть не модернизмом, а ар-деко, природа представляет собой судьбу, которую нужно преодолеть. Ар-деко делает отчаянную в своей невозможности попытку вернуться к целостности барокко, пережив не только романтизм и романтический культ природы, но и декаданс.
Говоря о том, что барочная вселенная механистична, следует учитывать, что эта механистичность не предполагает противопоставления живого и неживого, то есть непрерывного и дискретного, что для нас само собой разумеется. Всё – механизм, и всё – организм. К тому же человек барокко живет в мире, где возможно чудо. Если этот мир сам по себе несется к катастрофе, то Бог его раз за разом спасает. Разлетающиеся в разные стороны обломки мироздания снова сложатся в порядке и окажутся проникнуты одушевляющей связью. Мир барокко представляет собой чудовище, но это не чудовище Франкенштейна, а, скорее, человек с пёсьей головой из «Истории чудовищ» Улисса Альдрованди (1642), естественным образом родившийся где-то на краю земли. Напротив, в культуре ар-деко коллажи Макса Эрнста и «коллажные» существа Виктора Браунера именно в силу отсутствия Бога воспринимаются как нечто противоестественное и не имеющее права на существование.
В литературе барокко механистические метафоры смело переходят из политической сферы в чисто психологическую или, точнее говоря, психофизиологическую. До героев «Происхождения…» эту метафорику использовал Шекспир в «Ричарде II», где король говорит:
Я долго время проводил без пользы,
Зато и время провело меня.
Часы растратив, стал я сам часами:
Минуты – мысли; ход их мерят вздохи;
Счет времени – на циферблате глаз,
Где указующая стрелка – палец,
Который наземь смахивает слезы;
Бой, говорящий об истекшем часе, —
Стенанья, ударяющие в сердце,
Как в колокол. Так вздохи и стенанья
Ведут мой счет минутам и часам10.
Беньямин же цитирует слова, которые произносит персонаж «Жизнь» в драме Иоганна Хальмана «Мариамна»:
и сказанное об Агриппине в одноименной драме Лоэнштейна:
И вот лежит гордый зверь, надменная женщина,
Что думала: часовой механизм ее мозга
Способен перевернуть вращение светил12.
Эти цитаты Беньямин комментирует рассуждением о часах и секуляризации времени, что, без сомнения, правильно и уместно, но вот сравнение женщины со зверем он пропускает. Оно тем не менее очень интересно, поскольку подразумевает тождество между механизмом и чудовищем. И если чудовище, соединяющее в себе части человека и зверя (или разных зверей, как пресловутая химера), представляет собой аномалию в мире живых организмов, то для механических устройств такой способ возникновения вполне нормален. Чудовище оказывается мостом между живым и неживым, соединением противоположностей и исследованием границ, в том числе границ человеческого.
У Альдрованди история чудовищ пока еще составляет часть естественной истории. Барочные чудовища были частью природы, хотя и необычной, а не результатом насилия над ней, и поэтому имели право на существование. Сейчас же, в мире, где, согласно Фуко, разделение слов и вещей окончательно состоялось, чудовища оказываются текстами среди объектов, представителями иной реальности, ключа к которой у нас нет. Чудовища – послы более антропоморфного мира, который был создан в конечном счете ради человека, ради его поучения и спасения.
Но возможна ли естественная механика, подобная естественной истории? По-видимому, нет, так как после романтизма рукотворное оказывается прежде всего неестественным, а иногда – и противоестественным. Декадентский культ искусственности (если мы считаем, что декаданс существует на самом деле) – это, по сути дела, культ зла и смерти13. Поэтому столкновение живого и искусственного в литературе декаданса заканчивается плохо: так, в романе Ж.-К. Гюисманса «Наоборот» (1884) черепашка, панцирь которой инкрустируют драгоценностями, умирает, а прекрасная механическая девушка Гадали в романе Огюста Вилье де Лиль-Адана «Будущая Ева» (1886) тонет вместе с гибнущим кораблем.
В культуре ар-деко механическое на первый взгляд оценивается положительно, но уверенности в этом культура не чувствует. Технике словно бы приписывается некий комплекс вины за то, что она, не будучи живой, весьма активна. Для ар-деко механическое субъектно и порой весьма злонамеренно, как механический двойник проповедницы Марии из фильма Фрица Ланга «Метрополис» (1927), которого в конце концов уничтожает разъяренная толпа. Просто примириться с техносферой эта культура не может, ей нужно или превозносить ее до небес, или предавать анафеме.
Машинки движутся и крутятся, они в родстве с мирозданием и способны впускать в мир богов или демонов. Они делают из мира коллаж, где «повседневность» то и дело перемежается чем-то другим. Реальность постоянно оборачивается спектаклем, но спектакль – это не ложь в бытовом и тем более в нравственном смысле, это вторжение высшей реальности. Пришельцы оттуда придают нашей реальности форму (то есть сюжет), но их вмешательство непосредственно воспринимается как разрушение существующих форм – это чувство зафиксировали на своих картинах итальянские футуристы, изображавшие, как проносящийся по улице автомобиль разрушает на фрагменты и улицу, и весь мир. Это воплощенный разрыв традиции, о котором писали многие барочные авторы и который повторяется на наших глазах. Реальность разбирается на части неочевидным для нас образом, чтобы собраться заново в неожиданной конфигурации, которая затем оказывается единственно возможной и даже поучительной.
Как замечает Арендт, «фигура коллекционера, столь же старомодная, как и фланёра, может приобрести у Беньямина такие современные черты лишь потому, что сама история – тот разрыв традиции, который пришелся на начало нашего века, – уже избавила его от задачи разрушать, и ему теперь нужно лишь наклониться и выбрать драгоценные останки из кучки осколков»14.
Но фигура коллекционера – это печальная фигура, не ведающая надежды. Беньямин в Берлине и Париже, подобно Константину Вагинову в раннесоветском Ленинграде, собирает то, что навсегда утратило одушевляющую связь, тот контекст, после гибели которого во всем мире, по словам Т. С. Элиота, принадлежавшего к тому же поколению, удается найти «лишь груду поверженных образов»15.
Беньямин заканчивает свою книгу образом руины, говоря, что немецкая барочная драма изначально задумывалась как руина. «Если другие формы сияют великолепием, словно в первый свой день, то эта хранит образ красоты последнего дня»16, и нам не ясно, что он имеет в виду – последний день для разрушенного собора или день Страшного суда? Однако руину можно считать и утопическим состоянием: прекрасное здание прожило свою жизнь до конца, и смыслов в нем – до тех пор, пока камни сохраняют хотя бы следы первоначальной формы, – намного больше, чем в первый день существования.
Владислав Дегтярев
Tasuta katkend on lõppenud.