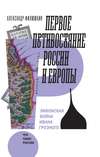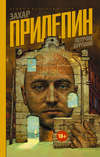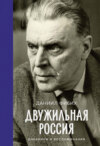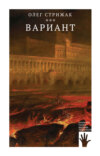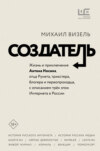Loe raamatut: «Белый капедан»
Основано на реальных событиях
Любые совпадения с реальными именами,
названиями, событиями – неслучайны.
Несовпадения – тоже.
© Василий Тюхин, 2024
ISBN 978-5-0064-0299-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
АБАЖУРЫ ПОЛКОВНИКА УЛАГАЯ
В начале декабря 1924 года, в самом пропащем европейском захолустье, где-то в географических дебрях между Румынией и Албанией, в опереточном средневековом королевстве, пышно именовавшемся Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев, на берегу речушки Савы, в чертовой дыре под названием Белград, надоевшей ему до зелени в глазах, бывший штаб-ротмистр российской армии, черный «бессмертный» гусар 5-го гусарского Александрийского Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка Добровольческой армии, участник Первого Кубанского «Ледяного» похода, ныне состоявший в запасе Русского Обще-Воинского Союза, но по сути, никому на этом свете не нужный и именовавшийся теперь просто Александром Кучиным, без всякого уже отчества, потерянного на бегу где-то не то в Турции, не то в Болгарии, и отзывавшийся теперь даже на такие клички как Сандро, Лекса и даже Аца, уныло красил зеленой краской железный абажур.
Београд, Белград, Бел-город, Белый город, казалось бы, какой город лучше подойдет изгнанному со своей родины белому офицеру, да еще получившему в сербских горах прозвище «Белый капедан»? Но нет, никак не мог тут прижиться ротмистр Кучин, и дело даже не в отсутствии денег и нормальной работы, обеспечивающей хоть сколько-нибудь сносные условия существования, а… да кто его знает, в чем тут было дело? Может быть, виновата была кошава, начавшая дуть ранней осенью и не ослабевавшая ни на день, порой усиливавшаяся до такой степени, что, казалось, снесет к черту хибару, в которой проживал Кучин, а все остальное время дувшая ровно, пронизывая до костей, сводя с ума непривычного к ней незваного гостя. И ведь, главное, не было никакой надежды – общеизвестно, что дуть кошава будет до весны, и не стоит ждать никаких послаблений, а только страдать, терпеть и проклинать ее сквозь зубы.
Кованые абажуры подтаскивал ему бывший черкесский князь, бывший полковник Улагай. Хотя, конечно, нельзя быть бывшим князем и бывшим полковником, как нельзя быть бывшим человеком, но такие определения невольно приходят на ум, если занимаешься унылым, скучным и совершенно не княжеским делом. Бесстрастное лицо Улагая, впрочем, не выражало абсолютно ничего – можно было подумать, что выдавливать железные абажуры для белградских купчих на древнем немецком кузнечном штампе было для него таким же нормальным и естественным занятием, как объезжать диких лошадей, рубить упругую лозу на полном скаку и стрелять из-под лошадиного брюха, свесившись вниз головой и зацепившись за стремя одной ногой; бесшумно, по-пластунски подбираться к вражеским часовым, сжимая в зубах обоюдоострый черкесский кинжал, или, к примеру, безошибочно корректировать без таблиц, на глазок, огонь артиллерийской батареи.
Погода была совершенно свинская – ночью подмораживало, и шел мокрый снег вперемешку с дождем, а днем все оттаивало и шел просто дождь, пожиравший остатки ночного снега. Сырость достала бывшего ротмистра до самых печенок, ну нельзя так жить, честное слово. Печей нормальных тут не было, нормальных, человеческих печей, когда открываешь дверку, а там ревет рыжее пламя, и огромная кирпичная печь впитывает, впитывает огненное тепло, а потом излучает его, словно маленькое солнце – и какое же несказанное удовольствие постоять возле этой печи, вернувшись с бодрого морозца, потирая покрасневшие руки, а потом подкинуть полешко в огненное жерло и грохнуть чугунной дверкой, прислушиваясь к тому, как с новой силой начинает гудеть огонь, получивший щедрую подачку. Ну разве можно по-настоящему прогреться от жаровни с тлеющими углями? Никак невозможно. Дым и чад, и никакого настоящего тепла. Да и дров настоящих тут не было, так, хворост какой-то, кривые коряги. И бани человеческой не было. И водки настоящей не найти ни за какие деньги. А впрочем, говорили знающие люди, что и в России теперь настоящей водки не найдешь – всю гражданскую войну пили озверевшие комиссары технический спирт, накрутив туда кокаина, а теперь отменили сухой закон и начали варить в Совдепии жидкую двадцати-с-чем-то градусную водку, именуемую в честь нового правителя России, сменившего покойного Ленина на посту председателя Совнаркома, «рыковкой». Ну разве может быть нормальная водка двадцати с чем-то градусов крепости?
– Кучук, а вот как ты думаешь, может быть нормальная водка двадцати с чем-то градусов? – обратился ротмистр к подошедшему с абажуром в руках Улагаю.
– Нипочем не может, – нисколько не удивившись странному вопросу, ответил непробиваемый черкес и, сгрузив железный абажур, отправился обратно.
– Вот и я говорю, – сам с собой продолжал рассуждать ротмистр, уныло водя кисточкой, – никак не может. Да и ракия тоже не водка. Некоторые уверяют, что у нее приятное послевкусие. Не буду спорить. Послевкусие так послевкусие. Но пить ее невозможно. Что ж, спрашивается, человек должен всю жизнь теперь пить кислое пиво? А?
Все нормальное и человеческое осталось даже не за синим Черным морем и тремя границами, а в прошлом все оно осталось, и вместе с этим прошлым пошло на дно – вместе со всей великой российской Атлантидой, медленно погрузившейся под воду мутно-зеленой вечности, и неуклонно опускавшейся все ниже и ниже – туда, где смутно проглядывали очертания желтокаменного древнего Египта, солнечного имперского Рима, позолоченной Византии, – слоями дрожали смутные тени, обросшие уже мохнатыми водорослями истекших веков и лживых преданий. Туда же, туда опускалась и некогда великая Российская империя, вместе с малиновым звоном церковных колоколов, двуглавыми орлами и вишневыми садами. Наступил ледниковый период, покрылся бескрайний материк ледяным панцирем, да под его тяжестью и утонул безвозвратно. А на том месте, где когда-то была Россия, обозначена была на картах новая, невиданная ранее страна – Совдепия, официально именуемая в газетах набором странных букв: Р.С.Ф.С.Р., где суетились красные комиссары, – и напрасно облегченно вздохнули окраинные осколки империи, вообразившие, что им удалось избежать общей участи и теперь-то уж они не утонут – как бы не так! Совершенно ясно было ротмистру, что интернационалистам-большевикам не так уж нужна была, при всей ее громадности, Россия – разве что как опорный пункт для накопления сил – что не могут просто так рассосаться вооруженные орды Троцкого и Фрунзе, не могут разойтись по домам расстрельные команды китайцев, батальоны латышских стрелков, мадьярские полки, тройки чекистов-евреев. Им нужен был весь мир, и они объявили об этом во всеуслышание, и если кто-то не слышал или делал вид, что не слышал, пусть пеняет потом на себя самого. Не будет спасения никому, все пойдут на дно по очереди – и тихая провинциальная Рига, и новообразованная, но уже успевшая сойти с ума от своего новопридуманного былого королевского величия Польша, и Франция, где искренне считают величайшей драмой двадцатого века деньги, потерянные на русском военном займе. Глупые жадные французы, так ничего и не понявшие в происходящем! Только когда ангел смерти – Троцкий – двинет на Европу бесчисленные миллионы утративших связь с землей, порабощенных русских мужиков под началом своих революционных комиссаров, только тогда поймут французы, какова подлинная цена их потерянным мифическим процентам по русскому займу. Да поздно будет. Так рассуждал ротмистр Кучин, поскольку работа была нудной, механической, а надо же о чем-то думать.
Тоскливо было ротмистру Кучину, и имел он самые серьезные основания грустить. Настолько серьезные, что начал он задумчиво напевать, макая кисточку в банку с зеленой отвратительной краской.
Степь да степь кругом,
путь далек лежит,
в той степи глухой
умирал ямщик…
Песня лилась прямо из глубин его тоскующей души, и кто, казалось бы, мог осудить ротмистра за это пение, даже если с точки зрения исполнительского мастерства он, возможно, пел не идеально? А вот ведь, нашлось кому. Выскочил из адского чрева сарая его хозяин, считавший себя настоящим европейским промышленником, Драго Савич, судя по фамилии, побочный отпрыск мутной речушки Савы, и замахал руками, выражая свое неудовольствие.
– Ну разве можно петь такие заунывные песни?
Говорил он быстро, по-сербски, но в общем, понятно было, что ему не нравятся заунывные песни, ведь есть же у русских веселые песни, надо веселее жить, и песни надо петь веселые, – какие-то такие, вроде «калинка-малинка», и руками так как-то весело помахивал, крутил пальцами, подбадривая, показывая, как весело надо жить и какие веселые песни надо петь.
Мрачно кивал головой ротмистр Кучин, внимательно наблюдая за его телодвижениями, вроде бы и поддакивал, соглашался с ним, но что-то настолько мрачное было в его глазах, что веселый хозяин постепенно сник, перестал махать руками, пробормотал еще что-то невразумительное и, сплюнув, пошел обратно в сарай, откуда доносился железный гул.
– Сволочь он, – обратился ротмистр Кучин к полковнику Улагаю, когда тот в очередной раз возник из темного ада, – думаешь, песен ему надо? Как же, держи карман! Ему надо, чтобы я кисточкой быстрее шевелил, абажуры его чертовы шустрее красил. И сам себя песнями подбадривал.
Улагай нахмурился, пожевал губами, но ничего не сказал.
– Погода совершенно свинская, – решительно констатировал Кучин, – кошава положительно сводит меня с ума, а самое главное, Кучук, что жизнь фактически кончена. Визу у меня украли эти сволочи из «Технопомощи», а это значит, что никакого Парижа не будет, и зря я накопил семьсот динар, как было велено этими негодяями. Мне вообще кажется, – продолжал он, вглядываясь в серую хмарь над горизонтом, – что никакого Парижа в природе не существует. Это миф, придуманный негодяями из «Технопомощи», чтобы обирать дурачков. Нету никакого Парижа, и точка. Придумали Эйфелеву башню для правдоподобия, – потому что кто же усомнится, что такой город действительно существует, если ему предъявляют картинку с таким невообразимым штырем прямо под облака – вот именно потому и придумали, что нормальный человек сразу поймет, что такое придумать невозможно, и поверит, а они придумали. И Пляс Конкорд, красные такси «рено», Сену придумали, Лувр, рю де Риволи. Обложили со всех сторон фантазмами, я и купился. А теперь сижу у разбитого корыта и понимаю, что пора подводить итоги.
Улагай покривился и как-то так покачал головой, что стало совершенно ясно, что он не считает, что пора уже подводить итоги.
– Нет-нет, даже не спорь со мной! Понимаешь, Кучук, я поверил, что рай существует, что здесь, в этом пургатории, мы временно, нужно только перетерпеть, дождаться, и будет Париж, где на бульварах огни, где прекрасно можно устроиться шоффером на такси и жить припеваючи, зарабатывая в три раза больше, чем в этой дыре. Оказалось – нет. Дудки. Это не пургаторий, это уже ад, и мы в самом нижнем ледяном круге.
Улагай поднял брови и пожал плечами. Ад так ад, о чем тут рассуждать.
– Пойдем, Кучук, на Теразию, у меня сегодня серьезное большое дело намечено – нужно мне семьсот динар пропить непременно в связи с тем, что жизнь моя подошла к концу, а впереди ничего кроме унылой вечности. Уверяю тебя, сволочь трактирщик выкопает настоящий шустовский коньяк. Никуда не денется.
Улагай слегка выпучил глаза и встопорщил усы – видно было, что настоящий шустовский коньяк поразил его воображение. Потом вздохнул:
– Сегодня не могу. Сестра ждет. Жена, – и пояснил: – Женщины.
И скрылся в грохочущем аду штамповочного цеха.
– Счастливый человек, – по-доброму позавидовал ротмистр, – его кто-то ждет. А для меня даже подняться в седьмой круг вместо девятого, – и то будет замечательной потусторонней карьерой. И пусть меня терзают гарпии. Но сначала – избавиться от никому в этой жизни не нужных семисот динар. А коньяк – непременно шустовский.
И ротмистр, неожиданно даже для себя самого, весело и зло грянул:
Как ныне сбирается Вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам!
И так он громко и лихо начал свою песню, что даже вечно всем недовольный хозяин радостно изумился, прислушиваясь к его пению сквозь оглушающий грохот пресса, и одобрительно покивал головой. Впрочем, выражение его лица тут же изменилось: не смог ротмистр удержать нужного накала, и песня его через какое-то мгновение напоминала уже не бравый марш, а заунывное похоронное пение.
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечу и пожарам…
Не в силах, очевидно, стерпеть такое издевательство над русскими военными маршами, Савич бросил все свои неотложные дела в конторке и побежал наводить порядок с непонятливым русским певцом. Ротмистр, в свою очередь, с отвращением швырнул кисточку в банку с краской и неодобрительно осмотрел свои испачканные зеленой краской руки.
– Нельзя же, честное слово, помирать такой крашеной сволочью.
С самыми невинными намерениями выскочил Савич из сарая, всего лишь хотел он обсудить русское песенное искусство со своим нерадивым наемным рабочим, но увидел нечто невообразимое: работа была брошена, абажур недокрашен, а кисточка плавала в банке с краской, а это уже, как понимаете, прямой материальный ущерб для хозяина. Еще даже не успев понять, что ситуация уже не та, и произошло что-то непредвиденное, подскочил он с налету к ротмистру и, крича что-то невразумительное, ткнул его волосатым кулаком, призывая к порядку. Лучше бы он этого не делал! Нельзя оскорблять действием русских дворян, а тем более уж нельзя поднимать руку на бессмертных гусар, замерзших навеки в ледяных степях России – но, как было только что спето ротмистром, некоторые ведут себя порой не только буйно, но и совершенно неразумно. Драго Савич казался большим, толстым и грозным мужчиной, но это была чистая видимость, и осознал он это, только оказавшись на земле у распахнутой двери сарая, причем один глаз у него ничего не видел. Более того, в довершение поругания, Кучин пнул ногой банку с краской, отправив ее вдогонку за хозяином, и тонкая блестящая зеленая змея, выплеснувшись из открытой банки, уютно устроилась у того на штанах. Побитый Савич тонким и сиплым голосом призвал себе на подмогу сыновей, неуклюже вставая на ноги и болезненно щурясь подбитым глазом.
Сыновья не замедлили явиться – оба такие же большие и грозные, вполне под стать своему отцу. Они выскочили из сарая и остановились, оценивая обстановку и с опаской разглядывая синяк под глазом у родителя. Они как-то даже сразу и не поняли, что нужно кидаться и бить Кучина, поскольку тот стоял совершенно спокойно и с интересом, вполне доброжелательно, разглядывал дружное семейство.
А когда они что-то поняли и направились было к Кучину, тот резко сунул руку в карман. Савич и оба его сына, которых в России звали бы по отчеству Драговичами, но тут никаких отчеств и в помине не было, а имена их как-то никому не запомнились, мгновенно замолчали и подались назад, со страхом глядя на кучинский карман. Всем было прекрасно известно, что русские офицеры в карманах носят револьверы, и чуть что, начинают палить во все стороны. Это было общеизвестно. Кучин сначала не понял, почему они остолбенели, потом ухмыльнулся. Револьвера у него в кармане не было, а если бы и был, он его доставать бы не стал. Невозможно представить, чтобы русский офицер стал пугать револьвером безоружных штатских, даже если револьвер этот действительно лежит у него в кармане. Револьвером вообще никого и никогда пугать нельзя. Револьвер нужно доставать только в том случае, если собираешься стрелять и, значит, убивать врага. Револьвер нужен для войны или, в самом крайнем случае, для отражения нападения вооруженной банды разбойников.
Кучин достал из кармана носовой платок, за которым он, собственно, и полез, и стал оттирать испачканные руки.
Эксплуататоры оживились – видно, им стало стыдно, что они так испугались несуществующего револьвера – и стали грозно придвигаться к Кучину. Они ошибочно полагали, что если у Кучина нет револьвера, то их численное превосходство дает им какое-то преимущество, если дело дойдет до столкновения. Кучин быстро бы разубедил их в этом, но до столкновения дело так и не дошло. Из сарая вышел Улагай с очередной порцией абажуров, остановился и внимательно посмотрел, оценивая ситуацию. Что-то было такое в его задумчивом взгляде, от чего троица попятилась, вспомнила о неотложных делах и решительно направилась вглубь сарая. Уходя, Драго обернулся и, резко взмахнув растопыренной пятерней, запретил Кучину появляться впредь вблизи его предприятия, даже если он будет подыхать от голода как собака. Кучин от изумления даже руками развел, лишившись на какое-то время дара речи. Придя в себя, он с грустью посмотрел на Улагая:
– Приходи, Кучук, коньяк пить. Попрощаемся по-человечески.
Улагай нахмурился, кивнул и, с грохотом cбросив штампованные абажуры, вернулся в штамповочный ад.
МОРОК ПАРИЖА
В небольшой кофейне на Теразие, притворявшейся русским кафе в Париже, ротмистр Кучин наливал коньяк (шустовский, по уверениям хозяина – врал, конечно, негодяй!) молодому человеку в красной русской рубахе-косоворотке. Какие бывают русские кафе в России, и существуют ли они в природе, хозяину заведения не было известно, но в городе было много русских офицеров, а русские офицеры любят хорошо выпить и не скупятся на чаевые, когда они при деньгах. А когда они не при деньгах, им можно совершенно спокойно наливать в долг, потому что русские офицеры долги отдают неуклонно. Поэтому хозяин постарался сделать кафе похожим на настоящие русские кафе в Париже, где побывал его шурин и все самым подробным образом рассказал – на стенах висели подобающие картинки с монархическим уклоном, а на сцене регулярно играл ансамбль балалаечников в красных рубахах, подпоясанных витыми шнурками.
Молодой человек только что отыграл какую-то виртуозную балалаечную композицию, подошел поздороваться с Кучиным, да так и присел к нему за стол, поддавшись напору ротмистра, схватившего его за атласный рукав и усадившего его на венский стул. Ротмистру Кучину нужно было с кем-то поговорить перед смертью. В кармане у него лежал верный наган, в другом кармане – накопленные для переезда в Париж семьсот динар, которые теперь нужно было непременно пропить напоследок.
– Вот вы говорите – Париж, Париж. А есть ли он на самом деле – Париж? Вот я теперь сильно сомневаюсь, – слегка наклонившись к молодому человеку, проникновенно говорил Кучин.
– То есть, позвольте, каким это образом? – удивился молодой человек в красной рубахе. – Какие же в этом могут быть сомнения?
– Вот таким вот образом, такой вот парадокс, любезный Иван Афанасьич. Я тоже, знаете ли, верил в Париж – воображал себе, какая замечательная жизнь меня там ждет. Ну, представьте себе – устроиться шоффером, славное красное такси «Рено», выучить карту назубок – все двадцать арондисманов, вечером у театра – «сильвупле, сударыня! Куда едем?». Запах кожи и бензина, свобода, – сказка!
– И что? – не понял молодой человек.
– И ничего! Абсолютно ничего! Вот говорят, что у меня эти сволочи из «Технопомощи» визу украли, и кто-то теперь по моей визе прекрасно доехал уже до Парижа.
– Да неужели? – изумился молодой человек.
– А я думаю, – заговорщицким тоном проговорил ротмистр, наклонившись поближе к нему, – я думаю, что это все отговорки, это все для отвода глаз. Вранье чистой воды. Нету никакого Парижа. Это фантазм. Вроде того света – все верят. А может, и нету никакого того света. А? Кто-нибудь оттуда вернулся? Нет. Я лично таковых не видел.
– Нет, ну позвольте, как же так… – несколько растерянно пытался защитить факт существования Парижа молодой человек, но после очередной рюмочки коньяку уверенность его заметно поколебалась. – Говорят, приезжали оттуда…
– Ну, Иван Афанасьич, вот вы как человек реалистический, скажите мне – можно ли верить всему, что говорят?
– Э-э-э, – замялся молодой человек.
– Вот именно. Вот именно, – очень убедительно покивал Кучин. – Ваша рубаха – это факт. Балалайка это тоже факт, хотя лично для меня это факт довольно нелепый. А Париж – это фантазм. Фикция. Смутный сон.
– Да, да, балалайка! – обрадовался молодой человек, ухватившись за волновавшую его тему. – Вы только представьте себе, Александр Васильевич, я ведь в России балалайки в руках не держал, черт бы ее побрал, эту балалайку. Я вообще-то на виолончели учился играть. Дома в Киеве у нас было пианино, гитары были, вот для души я любил на гитаре, этак вечером… Лампа с зеленым абажуром, звездная ночь над Днепром, теплая печь с изразцами…
– Печь! Да! – наставительно произнес Кучин, подняв вверх палец, – вот чего они тут все не понимают, так это печь!
– Да, да, – вдохновившись, продолжал молодой человек, – печь! А что такое балалайка? Тьфу, вот что это. Кто-то ее придумал в качестве народного инструмента, для экзотики, в угаре празднования трехсотлетия дома Романовых, вместе с кокошником и рубахой вот этой дурацкой, а все поверили! Поверили, понимаете ли! И теперь все, конец, некуда деваться. Гитара, это, видите ли, для испанцев – «ночной эфир струит зефир», а мы, русские, должны играть на балалайках! И носить красные рубахи и смазные сапоги, как приказчики в провинциальной бакалейной лавке! Тошно, Александр Васильевич, честное слово.
И молодой человек с горечью опрокинул очередную неиссякавшую заботами ротмистра Кучина рюмку коньяку.
– А самое ужасное, – зашептал он, округлив возмущенно глаза, – что они все привыкли! Наши, русские, настоящие, привыкли уже, и теперь им подавай балалайку! Как будто так и надо… Лепят какую-то не существовавшую никогда Россию, и льют по ней слезы. И что там в настоящей России делается, никому уже и дела нет. А вы говорите – Париж!
И они замолчали, думая каждый о своем.
Париж! Все рвутся в Париж. А там уж устраиваются кто как может, не каждому в Париже накрыт праздничный стол. Князья метут улицы – если, конечно, не успели прихватить с собой фамильные драгоценности, если не было счетов в заграничных банках, особняков на Ривьере. Некоторым везде хорошо, в любой стране и при любой власти. А были и такие, что эвакуировались в чем были из горящего Крыма – какие уж тут бриллианты. И семьи их, может, и вырваться не сумели из Совдепии, а может, и вырвались, да имущество было конфисковано, семейные украшения ушли на взятки да на еду, да остатки отобрали бравые румынские пограничники – и как найти свою семью в этом круговороте, где появляются и исчезают государства, переползают с места на место границы? Единственный шанс встретить знакомых, узнать о родных, глотнуть животворного воздуха – прорваться любым способом в Париж. В Париж! Все дороги ведут в Париж. Все надежды на Париж, а уж если Париж обманет эти надежды, то тогда уже все равно куда – в Новую Зеландию, в Аргентину, в Африку, на тот свет.
– Нет, Александр Васильевич, какая уж там Аргентина, что такое, собственно, Аргентина? – испугался молодой человек. – Пампасы? Гаучо? К чему это все?
– А что, Ваня, хуже чем здесь все равно не будет, – рассудительно развел руками Кучин, ни в какую Аргентину не собиравшийся.
– Это верно, куда уж хуже. Безнадежность какая-то совершенно глухая. Вот брат у меня в Загребе в университете учится, у него цель в жизни есть, он ученый настоящий, с микробами какими-то возится, сейчас голодает, а потом как-нибудь, может, все и наладится. А я куда – со своей балалайкой? – он горестно покивал головой. – И знаете, что я вам скажу? Удивительный парадокс!
– Да? – не слишком заинтересовался парадоксом Кучин.
– Ему деньгами помогает старший брат из Москвы.
– То есть, позвольте, как это – из Москвы? – встрепенулся Кучин. – Он что, большевик?
– Да нет, причем тут большевики! – возмутился молодой человек. – Никакой он не большевик. Он журналист, писатель. И вот что самое интересное – там теперь все меняется! Теперь там НЭПО – новая экономическая политика. Пооткрывали магазины, частные газеты и издательства, коммунизма больше нет, – удивительным образом большевики меняются!
– Большевики меняться не могут, это вы мне даже не рассказывайте. Если сомневаетесь, спросите у Улагая, он вам расскажет, как еще совсем недавно от агентов ГПУ в Болгарии отстреливался. Это они только притворяются, а сами лезут во все дырки. Оглянуться не успеете, как турнут вас всех из кафе вместе с балалайками и будут тут петь «Интернационал» хором.
– Да нет же, Александр Васильевич, – даже как бы слегка обиделся молодой человек. – Мой брат ни в коем случае не большевик, он врать не станет. Там в ходу, представьте себе, опять серебряные полтинники, водку вот выпустили снова.
– Да слышал я про их водку, – сердито перебил его Кучин. – Дрянь, небось, эта водка, и в рот ее не возьму. Пусть ее сам Рыков и пьет. А что у них на полтинниках отчеканено? Профили Ленина и Троцкого?
– Ну, я точно не знаю, что-то революционное – звезды, рабочие с крестьянами. Но это неважно! Серебро-то самое настоящее! Настоящие деньги! Полтинник как полтинник, рубль как рубль, и по размеру, и по весу, все как раньше. Это после керенок, совзнаков и прочего мусора!
– Не верю я ни в какое большевистское серебро, увольте уж, Иван Афанасьич.
– Ну, не знаю, Александр Васильевич, вот честное слово… Брат у меня в газетах работает, и даже в берлинской газете сотрудничает, роман вот сейчас публикует, как-то все меняется. Большие перемены произошли. Глядишь, дождемся, и Троцкого скинут. Ходят такие слухи.
– Эх, голубчик, кто же его скинет? И кто сможет гарантировать, что скинут его не для видимости и обмана простаков, и что он на самом деле не спрячется где-нибудь в Париже на конспиративной квартире? Оглянуться не успеете, а тут – раз! – и революция! Фратернитэ, эгалитэ, чека!
– Да нет, честное слово. Ну что вы, право…
Кучин на своей версии грядущей французской революции настаивать не стал, а принялся объяснять собеседнику устройство настоящей русской печи – той самой, огромной, размером в комнату, в которой внутри мыться можно, с кратким изложением физических принципов получения настоящего теплого тепла, а не угарной угольной вони от турецкой жаровни.
– И вот, понимаешь ли, стоишь возле нее, и даже если из открытой форточки на тебя морозный воздух стекает, тебе все равно тепло, потому что она из своего нутра тепло излучает. То есть, ты одновременно чувствуешь кожей холод от морозного воздуха, и глубокое теплое тепло от печки. Это божественно! Непередаваемое ощущение!
Слушавший покивал головой, хотя и с некоторой боязливой опаской – и растворился в воздухе. Вот только что кивал, а стоило моргнуть, наклониться над рюмкой, а вот и нет его. Пропал начисто.
Зато раздался балалаечный дрожащий звон. Иван Афанасьич, плаксиво сморщившись и изогнувшись нечеловеческим образом, чуть ли не касаясь грифа ухом, фантастически быстро трепещет кистью над струнами.
«Светит месяц, светит ясный…»
Вот и жизнь моя. Визы нет, Парижа нет. Ничего нет, кроме пронизывающего ветра и серой мокрой зимы. Нет работы, нет будущего, нет России. Жизни больше нет, а была она, пока не кончилась, как африканское животное зебра, вся в полосочку, то черная, то белая.
Пора подводить итоги и озаботиться приличными похоронами.
Кучин закрыл глаза – нужно попробовать представить, что он в Париже. Что это настоящее русское парижское кафе, а не белградская забегаловка – ведь там на таких же балалайках играют, верно?
Но закрыть глаза нипочем не дадут тому, у кого в кармане лежат семьсот динар на пропой. Он даже может никому и не упоминать об этих обреченных деньгах, они сами какие-то таинственные сигналы подают из кармана, и люди, в обычный день равнодушно прошедшие бы мимо, вдруг вздрагивают, словно кто-то окликнул их по имени, встревоженно оглядывают зал, и, заметив сидящего в одиночестве Кучина, вдруг понимающе кивают головой – а, так вот оно что! – и решительно поворачивают в его сторону.
А Кучин, решительно отметая всякие вежливые отговорки, уже наливает следующему собеседнику настоящий шустовский коньяк и задает прямо в лоб сложные вопросы:
– Вот скажи мне, Алеша, как же получилось, что русский мужик, только что устраивавший погромы, вдруг купился на пустые обещания и поверил этой комиссарской банде? Поверил, что те дадут ему и землю и свободу? Ведь если бы мужик не поверил, ничего бы не получилось у этой сволочи. Развеялись бы они как дым по ветру. А мужик поверил, своими натруженными руками открыл кингстоны, и пошла великая Русь на дно, туда, к Атлантиде и Византии.
– Ну, Александр Васильевич, зачем же так трагично? Может, еще и не совсем на дно? Может, оно как-то того еще… устроится как-то? Вернемся еще…
– А? – с испуганным изумлением поднимает глаза Кучин, – То есть, в каком смысле? Куда вернемся? Когда вернемся? В плюсквамперфект вернемся? По прошлогоднему снегу доскачем?
– Нет, ну…, – теряет деланный оптимизм его собеседник. – Ну, может быть, как-то еще? А?
– Нет, Алеша, забудь и думать. Соборовали нас и отпели, и дорога нам теперь осталась одна, в известном направлении, – Кучин показывает большим пальцем, куда именно, – к центру земли, как писал некогда товарищ Жюль Верн. Давай, не чокаясь! За нас!
Но жизнь упорна, она просто так сдаваться не хочет, особенно у тех, кому еще и двадцати пяти лет не исполнилось, и подбивает задавать какие-то суетные вопросы:
– Александр Васильевич, а вот, говорят, вы с Улагаем работаете вместе…
– Работали! – уточняет Кучин, подняв вверх указательный палец.
– А что, – пугается собеседник, бывший поручик Куракин, – Улагай уехал?
– Нет, почему же. Улагай прекрасно сидит на месте и штампует абажуры. Это я уехал.
– Вот как? – недоумевает молодой человек, но решив не вникать в тонкости взаимоотношений Кучина с пространством и временем, что чревато взаимным недопониманием, снова возвращается к беспокоящему его вопросу.
– Я Улагая чрезвычайно уважаю, он замечательный человек. И сестра у него замечательная. А вот что я спросить хотел. Что, Кучук свою сестру на люди вообще не выпускает? Он ее в монахини записать решил?
– У мусульман нет монахинь, насколько мне известно.
– А, так он мусульманского жениха ищет для нее? Не нашел еще? Здесь ведь их навалом – хоть бошняки, или вон в Албанию можно смотаться. Не сосватал он еще ее?
– Не любит он местных, как-то неправильно они живут, а в Албании вообще неизвестно что творится, там из наших, почитай, никто и не бывал. Темная земля. Терра инкогнита. Где женихов искать? А русские сплошь православные.
– Ну, где же он здесь настоящего черкеса найдет, чтобы и русский, и мусульманин. Оставит он ее в старых девах, вот ей-ей, оставит. А сестра у него красивая – прямо хоть в мусульмане записывайся. Вот, ей-богу.