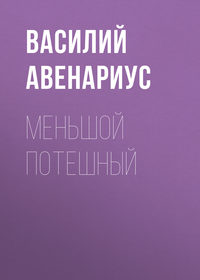Loe raamatut: «Меньшой потешный»
I
Светло и радостно взошла заря красная 30 мая 1683 года над первопрестольной Москвой с ее пригородами, слободами и селами. Не высоко еще поднялось солнце, как по пыльному пути от города за Москву-реку, да по тому берегу ее к Воробьеву сперва одиночкой, а потом вереницей потянулись пешеходы. Поднял их на ноги не престольный праздник, не народное какое торжество, а небывалая доселе потеха малолетнего царя Московского – Петра Алексеевича.
По кончине благоверного «тишайшего» царя-батюшки Алексея Михайловича юный Петр Алексеевич проживал безотлучно при матушке-царице Наталье Кирилловне в подмосковном селе Преображенском. Вечор же он перебрался с товарищами-«ребятками» в старый Воробьевский дворец, а нынче, в одиннадцатую годовщину рождения Петрова, с Воробьевых высот впервые опять со времен царя Ивана Васильевича Грозного должна была загреметь над Белокаменной огнестрельная потешная пальба.
В числе пешеходов был и одинокий малец по десятому году с лотком на голове. Под толстой, плотной дерюгой, прикрывавшей лоток, были припасены у него для проголодавшихся зевак не остывшие еще пироги. Несмотря на свой детский возраст он нес свою полновесную ношу без видимого усилия, выступал бодро и, обгоняя взрослых, перекидывался с ними на ходу веселыми шуточками. Редко кто не откликался на его бойкий оклик. Все были настроены празднично; а юркие светлые глаза, заискивающе лукавая усмешка курчавого, краснощекого и пригожего из себя парнюги невольно располагали к нему все сердца. Были и такие, что признавали его:
– А, Алексашка! Где тебя нету!
Версты за полторы до Воробьева Алексашка нагнал двух женщин.
На одной, помоложе, лет тридцати, дородной, белотелой и румяной, поверх пунцового «летника» был надет нарядный «опашень» ярко-червчатого (лилового) сукна, внизу отороченный узорчатою золотою каймою, а под мышками перехваченный «источенкой» (разноцветным струйчатым поясом). Просунутые в прорезы опашня у плеч руки, полные, выхоленные, щеголяли расшитыми шелком и золотом рукавами летника и жемчужными запястьями. Из-под подола летника при каждом шаге выставлялись желто-сафьяновые, остроносые «чоботы», а на голове громоздилась высокая золотая парчовая «кика», унизанная рядами жемчужных рясок. Шибко припекало уже утреннее солнце; под грузным головным убором, в пышном праздничном наряде молодой женщине становилось все душней, несносней. Цветущее, круглое, как полная луна, лицо ее так и пылало жаром, так и лоснилось; дыхание у нее захватывало, но развязать пояс, расстегнуть хоть на одну пуговку опашень не дозволяло ей, видно, чувство собственного достоинства.
Спутница щеголихи, лет на десять ее старше, была одета не в пример скромнее: в простой кумачный сарафан безо всякого шитья и в поношенную душегрейку; волосы ее были подобраны под одноцветную шелковую шапочку – «подубрусник», повязанный сверху чистым белым платком – «убрусом»; на ногах же у нее были попросту смазные сапоги.
Маленький пирожник опередил бы и этих двух женщин, не подхвати он пару слов из оживленной их беседы.
– Больно ты уж страшлива, Спиридоновна, – говорила пожилая женщина своей молодой спутнице. – Ну, попалят, побалуют, – даст Бог, дурна ему никакого не учинится.
– Оно точно, будь опаска, – царедворцы, верно, не попустили б, – тяжело отдуваясь, заметила первая. – А все, знаешь, душа не на месте. Пусть первою кормилицей ему была эта новоявленная княгиня, а попросту такая же, как и ты, кума, как и я, грешная, баба деревенская: всячески я его, голубчика моего, без малого два года тоже грудью своей кормила! Пусть он там царского рода, а все же он мне теперича ровно свое родимое детище.
«Вторая кормилица царская! – сообразил мигом Алексашка. – Ишь, как вырядилась: инда дохнуть нечем. Что значит – на жирных харчах нагулять себе тело!»
Как всякому москвичу, Алексашке было хорошо известно, что первая кормилица меньшого царя, Петра Алексеевича, Ненила Ерофеевна, особенная любимица царицы Натальи Кирилловны, не выкормив еще царского младенца, овдовела и была вновь выдана замуж за князя Львова; а с тех пор, что она вторично овдовела, состояла по-прежнему при Дворе царицы на большом жалованье и в великом почете. Заместившую ее Олену Спиридоновну, оставшуюся и до сих пор, по собственному ее выражению, «бабой деревенской», Алексашка как-то видел уже мельком в селе Преображенском и тотчас узнал ее теперь по дебелому затылку и утиной походке с перевальцей.
«Ужели за десять верст пешком притащилась?» – рассуждал он, убавляя шагу и прислушиваясь к неумолчной болтовне двух словоохотливых кумушек.
С первых слов их он услышал ответ себе:
– Нарочно ведь вчерась к тебе в город отпросилася, – говорила с передышкой Спиридоновна, – спозаранку хошь собрались сюда… Уф! Умаялась… и так-то далеконько!
– А самой-то царицы не будет нонче? – допытывалась кума.
– Что ты, милая, перекрестися! Нешто она со вдовства своего куда еще покажется?
– Да мне-то, кумушка, отколе ж все порядки знать-то? – оправдывалась кума. – Место у нас глухое, никаких вестей к нам отселе не доходит, и сама я теперича в Москву впервой только, наездом! Ведь он-то, царь Петр Алексеевич, у нее, царицы нашей, один сын только свой и есть?
– Один, матушка, как перст. Все старшие братья и сестры у него – от первой супружницы покойного царя Алексея Михайлыча, Милославской. Царица же Наталья Кирилловна – из рода Нарышкиных. С первой встречи, слышь, в доме великого боярина Матвеева она ему до смерти полюбилася.
– В чужом доме? Ведь боярышен же наших родители, как жар-птиц каких, взаперти за тремя замками держат?
– Да Матвеев не чужой ей был, а друг старинный родителя ее, Кирилла Полуектовича Нарышкина. Живучи сам в отдаленной усадьбе своей Тарусской, тот выслал дочку, как заневестилась, на побывку, на воспитание к приятелю в Москву. Ну, а покойный царь-от наш любил Матвеева противу всех других царедворцев, что день – запросто наезжал к нему. Так-то вот одним вечером зимним засиделся государь у Матвеевых до самого ужина. Вышла тут в столовую вместе с хозяйкой и воспитанница их, Наталья Кирилловна Нарышкина, – ну, и делу конец: загляделся. Уж куда хороша была: высокая, статная, чернобровая, черноглазая.
– Так что опосля у царя и смотрин особых из отобранных девиц уже не было?
– Как не быть! Разве без этого возможно? Не единожды – дважды скликали для виду на Верх первых боярышен… опричь Москвы, со всех городов Земли Русской: из Рязани и Владимира, из Суздаля, Костромы и Новогорода. В потайное окошечко из соседней горницы переглядел их государь, почитай, до тысячи, но выбора не изменил.
– И счастливо жили?
– Уж так ли счастливо! Особливо, как Бог им сыночка этого Петрушу дал. Ведь старшие-то сыновья государя Алексея Михайлыча, из колена Милославских (что греха таить!), не в отца пошли, не в зазор молвить – радости от них ему было мало…
Спиридоновна на этом запнулась и опасливо оглянулась на шедшего сейчас позади них маленького пирожника. Но Алексашка, как ни в чем не бывало, словно ничего и не слышал, тихонько посвистывал про себя и засмотрелся куда-то в сторону.
II
– А меньшой царевич был не таков? – допытывалась кума.
– Петруша-то мой? – оживленно подхватила снова царская кормилица. – Не ребенка в нем Господь им – клад послал! Да и то сказать: не родился он еще на свет Божий, как знамение об нем в небесах прояви-лося – звезда большущая, пресветлая, и предрек молодой царице муж ученый, Симеон Полоцкий, что будет-де сын у нее преславнее всех его отцов и праотцов, царей Московских. И точно: полугода ему еще не минуло, совсем малехонькой – ходить уж зачал, а еще через полгода сидел верхом на потешной деревянной лошадке, разъезжал по хоромам на потешном стульце. Жизненочек!
– Любили его, я чай, родители-то?
– Такого-то не любить? Надышаться не могли. Уж каких-каких игрушек ни раздобыли, ни понаделали ему! Ведь при Дворе-то царском тоже всякие мастера, свои и иноземные: живописцы да сусальники, столяры да токари. Были у него и барашки с заправской шерстью, и гнезда птичьи – голубей, канареек, чижей, щеглят, были всякие струменты: гусли, цымбалы да клавикорды, были книжки потешные с картинками расцвеченными. Паче же всего забавляли его игрушки воинские, оружие потешное: барабанцы, бубны, топорики, перначи, булавы, чеканцы, лучки, кончеры, знамена и пушечки золоченые на станках и колесцах.
– Ишь ты! – удивлялась заслушавшаяся кума. – Ничего, кажись, больше для ребенка и не придумаешь.
– Ан нет, – возразила царская кормилица, – боярин наш Матвеев придумал: бил царевичу челом такими подарками, какие другим и во сне не снились.
– Ну!
– А вот слушай. Приносил он ему примерно потешные листы фряжские, книжки с кунштами…
– С картинками значит?
– Вот-вот! Чего-чего там не было! И зверье-то всякое, и люди белые, красные да черные, и дворцы-то, и корабли, и бои воинские с пальбой, с шарами огненными. И все-то красками расцвечено: шафраном да белилами, ярью венецейскою да золотом сусальным. Заказал он для царевича еще в мастерских придворных, на больших листах этаких, александрийских, что ли, всю планиту – двенадцать месяцев и беги небесные: ни дать, ни взять, как в подволоках в столовой царской. Но лучший подарок малышу от дедушки Артамона (так звал Петруша боярина) была карета-игрушка – ни в сказке сказать, ни пером описать! Изнутри бархатом выложена, снаружи вся раззолочена, с золотой бахромой, а стекла хрустальные и на стеклах всякие цари да короли расписаны.
– А как же ездить ему в той каретце без коней-то было?
– Знамо дело, что не без них. Четверка живых коньков была впряжена, темнокарых, ростом не выше теленка, и упряжь тоже вся бархатная, золотом шитая, с наголовками, с нахвостиками разноцветными. Как выедет тут, бывало, царевич ваш в своей каретце – по сторонам четыре карлика в малиновых кафтанах с золотыми пуговичками, сзади еще один такой же и все тоже на маленьких лошадочках, – сбежится народ со всех концов поглазеть на диво дивное.
– Да, занятно бы поглядеть, – заметила кума. – Позавчера мне одного из таких карлов на Неглинной показывали: Комаром называли. И впрямь, как есть мизгирь.
– А это первый же нонече карла царский, Никита Комар… Да! Развеселое в те поры житье при Дворе было, – с сожалением прибавила Спиридоновна. – Живали мы тогда с царем, с царицей все больше в Преображенском: очень уж обоим полюбилося. И до Сокольницкой рощи недалече, где тешился покойный государь охотой соколиной.
– А как преставился государь Алексей Михайлыч? Кормилица царская испустила вздох и рукой махнула.
– Тут, милая, все обернулося! Осталось после царя-то три царевича: царевич Феодор, царевич Иван да мой Петруша. На престол родительский воссел, вестимо, старший. На Верху же, в Кремле, около молодого даря Феодора Алексеевича проявились, заорудовали новые припадочные лица (любимцы): Языковы да Лихачевы, а над всем-то, – прибавила Спиридоновна, понижая голос, – девичий терем сестриц-царевен.
– Терем! А сколько их было, дочерей-то, у блаженной памяти государя Алексея Михайловича?
– Да ни много ни мало – шесть душ1. Из шести же третья царевна Софья Алексеевна всех прочих умней, хитрей и отважней. Братец ее царь Феодор Алексеевич с младых ногтей хворый был, хилый, не жилец на сем свете. Царил словно бы он, а на самом деле – терем. Когда ж приключилась с ним последняя смертная хворь (упокой Господь его душу!), царевна Софья, противу исконного обычая девичьего, вышла из терема к больному брату, до самого смертного часа ни на шаг его уж не покидала, из своих рук лекарства ему подносила…
– Стало, душевно болезновала об нем?
– А уж там понимай, как хочешь. Только по ее же, слышь, приказу, у великого боярина нашего Матвеева, хошь ничем таким, кажись не провинился, первым делом, якобы у последнего преступника, все, имена отобрали, самого же за тридевять земель на житье спровадили, куда Макар телят не гонял2. Родных братьев матушки-царицы, Нарышкиных – Ивана да Афанасия – тоже от Двора удалили.
– А другие-то два брата-царевича что?
– Царевича Ивана покуда не тронули в его кремлевских палатах, зато нам с царицей да меньшим царевичем, Петром Алексеевичем, из нашего Преображенского ни шагу не велено делать.
– Да, сказывали об этом, помнится, и у нас на деревне. А как не стало царя Феодора Алексеевича, так пошла сейчас эта смута стрелецкая?
Царская кормилица осенилась крестом.
– Не поминай лучше, ох, не поминай! Только вспомню – дыбом на голове волос встанет, слеза прошибет. Сколько народу православного тут задаром было погублено – и счету нет. Сам добрый боярин наш Матвеев, что едва лишь был возворочен ко Двору из опалы, сложил голову победную… Вечная память мученикам Божиим!
– А кончилось дело все же тем: что меньших двух царевичей, Ивана да Петра, вместе на царство венчали?
– Для виду, точно, венчали, над обоими же, как над малолетками правительницей царевну Софью нарекли: сила воинская – стрельцы были за нее. Как ле-тось в Грановитой Палате завели этот великий спор с раскольниками, на царском седалище хошь и воссел мой Петр Алексеевич, а вкруг него все царское племя, старшее и младшее, – однако царевна-правительница уселась в переднем углу, рядом со светлейшим патриархом, так что ей словно бы принадлежало из всей царской семьи первое место. И в церквах тоже архидьякон во многолетнем поздравлении кличет правительницу наравне с братьями-царями, а опосля уж в особину прочих цариц и царевен.
– Ну, Петр Алексеевич еще юн, можно сказать, птенец, – вставила кума, – но старший царь, Иван Алексеевич, чего смотрит?
Спиридоновна горько усмехнулась.
– Хошь и старше он возрастом чуть не на шесть годков (семнадцатый год ведь в исходе), да Господь беднягу кругом обидел: скудоум, слышь, маломочен, подслеповат и косноязычен. Зато милый птенчик мой, Петр Алексеевич, как есть орленок: чует, что посажен в клетку, и, знай, на волю рвется. Просвети его Бог, открой ему очи! И нынче вон куда урвался – испробовать крылья! Сердце только у меня за него не на месте: как бы коршуны ненароком не налетели, не заклевали!
III
В таких разговорах две кумушки шли себе да шли незаметным подъемом гористого правого берега Москвы-реки, среди загородных садов и рощиц, пока не миновали села Воробьева, за которым против крутой излучины реки, на высшей точке Воробьевых высот показалась конечная цель их странствия – с десяток поставленных на высокие лафеты орудий с копошившимися около них пушкарями. Не на шутку заинтересованный беседой царской кормилицы с ее приятельницей, Алексашка теперь обогнал их и минуты две спустя очутился около самых пушек.
Открывшаяся внизу, под крутизною, обширная картина Москвы, на которую в 1812 году, как известно, загляделся сам Наполеон, не могла на этот раз занять нашего пирожника, неоднократно бывавшего уже здесь. Все внимание его приковал к себе распоряжавшийся пушками приземистый, но коренастый, с выпяченной грудью и внушительным брюшком пожилой мужчина в треуголке и капитанском мундире с красными отворотами, в высоких ботфортах и лосиных перчатках.
Алексашка хорошо знал его. То был огнестрельный мастер Симон Зоммер, выписанный за год назад из Неметчины для обучения царского войска «огненному бою» и назначенный тогда же капитаном в выборный полк думного генерала Аггея Алексеевича Шепелева. Несмотря на забавный ломаный русский язык, которым Зоммер отдавал орудийной прислуге последние приказания, ни сама прислуга, ни толпившиеся в стороне зеваки не смели выказывать слишком явно свою веселость: строгая воинская выправка иноземного капитана, его быстрый, пронизывающий взор из-под нависших серебристых бровей и повелительный, немного сиповатый голос внушал всякому если не уважение, то безотчетный страх.
Поэтому дерзость нашего мальчугана, остановившегося с лотком своим перед самым его носом, должна была тем более удивить господина капитана, который и разразился громовым раскатом:
– Sapperlot-Kreuz-Schock-Donnerwetter und Granaten!..
Но Алексашка был не из робкого десятка; с заискивающей улыбкой он почтительно-фамильярно снял с кудрявой головы обношенный войлочный колпак и довольно бойким немецким языком пожелал суровому немцу-пушкарю доброго утра, прибавив, что господину капитану нижайше кланяется фрау Елена.
Омраченные черты Симона Зоммера прояснились. Он и сам узнал теперь в краснощеком, пригожем пирожнике питомца-приживальца своей старушки-землячки Елены Фадемрехт, жившей с мужем и многочисленным потомством в пригородной Немецкой Слободе.
– So! Bist du das, Kleiner? (А! Это ты малец?) – промолвил он. – Что, фрау Елена, видно, свежих пирогов опять напекла?
– Самых отменных и горячих, – отвечал шустрый продавец, откидывая с лотка полотно. – Не угодно ли откушать?
– Спасибо, друг: видишь, не до того. Вот пожалует его царское величество, за делом, может, проголодается и потребует. Тогда смотри, чтобы хватило, да чтобы не остыли.
– А господин капитан кликнет меня?
– Я-то тут причем?
– Да уж коли господин капитан замолвит за нашего брата словечко, – молодой государь наш, верно, не оставит своей милостью, – вкрадчиво говорил Алексашка, старательно, однако, по доброму совету огнестрельного мастера, прикрывая опять свой лакомый товар, чтобы не остыл.
Зоммер только рукой отмахнулся: не до тебя, мол, и в явном нетерпении отрядил одного из своих пушкарей к Воробьевскому дворцу разузнать, скоро ли наконец молодому царю благоугодно будет пожаловать. Алексашка отретировался в толпе, которую два стражника с бердышами на плечах держали в почтительном отдалении.
– Ты, парнюга, куда полез! – зычно гаркнул на нашего пирожника один из стражников. – Вот я тебя! Давай, что ли, сюда твоих пирогов, да живо!
– Оботри сперва свое неумытое рыло! – огрызнулся тот, а сам благоразумно юркнул за ближайших зрителей, которые наградили его грубое острословие дружным смехом.
– Что, что такое? – озлобился стражник и с бердышем в приподнятой руке кинулся вслед за сорванцом.
Толпа раздалась по сторонам, и Алексашке ничего не оставалось, как прибегнуть к хитрости: уверить, будто пироги у него заказаны для самого царя Петра Алексеевича.
– Так бы и сказал! – буркнул стражник. – Ну, вы, зубоскалы! Что напираете? Грому на вас нет!
В это время по пути из города донесся быстрый стук лошадиных копыт. Симон Зоммер, заслонив глаза ладонью от бивших ему в лицо лучей невысоко стоявшего солнца, насупив бровки, засмотрелся по направлению топота. В облаках пыли мчался во всю конскую прыть, распустив удила, одинокий всадник, молодой стрелец из стражи царевны-правительницы Софьи Алексеевны.
– Ну? – спросил Зоммер, когда тот соскочил наземь и приблизился к нему.
– Благоверная государыня царевна наша повелеть изволила отнюдь не зачинать огненной пальбы, поколе сама сюда не пожалует, – отрапортовал с формальным поклоном гонец.
– Царевна персонально будет приезжать? – недоумевая, переспросил по-русски Симон Зоммер, и решительно покачал головою. – Этого быть не может!
– Вестимо, врет, господин капитан, – позволил себе ввернуть слово старший из пушкарей. – Царевна хоть и грамотейница, да девица степенная, разумная. С самого того спора раскольничьего из терема, слышь, ногой не ступила, в горенке своей, чай, шелковые кошельки только да пояски вышивает, бисерны лестовки вяжет…
– Молчать! – с сердцем оборвал капитан забывшего субординацию подчиненного и повторил по адресу гонца свое прежнее: – Этого быть не может!
– Но коли выслала меня вперед, стало – будет, – возразил тот.
– Не мое дело – государево дело!
И упрямый старик круто повернулся к гонцу спиною.