Быть жертвой больше не выгодно. Дополненное издание
Tekst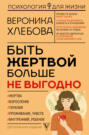


Mine üle audioraamatule
- Maht: 200 lk. 88 illustratsiooni
- Žanr: Psühholoogia, populaarteaduslik, Eneseareng
Почему так трудно «выйти из Жертвы»?
Каждый из нас сталкивается в жизни с такими обстоятельствами, в которых ощущает бессилие, беспомощность, в которых боится заявить о себе, ответить отпором на вторжение в свою жизнь тех, кого не звали, или же, напротив, не может не спасать, предпочитая своим интересам чужие.
Как правило, в таких обстоятельствах эмоционально мы переживаем свой детский опыт, в котором наша жизненная энергия на то, чтобы иметь смелость рисковать, заявляя о себе, отстаивая свои границы, была заблокирована запретами и непринятием родительских фигур, от которых мы должны были получить разрешение, право и поддержку на такой риск.
Теперь, в нашей взрослой жизни, в похожих обстоятельствах, мы продолжаем оставаться жертвами, по-прежнему зависящими в своих решениях от других людей, которых мы выбираем на роль «родителей».
Вот несколько иллюстраций такого состояния:
«Я уже много лет жду, когда меня освободит моя семья… Я зарабатываю на всех – на детей и на мужа, организую быт, отдых, помогаю, сочувствую, спасаю… У меня нет сил, удовольствий и радости. Но мне очень страшно остановиться. Вдруг я стану ненужной и меня оставят?»
«Я не верю в себя. Мне кажется, ничего из меня не выйдет. Я надеюсь на мужа, но он не может заработать достаточно, чтобы на все хватало. Я делаю вид, что я сижу с ребенком, но на самом деле мне страшно заявлять о своих желаниях, страшно искать работу. Я не верю, что меня услышат, сочтут достойной».
«Когда-то родители не поддержали меня в том, чтобы я поступила учиться в театральный институт, вынудив меня получить «востребованную» профессию юриста. Я подчинилась… Получив образование, ни дня не работала по специальности. Я ненавижу эту профессию. Сейчас я не могу освободиться от обиды и отчаяния… Мне кажется, что тогда я упустила свой единственный шанс и нового шанса построить счастливую жизнь уже не будет».
Я боюсь агрессии, потому что не могу себя защитить. Я боюсь говорить о том, что мне не нравится, – мне страшно показаться капризной. Я не хочу просить о помощи, я жду, что мне ее предложат (помогут, оценят по достоинству). Я не хочу просить о помощи, потому что боюсь показаться навязчивой…
Все это отголоски детских страхов и ожиданий от родителей, родителей и воспитателей, которые не признали, не дали разрешение, не оценили, не поддержали. Или еще хуже: обесценили, подавили, использовали.
Это отголоски реальных историй, реального опыта – того, что происходило с ними в детстве.
Это отголоски опыта взаимодействия с воспитателями, которые не сделали важной работы: не поддержали ребенка в его праве быть отдельным и самостоятельным, не позволили повзрослеть, и потому человек на этом уровне, уровне травмы, продолжает попадать в Жертву и зависает в ней, ожидая необходимого позволения жить своей жизнью.
В этих правилах, стереотипах, порой откровенном невежестве (я имею в виду игнорирование естественных законов развития ребенка) происходит блокировка жизненной энергии, которая скажется на всей последующей жизни в тех ситуациях, где нужно заявить о себе, предъявить свои права, обозначить свои границы.
Человек, очутившийся в Жертве, продолжает ждать от «Родителя» разрешения на то, чтобы жить и совершать свои выборы самостоятельно, при этом он может переживать гигантское сопротивление тому, чтобы выбраться из ямы самому.
Это сопротивление, выражаемое словами «Я не смогу», «У меня не получится», «Я хочу, чтобы мне дали то, что должны», говорит о страхе Ребенка (теперь внутреннего) совершать самостоятельные действия без одобрения Родителя (тоже внутреннего). Это сопротивление говорит о страхе и тайной надежде получить-таки все, что недодали, в обмен на соблюдение вдолбленных «правил» (см. выше).
Перечислю вкратце причины, по которым человек, зависающий в Жертве, отказывается брать на себя ответственность за себя и свои выборы:
1. Он боится. Очень боится. Боится чувствовать вину, стыд и плохость за нарушение «правил», боится лишения родительского тепла (даже если его никогда не было, сохраняется иллюзия, что его можно когда-нибудь получить за усердное соблюдение «правил»), а также покидания, отвержения, одиночества за «непослушание».
2. Он все еще надеется получить все перечисленное (права, признание и тому подобное), надеясь на детские стратегии заслуживания и подстройки под ожидания.
3. Он не верит в то, что его усилия приведут к желаемому результату (неверие в себя – тоже отголосок детского опыта, когда попытка опереться на родителей ни к чему не приводила).
4. Он не знает, как обозначить свои границы вербально, словами, так как никогда не слышал таких оборотов и не видел, как это работает.
Внутри нас продолжает жить ребенок, который по-прежнему нуждается в родительском одобрении для того, чтобы получить разрешение на отделение от них.
Стало быть, для того чтобы выйти из жертвы, эту поддержку необходимо себе внутренне обеспечить.
Помогает все то, чего в свое время не хватило ребенку, – признание детского страха: «Я боюсь, потому что я не был раньше поддержан в своих решениях» и признание всех остальных детских состояний – бессилия, сопротивления, надежды.
Также необходимо вернуть родителю ответственность за причиненный ущерб: «Я не чувствую себя ценным… не потому что был “плохой” и виноватый в том, что “плохо поступал”, а потому что мои воспитатели не могли взять на себя ответственность за то, что не умели меня принять/отпустить».

Придется распрощаться с детской иллюзией получения награды за «послушание».
И, наконец, необходима сознательная внутренняя реабилитация себя в каждом конкретном эпизоде переживания своей «плохости»: «А в чем я сейчас виноват? Почему я чувствую себя плохим? В чем заключалась моя ответственность? За что отвечали другие люди?»
До тех пор пока внутренняя поддержка будет слабее страха вины, бессилия и других состояний, которые можно обозначить как «ребенок-без-поддержки», человек не рискует выходить из Жертвы.
Когда внутренняя поддержка станет сильнее, выход из Жертвы будет делом времени.
На кого бы опереться?
Когда травматик «размораживается» в терапии, когда отступают его защиты – в первую очередь идеализация родительских фигур и своего детства, когда он наконец начинает осознавать: то, что с ним случилось, – это не следствие его плохости и вины, а следствие неэмпатичного обращения с ним, он переживает горе. То самое горе, от которого он прятался, которое ему трудно было признать, что психологически он – сирота. Что ничего уже не изменить, новое детство не обеспечить, а полученные в прошлом травмы по факту формируют его нынешнюю жизнь, и выйти из них усилием воли невозможно. Одновременно травматик начинает четко идентифицировать свою «голодную» потребность в ответственном, заботливом, сильном взрослом, сильном родителе, на которого можно было бы опереться. Находясь в постоянном поиске такой фигуры, опираясь на свои «антиродительские» критерии, он непременно ее находит – и начинает ее идеализировать.
Этот найденный человек может, к примеру, проявлять свои чувства, в отличие от эмоционально закрытых родителей, которые чувства скрывали, или он умеет слушать, или кажется решительным, ответственным – опять же, в отличие от родителей и тому подобное.
Чаще всего такой фигурой становится новый партнер, но не только. Идеализироваться может начальник, старшие сотрудники или друзья, врачи, другие чиновники. Бессознательно от наделенного «взрослостью» ожидается желательное поведение по отношению к травматику, а именно – терпение, эмпатия, ответственность за свои действия и чувства, способность прояснять проблемы во взаимоотношениях, не вываливаясь в защиты. Так незаметно происходит перенос внутренней потребности вовне на другого человека…
Увы, разочарование неизбежно. Несмотря на идеализированное ожидание «взрослости», очень скоро, при первых же возникших трудностях, реальные люди – возлюбленные, чиновники, всевозможные авторитеты – оказываются… обыкновенными людьми, которые имеют свои уязвимости, прячутся за защитами, боятся быть искренними или же не выдерживают прояснений, открытых вопросов, а зачастую попросту не врубаются: что же это такое – территория под названием «партнерские отношения»?
И начинается новая полоса разочарований. Те, кого ты «наделил» взрослостью и ответственностью, тоже оказываются в трудных ситуациях, напуганными, совсем не взрослыми – детьми. Где же найти человека, на которого можно опереться?
После энного количества попыток найти-таки себе взрослую фигуру (обычно 3–5 лет терапии), пережив серию болезненных разочарований, крушения надежд, перенеся боль ретравмы, травматик медленно, но верно приходит к освободительному выводу: он взрослее многих из тех, кто его окружает.
Это он сам способен удерживаться в отношениях, даже если в них возникают трудности из разряда «снова попали в травму», он осознает свои защиты, опирается на открытость в отношениях, он сам способен прояснять неясности, теневые стороны отношений, и он сам может брать ответственность за свои чувства и действия…
Постепенно его покидает тоска по взрослой фигуре, по партнеру, который возьмет на себя часть его ноши. Приходит осознание: «Я сам – достойный партнер. Я лучше всех позабочусь о себе, помогу и поддержу. И смогу поддержать подходящего мне партнера».
Еще через какое-то время сходят на «нет» привычные идеализации других людей, и травматик все больше видит реальных, настоящих, совсем не идеальных женщин и мужчин со всеми их «слабостями» и достоинствами. И не рушится от этого.
Опираясь на принятие себя, подлеченный травматик выбирает «своего» партнера, с которым ему хотелось бы развивать отношения.
Чувства как симптомы
Обида
Не бывает обид из взрослого состояния, это детское чувство. Если вы чувствуете обиду, можете сразу для себя обозначить: «Я в Ребенке». Если обида – это симптом, то чего?
В той ситуации, где вы почувствовали обиду, вы возлагали на другого человека свои надежды. Вы ждали, что он (человек) поступит определенным образом, вы ждали нужного для вас поступка, отношения к себе. Однако он поступил иначе, нежелательным для вас способом. Обида означает, что в этот момент вы привязаны к желательному для вас поступку от другого человека, вам кажется, что вы не можете без него обойтись.
Взрослый не чувствует обиду. Он чувствует злость – если, к примеру, были нарушены некоторые договоренности. И ожидание было основано именно на них, а не на фантазиях, интерпретациях обещанного или мечтах.
При этом, если смотреть на обиду как на симптом, не оценивая себя, то вы увидите, в каких обстоятельствах вы еще не окрепли, не отделились от сильного «родителя», не получили права на свои самостоятельные действия… К примеру – обидно, что не позвали в компанию друзей? Возможно, эти друзья в вашей субъективности «большие и значимые», и их приглашение укрепляет вашу значимость. А что происходит с этой значимостью, если ее нужно подкреплять?
Или: обидно, что не сказали, что вы красивая (умная, талантливая, сексуальная)? Почему этот человек имеет право назначать вас значимой или не очень? И вы сами наделяете его этим «правом»? Что происходит с вашим самопризнанием?
Свободным себя чувствует отделившийся от родительской фигуры человек.
В свою очередь обида возникает к родительской фигуре (это понятие шире, чем просто родитель), и ожидания сохраняются к ней же.
«Снова обиделась, что не услышали то, что для меня важно. Обидно, что опять не поинтересовались, чего же хочу я сама. Кажется, что мне «предпочли» другую – и вот… обидно. Так старалась, так выложилась, и – не оценили…»

Это то место, где вы еще не встали на ноги. Это то место, где вы надеялись, ждали и не получили. И ждете до сих пор. Разрешения, тепла, участия, вовлеченности – чего угодно.
Это то «место», где не сформировалось право поступать по своему усмотрению, потому и сохраняется зависимость от авторитетного признания-разрешения.





