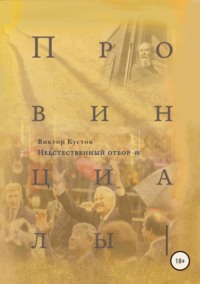Loe raamatut: «Провинциалы. Книга 4. Неестественный отбор»
Эйфория неофитов
Черников
Закрывались лагерные ворота за Черниковым в одной стране, открылись в другой. В той, которая канула в прошлое и которую он хорошо знал и помнил, остались, помимо комсомольской азартной молодости, жажды действия и клейма диссидента, и «самый справедливый» суд, который вдруг из фарса превратился в его, Черникова, личную драму, и друзья, обернувшиеся в одночасье врагами, и не осуществленные, теперь, похоже, навсегда, планы. Семь лет он ел лагерные харчи, способствующие похудению, носил обезличивающую робу, выслушивал истории виновных и невинных людей, наблюдал, как звереют от власти по одну сторону забора и тупеют от страха по другую, – одним словом, познавал ту жизнь, которая большинству граждан неведома. И все эти годы он писал во все инстанции, куда было позволительно, добиваясь пересмотра дела, воспринимая все с ним произошедшее как неправый суд не над ним, гражданином, а над мыслью, отличной от общепринятых. А можно ли судить мысли?
Это был главный вопрос, который он ставил в письмах, явно смущая этим маститых и не очень юристов, но желание усомниться в его дееспособности, возникавшее то у одного, то у другого чиновника от юриспруденции, тут же пресекалось более властными структурами, не допускавшими, чтобы и так шитому белыми нитками делу придали еще и оттенок недееспособности. Это ведь тоже было бы пятно на официальном портрете справедливого безгрешного советского правосудия.
Если бы ему был отмерен больший срок, наверное, подобная эпистолярная связь с неведомыми, но всемогущими адресатами и принесла бы в конце концов свои плоды, но срок закончился как раз тогда, когда на воле начали происходить ощутимые перемены, чем-то напоминающие давнюю уже оттепель шестидесятых, – пору его молодости, вкус которой, если разобраться как следует, в конечном итоге и привел его в этот лагерь, кстати, ничем особым не отличающийся от социалистического, разве что размерами да набором занятий, отвлекающих от мыслительного процесса.
Он вышел в предосеннюю стылость, удивившись вдруг распахнувшемуся горизонту, поморщился от вида стоящих вдали аляповатых многоэтажек и побрел по уже обметанной первой пожелтевшей листвой тропинке в ту сторону, где все суетилась какая-то жизнь, еще не решив, куда теперь держать путь. Дома, а точнее, там, в Иркутске, откуда его забрали, никто не ждал. И это нисколько не огорчило: Юля была слишком юна, чтобы научиться ждать. Сотоварищей там тоже было не очень много, да и теперь им, похоже, было не до него, – теперь всем, похоже, было не до кого. Но это как раз и придавало бодрости, веры в то, что наконец-то наступило долгожданное время свободы…
Конечно, логичнее всего было ехать в Москву: там, в столице, все всегда случается в первую очередь, там можно разобраться в происходящих событиях, встретиться с умными людьми, старыми знакомыми, окунуться в гущу перемен, о которых к ним в острог долетали весточки. Не все ведь отвернулись, забыли, вычеркнули из записных книжек, опасаясь за собственное благополучие. Вот и Галочка писала письма поддержки, слала посылки, наверное, на что-то еще надеясь, хотя на что может надеяться бездетная женщина, когда ей за сорок лет?..
Поймал себя на этой несвоевременной мысли и усмехнулся: ему-то уж явно не дано это знание, он не женщина. И с этой усмешкой над самим собой вернулась привычная уверенность в том, что все пойдет как надо и ехать ему только в столицу, до которой как раз и хватит заработанных за эти годы грошей – рабской платы за скотское арестантское существование.
Он трясся в общем вагоне, жадно вглядываясь в проползающие за окнами деревеньки, станции, городские перроны, откровенно изучая остающихся позади, случайно попавших в поле зрения людей со своей неведомой ему жизнью, так и не избавившись от юношеской привычки самому додумывать их прошлое и настоящее. Но на этот раз его привлекала не игра, он сравнивал этих людей с теми, чьи лица, смазанные движением, изредка мелькали в узкой щели вагонной двери, когда его везли оттуда. где он провел последние семь лет. Он хотел видеть различия, но люди за окном были все той же знакомой прежде массой человечесиких единиц, сосредоточенных на своих заботах, внешне лишенных индивидуальности и, как и прежде, несвободных.
Но в Москве, выйдя на привокзальную площадь, он сразу ощутил наэлектризованную атмосферу стремительно перемещающихся в пространстве, как всегда торопящихся московских пешеходов, приезжих, местных, и в то же время некую раскованность, даже расхлябанность, которая очевидно прочитывалась в глазах вяло вышагивающих милиционеров (а может, это ему показалось в сравнении с конвойными, привыкшими отслеживать каждый шаг заключенного), но он отнес это к числу тех самых долгожданных перемен, о которых так давно мечтал. Оттого и пошел сам к милиционерам, чтобы убедиться в этом, а может, опять же по привычке испытывать власть на лояльность, проверить ее отношение теперь уже не к гражданину, а к беспартийному обладателю справки, то есть неполноценному члену общества. Шел, глупо улыбаясь и сознавая, что действительно должен выглядеть нелепо, если не сказать – подозрительно, в телогрейке, ушанке, сапогах, в больших, явно выделяющихся на его худом лице, замызганных очках (оправу сам смастерил из зубных щеток, присланных Галиной), подбирая и все не находя слов, чтобы не слишком и обидеть этих юных, прыщеватых и чересчур серьезных от осознания своего социального статуса слуг власти и в то же время высказать им то, за что не однажды отсиживал в карцере. Но милиционеры даже не удосужились его подождать, скользнули равнодушным взглядом и, развернувшись, неторопливо пошли к другому вокзалу. Он по инерции сделал еще несколько шагов, остановился, посмотрел вслед удаляющимся мешковатым, лениво-властным фигурам и, с сожалением вздохнув, заторопился в метро, решив, что лучше будет, если он явится безо всякого извещения: ведь писала все эти годы, пусть и товарищеские, письма, а может, даже лучше, что товарищеские – дружба надежнее любви…
Хотел по-своему, а получилось так, как должно было по высшему, неведомому ему распорядку, в который, кстати, он не очень-то и верил, считая себя с комсомольского задорного возраста убежденным атеистом: Галины дома не оказалось, ключ на старом месте не лежал (сколько лет-то прошло…), и пришлось сидеть на песочнице во дворе, хорошо, что начало осени, не холодно, но и не жарко в родимой телогреечке. Сидел, любовался безмятежными малышами и надутыми, влюбленными в своих отпрысков и себя мамашами, гордыми от своей исправно исполненной женской миссии (молодые матери всегда напоминали ему квочек, с которыми он воевал в детстве, вытаскивая из-под их пушистых задов теплые яйца), летал мыслями по разным временам, все еще чувствуя себя непривычно без терпкого запаха мужского общежития, жесткого распорядка, сладких грез о том, что будет, когда вернется опять в мир людей, не ведающих ограничений, лишенных понимания, как мало человеку нужно и как он, этот мир, хрупок.
За грезами пропустил Галину. А может, видел, да не узнал. Потому что когда уже в темноте поднялся по лестнице и надавил кнопку звонка, открыла ему дверь невысокая полная женщина с незнакомой фигурой, но с лицом Галины. Правда, ощутимо расплывшимся, стекшим вниз к подбородку, и он огорчился, хотя глупо было надеяться через столько лет увидеть ее такой, какой она осталась в памяти, – огорчился, но уже улыбался еще за дверью, настроившись что-нибудь скаламбурить, на случай, если откроет не она, а какой-нибудь самодовольный самец в нижнем белье, отчего не стал особо разгадывать изменения ее лица, не стал задавать банальный вопрос: узнает ли, не сомневаясь, что узнала, – женщины его всегда запоминали, особенно те, с кем ему приходилось делить ложе, – сказал обыденно, словно расстались не далее как утром, устав от ночной тесноты и скучного трудового дня:
– Это я пришел.
И она растерянно кивнула, похлопала полными губами, которые когда-то страстно его целовали, так же обыденно произнесла:
– Проходи.
Но в комнату не ушла, лишь отступила в сторону, наблюдая за тем, как он раздевается, ставит у порога сапоги, из которых пахнуло привычным ему запахом мужского общежития, наконец опомнилась, суетливо метнулась куда-то, вернулась с полотенцем, выглаженной пижамой (новая или… А у него была в этом доме пижама?), сказала, пытаясь поймать его взгляд:
– Там ванная. Ты знаешь… А я приготовлю поесть…
– Узнаю твою чистоплотность… Нет, чтобы накормить сначала…
Сказал просто так, закрепляя утраченную обыденность существования в этом замкнутом пространстве с уже изменившейся, но все еще чем-то знакомой женщиной. А она вдруг покраснела. Стала оправдываться, обещая моментально что-нибудь приготовить, потому что ничего сегодня еще не варила, но он махнул рукой и закрыл за собой дверь ванной, не меньше, чем голод, ощущая потребность смыть, стереть с себя все эти годы, прожитые не так, как хотел, как мог бы…
Когда вышел в пахнущей лежалой чистотой пижаме, немного великоватой, но, похоже, все же его, каким он был прежде, размера, на чистеньком кухонном столе его ожидали тарелочки с аппетитными кружками колбасы и ноздреватыми пластинками сыра, масляно золотились шпроты, дымилась в блюде картошка, и все это закономерно дополняли пузатенький графинчик (кажется, он его сам покупал) и две хрустальные рюмочки. Он подумал, что уместнее было бы сейчас налить в кружку, но, взглянув на Галину, ожидающую если не похвалы, то одобрения и отчего-то вызывающую необъяснимую жалость, произнес:
– В снах такого не снилось…
И придвинулся ближе к столу.
Теряясь от выбора, положил на тарелочку картофелину, подумав, добавил кружок колбасы и, подняв уже налитую Галиной рюмку, коротко сказал:
– За встречу.
Пока мир становился мягким и добрым, а сидящая напротив женщина превращалась в красавицу, пробуждая желание, стремительно поедал подкладываемое ею и слушал, что произошло в его отсутствие.
Галина работала в издательстве редактором и даже издала книгу стихов (в этом он заставил ее признаться, напомнив, что она вставляла в свои письма оптимистичные четверостишия), замужем так и не была, хотя любовника в свое время (после исчезновения с ее небосклона Черникова) имела. Но он то ли сбежал, то ли она его выгнала (Черников уточнять не стал, какая разница!), и в последнее десятилетие если и были в ее жизни увлечения, то исключительно платонические.
Выпив, Галина раскраснелась, разоткровенничалась, закурила сигарету, удивившись, что он так и не научился курить даже в лагере, начала горячо рассказывать о последних московских событиях, которые теперь были событиями всей страны. Кое-что он уже слышал, но подробностей, о которых не пишут в газетах и не рассказывают политработники, не знал и с интересом слушал и о традиционной для страны (пока генсек отдыхает) попытке переворота гэкачепистами с трясущимися руками, и о нетрадиционной, для страны же, чете Горбачевых, не скрывающей своих отношений (коснулась и влияния Раисы Максимовны на мужа, которое одобряла, а размякший и подумывающий уже о другом Черников спорить с ней не стал), и о решительном и большом Ельцине, о котором вся страна узнала по крылатой фразе соратника по партии: «Борис, ты не прав!», но тот оказывался все более и более правым.
От услышанного Черников пьянел еще больше, чем от водки, ощущая прилив энергии: наконец-то стали говорить правду не только на кухнях, но и на трибунах, площадях. Он все более возбуждался и, наконец, повел разговорившуюся Галину все к тому же знакомому ему дивану, изрядно постаревшему на вид, но исправно служащему своей хозяйке и теперь вновь прогибающемуся и под ними. И они предались краткому неистовству плоти, щедро расплескивая долгое воздержание, а потом вновь стали привыкать к телам друг друга, и Черников неожиданно для себя подумал, что суждено ему, похоже, завести с Галиной сына и уж больше не мотаться по стране.
Но тут же он вспомнил о происходящих переменах и решил, что заводить сына и оседать еще все же рано, а оглядев расползшееся, утратившее былую привлекательность рыхлое тело вернувшейся из ванной Галины, подумал, что и ребенка с ней заводить не стоит.
Если, конечно, его не угораздило это сделать сейчас. Впрочем, вряд ли это возможно, ей уже за сорок…
И, успокоенный, он заснул, согретый жарким женским телом…
…Всю следующую неделю он ходил по городу, впитывая пьянящий воздух свободы, который был сродни озону перед грозой. Отстаивал очереди у газетных киосков, торопливо шел в ближайший сквер или тихое место и жадно читал, по привычке домысливая то, что осталось между строк, хотя в этом уже не было необходимости: разномастные издания не жалели резких слов и той самой правды-матки, которой так хотелось в пору, называемую теперь застоем…
Начитавшись, шел бродить по самым горячим московским местам, останавливался возле стихийно возникающих групп, слушал ораторов, стараясь каждому верить, хотя это ему не было присуще, пока наконец не понял, что без помощи Галины самому во всем не разобраться. Он уже не сомневался: то, что доходило к ним в лагерь, было лишь слабым отголоском поистине глобальных перемен.
Сначала Галина пыталась пересказать ему в хронологическом порядке события последних месяцев, но получалось это у нее со всяческими отступлениями о своей жизни в эти годы, когда даже в столице вдруг опустели прилавки магазинов, когда было жалко цивилизованных прибалтов и совсем не жалко вдруг взбунтовавшихся кавказцев, когда такого приятного во всех отношениях мужчину, большого, уверенного Ельцина, нынешнего президента России, пытались убить эти отморозки-коммунисты, заведшие их всех в тупик…
Он раздражался, требовал воздержаться от бабских эмоций и умозаключений, наконец попросил принести подшивку какой-нибудь правдивой газеты.
Она принесла «Московские новости», и он пару дней сидел не разгибаясь, пытаясь понять, в какую страну вернулся.
Прежде всего пришлось окончательно поверить, что прежнего и казалось вечного социалистического лагеря государств больше нет. Что у Горбачева в свое время просто не дошли руки (или жалобы так и не дошли куда положено), отчего Черников и отбыл в местах не столь отдаленных отмеренный ему срок, а так бы давно уже гулял на свободе, как тот же академик Сахаров… Он внимательно перечитал все выступления депутатов, имена которых ему были хорошо знакомы. Конечно, Гавриил Попов и Анатолий Собчак, нынешние градоначальники двух столиц, были не в пример более политически грамотными, чем тот же академик Сахаров, напоминавший ему подростка, толком не разобравшегося в правилах мальчишеских уличных драк, но лезущего в свару…
Его порадовало, что коммунистической партии больше нет, что в Москве и Ленинграде места бывших партийных аппаратчиков заняли демократы. Он понимающе посочувствовал прибалтам, которые и так давно жили наособицу, разве что числясь союзными республиками да беззастенчиво пользуясь богатствами России. Армяно-азербайджанские отношения его не очень взволновали, он считал, что темпераментные южане больше шумят, чем делают, и скоро все там затихнет само собой… Предложение Ельцина всем брать суверенитета столько, сколько смогут переварить, ему не понравилось. Теперь он не понаслышке знал, чем чревата неограниченная свобода – за годы изоляции насмотрелся на разных типов и многих из них, будь его воля, никогда бы не выпускал оттуда, не сомневаясь, что, кроме горя, они ничего не принесут в этот мир…
Бывшего Генерального секретаря некогда могущественной партии и потом президента СССР Горбачева он самостоятельным политиком не считал, предполагая, что тот по своей интеллигентской мягкости попал под сильное влияние американских и европейских лидеров.
Ельцин на его фоне действительно выглядел победителем, способным справиться со всеми проблемами, в том числе и с местными князьками, которые тоже стали проявляться, декларируя свои претензии…
Наткнулся на письмо деятелей культуры, писателей (в их числе был и Валя Распутин), в котором те предупреждали, что опасно брать пример с западного и тем более американского устройства государства.
Удивился: неужели они так и не поняли, что Советский Союз был обречен, что партия сама себе вырыла могилу?.. И чем плоха западная демократия, западная культура?.. Впрочем, при всем своем уважении к писателям-деревенщикам, к которым относил и Распутина, Черников все же считал их архаичными, необходимыми обществу, лишь влияющими на него, формирующими общественное мнение на определенном этапе, когда доступ к более откровенному и прямому искусству, прорастающему из периода оттепели шестидесятых, был закрыт…
После двухдневного «политпроса» бодрящий запах озона куда-то исчез, осталось только предчувствие приближающейся и, похоже, неизбежной и довольно скорой грозы. Теперь можно было выходить к сведущим знакомым, чтобы либо получить подтверждение собственным выводам, либо отказаться от них, пока те не стали убеждением.
В литературной и окололитературной среде его приняли с восторгом, обрядив сразу без его согласия в тогу радетеля, страдальца за демократию, подобострастно расшаркиваясь за то, что не им, благоденствующим все эти годы, да и сейчас не бедствующим, а ему пришлось нести крест несправедливости уходящей навсегда власти.
Первыми раскрыли ему глаза на его нынешнее общественное положение знакомые Галины, набежавшие в один из вечеров, как он понял, исключительно взглянуть на него, живого борца за наступившие дни. Экзальтированные дамы и горячие товарищи, желающие теперь быть господами, хотели слушать о пытках, издевательствах, невыносимой лагерной жизни… Скоро он понял, что им совсем не нужна правда, что мнение о его жизни там, за колючей проволокой, у них давно уже сложилось, и не стал оспаривать, тем более что в главном они были все же правы: там, где он провел эти годы, человек жить не должен…
Подруги Галины оказались более прозорливыми, нежели товарищи-господа, они нашли некий фонд, который помогал таким, как он: там улыбчивые барышни, без запинки говорящие по-английски, выделили ему довольно приличную сумму (подъемные перед работой на новой ударной стройке, усмехнулся он), посоветовали обратиться еще спустя некоторое время, если будет в том нужда. Зато товарищи-господа сделали несколько публикаций в различных изданиях демократического толка. А в «Московских новостях» вышел разворот с очень удачной его фотографией и перевранным текстом (прочитав, сам удивился, как только умудрился выжить в жутких условиях), после чего ему позвонили из правительства Москвы и предложили серию выступлений в трудовых и не очень трудовых коллективах.
– Естественно, Борис Иванович, мы прекрасно понимаем ваше нынешнее положение, поэтому – не безвозмездно… – приятный баритон на другом конце выдержал многозначительную паузу и добавил: – Гонорар будет почти как у академика…
Он уклончиво ответил, что, дескать, предложение заманчивое, тем более у него есть что рассказать…
– Мы знаем, – ненавязчиво вклинился голос, снявший последние сомнения, что на другом конце провода если не нынешний, то бывший чекист, и Черников сразу насторожился, напрягся, вспомнив изуверские приемы этой службы, и жестко сказал:
– Пусть об этом попросит меня ваш начальник…
И положил трубку, полагая, что собеседнику с предполагаемым им чекистским прошлым или настоящим разъяснять ничего не стоит.
И оказался прав. На следующее утро уже другой, женский ласковый голос сообщил, что Гавриил Харитонович Попов ждет его сегодня, в семь часов вечера. И извинился за столь позднее время аудиенции, сославшись на занятость мэра Москвы в остальное время суток.
…Его привели к Попову, широкому, неторопливому, похоже, ошалевшему от нежданно свалившейся на него ноши, так и не разобравшемуся до конца, куда следует ее отнести, к почетным регалиям или тяжкому кресту. Он задал пару дежурных вопросов, но в ответах Черникова, который держался независимо и даже с определенным вызовом, нашел что-то важное для себя, велел принести чаю, и они проговорили почти час, найдя немало точек соприкосновения и даже общих знакомых. Попов сказал, что очень надеется на поддержку и помощь настоящих демократов, таких, как Черников, способных открыть глаза народу, не допустить, чтобы их правое дело было опорочено вульгарным грабежом, жаждой наживы, желанием отобрать что-то у другого, которые уже зреют в толпе… Что главная задача сейчас – все это удержать в узде, ибо страшен русский бунт и нельзя его допустить…
Беседа, да и Гавриил, ему понравились, Черников был готов согласиться выступать и без всякой оплаты, хотя деньги нужны были – не хотелось сидеть на иждивении Галины. А если быть честным с самим собой, то хотелось убежать от нее, вдруг вообразившей, что им суждено доживать век вместе, отчего флер тайны будущего развеялся, он представил, как изо дня в день, из года в год будет являться в эту хрущевку в Черемушках, как будет наблюдать растекание форм некогда стройной и быстрой Галочки (сам он, конечно, тоже не молодеет, но себя не видно), обсуждать последние сплетни (ибо без них даже во времена гласности Москва немыслима) или, за неимением другой темы, перемывать косточки знакомым.
Заплатили ему за выступление действительно неожиданно хорошо, он не прочь был бы продолжить этот вояж по учреждениям, вузам, конторам, но тот неожиданно прервался. Как потом узнал Черников, объявился новый герой советских застенков, рассказы которого были более впечатляющими. Но это его особо не огорчило, он уже сдал в толстый журнал свои воспоминания, которые тут же вне очереди пошли в номер, заключил договор с издательством на предмет издания книги и даже получил аванс.
Теперь у него было достаточно денег, чтобы осуществить задуманное, уподобившись великому старцу Льву Николаевичу, которого он уважал, но до недавнего времени не понимал, а вот теперь, кажется, начал понимать и даже ощущать некое родство, хотя великий мудрец даже в бурной молодости не переваливал Уральский хребет, а значит, даже случайных отпрысков, состряпанных в загуле и кромешной тьме, быть там не могло…
Он устроил Галине выход в ресторан, нынче кутили так, как кутили, наверное, только во времена нэпа и где можно было еще что-нибудь поесть, и там же, ей, раскрасневшейся, размякшей, вспомнившей молодые годы и опыт соблазнения, (на который тут же попалась пара горячих и щедрых на быструю любовь кавказцев), он сообщил Галине о своем решении.
– Ты же меня знаешь, я на одном месте сидеть не могу… Тем более после стольких лет… Надо поездить по России, посмотреть, книжку написать…
Он приготовился было еще искать аргументы, но она неожиданно весело перебила, поглядывая в сторону шумного застолья кавказцев:
– Когда собираешься уезжать? Не будешь ждать реабилитации?..
Он подумал, что удачно выбрал место и время для непростого, как ему казалось, разговора.
– Я тебе позванивать буду, я ведь моим корреспондентам твой адрес оставил.
– Далеко? – спросила она, маленькими глоточками отпивая коньяк и перекатывая бокал ладонями.
Вскинула глаза, в которых вдруг промелькнула отчаянная грусть, и тут же спрятала ее за игривыми искорками. И мелькнувшая было у Черникова мысль, каково ей будет опять одной, спасительно спряталась за другую, что она еще вполне ничего, клюют же на нее горячие джигиты – найдет еще спутника приближающейся старости…
Напоминание о том, что годы уже не молодые, а жизнь не бесконечна, стоит поторопиться наверстать упущенное, окончательно утвердило Черникова в его решении.
– Сначала на Дальний Восток, на родину надо заглянуть. На могилках давно не был…
Он помолчал.
Она положила на его руку сверху свою мягкую ладонь, словно мать, успокаивая и защищая, и он подумал, что никогда мужчине не понять женщину, есть у нее какое-то свое, особое, недоступное мужчине знание, данное ей, видимо, с муками деторождения…
– А потом, может, и обратно, к тебе, – вдруг произнес он севшим голосом.
Откашлялся, медленно вытащил свою руку из-под ее ладони.
– Еще в Иркутск заеду. Все-таки альма-матер, друзья-гэбисты…
Хотелось бы повидаться…
Вспомнил следователя, холеного молодого карьериста, потомственного инквизитора, азартно и старательно шившего ему дело и с помощью самого несправедливого суда упекшего за решетку, а заодно и Андропова, во времена которого и закрутилась вся карусель, до той поры придерживаемая оставшимися верными друзьями из этой конторы…
Скривился.
Опрокинул рюмку терпкого коньяка.
– Все будет хорошо… – успокоила его Галина, хотя несколько минут назад он собирался успокаивать ее. – Тебе действительно надо съездить в родные места, столько лет в нечеловеческих условиях…
Они уходили, провожаемые откровенными взглядами и цоканьем языком дошедших до кондиции кавказцев, и Черников понимал, что цоканье и взгляды относятся исключительно к ней, и в гардеробе незаметно оглядел: действительно, аппетитные женские формы, симпатичное личико, ей бы рожать да рожать, да вот не дано…
Эту ночь они провели как страстные любовники, он не устоял перед неистовыми ласками, поддался зову плоти и даже что-то ласковое бормотал перед тем, как обессиленно придавить ее тяжестью своего тела и отрешенно, словно не о себе, думая о собственной роли в этом процессе: так и быть, пусть будет ребенок… Но позже, когда она, доверчиво прижавшись, гладила пальчиками его лицо, словно запоминая и прощаясь (и это отчего-то раздражало), не сдержался, спросил, не опасный ли у нее период, да и вообще, способна ли она еще иметь детей.
Галочка перестала гладить, полежала, очевидно, переживая вопрос, потом, не отвечая и не одеваясь, белея полноватым телом, пошла на кухню, где он и нашел ее, голой, курившей под форточкой.
– Ну, и чего надулась? – грубовато спросил, не зная, как себя вести, и представляя как забавно они сейчас со стороны выглядят – двое немолодых уже людей в чем мать родила.
– Покурить захотелось…
Она выбросила наполовину выкуренную сигарету в форточку, и та полетела вниз с пятого этажа (для какой-нибудь букашки – падающая звезда, для озабоченного подростка – нежданный «бычок», для случайного прохожего – невоспитанность жильцов этого дома).
Потом, ни слова не говоря, пошла обратно.
Он постоял немного, вдыхая прохладный воздух, и пошел следом.
В комнате горела настольная лампа, Галина, уже в ночной рубашке, лежала на взбитой подушке. И он вдруг застеснялся своей наготы, натянул трусы, юркнул под одеяло.
Обнял неловко.
– Ладно, чего ты…
– У меня, Боря, после тебя была любовь. И ребеночек у нас мог быть. А я дура была: у меня карьера, у него докторская, вот и пошла… И ребеночка убила… И за это расплатилась сполна, на всю мою жизнь. И он ушел, и я одна осталась…
– Прости.
– Ничего, дело прошлое… И не исправишь… Ты когда уезжаешь?
И хотя думал еще недельку побыть в столице, понял, что это уже прощание, и коротко ответил:
– Послезавтра…
…С вечера она собрала ему приобретенный на первый гонорар абалаковский рюкзак, уложив вниз стопку необходимых, потрепанных и еще не очень зачитанных книг, которые он отобрал из ее библиотеки.
Потом они долго пили на кухне чай, обсуждая всякие пустяки, стараясь не касаться политики и всяких событий в стране: он все еще не мог переварить обвалившуюся на него информацию и порой физически ощущал ее тяжесть, боялся надорваться или заблудиться в трех соснах. Другое дело – незатейливая вязь пустяшной беседы, начиная с бывшей и будущей погоды (мудрый рецепт дряхлых англичан), которая этой осенью то ли радует, то ли огорчает своими переменами, под стать времени, не понять, что с ней происходит. Как не понять и все происходящее в некогда огромной стране, рассыпавшейся в одночасье на отдельные большие и маленькие вотчины. С одной стороны, гласность, демократия, проснувшийся после многолетней спячки народ на площадях и улицах ему нравились. Но, с другой, было неприятно, что все стараются поскорее откреститься от России, от совместной и весьма непростой истории Советского Союза, который даже враги уважительно называли империей (тем самым отдавая должное величине и мощи)… Но и в этом житейском разговоре не обошлось без политического контекста: стало ненужным издательство, в котором Галочка столько лет проработала, дослужившись до главного редактора отдела. Самое загруженное прежде, не озабоченное финансовыми проблемами, под известным всей стране названием «Политиздат», оно вдруг начало сбиваться с привычного и, казалось, вечного ритма.
Галочка еще не осознала, что в любую минуту может оказаться на улице, обвиняла в перебоях нерасторопного директора, а Черников уже понимал, что это неизбежно и этот колосс, созданный ушедшей партией и временем, должен вот-вот рухнуть, но не стал расстраивать ее, предположив, что у той должны быть накопления на черный день, да и квартира из трех комнат, можно при крайней нужде пускать на постой.
К тому же дал себе слово, когда получит полный расчет за книгу, поделиться с Галочкой. Хоть так отблагодарить за все, что она ему дала…
Ночью он на прощанье хотел ее приласкать, но она сослалась на усталость, и они долго пролежали в темноте без сна порознь, каждый думая о том, что отрезок их совместной жизни слишком мал, чтобы претендовать на долговечность.
Утром распрощались по-деловому в коридорчике, и, очутившись за захлопнувшейся дверью, он пережил те же эмоции, что и за проходной лагеря. Только, в отличие от тех минут, теперь он не был растерян, даже наоборот, было ощущение, что впереди, невзирая на раздрай и смуту в стране, большая и насыщенная новая жизнь. По пути в Домодедово, глядя в окно автобуса на желтые продымленные перелески, вдруг подумал, что надо будет все же заехать в Байкальск к бывшей жене, встретиться с сыном. Не хотелось сознаваться, но не мог забыть слова Галочки об одиночестве… Интересно бы увидеть и Юлю, клялась ведь, а он верил, что станет ждать, как жены декабристов… Впрочем, что взять с влюбленной в собственный вымысел девчонки, не стоит ворошить прошлое, у него и так будет к кому в Иркутске наведаться…
Выйдя из автобуса и забрав из багажного отделения рюкзак (на удивление прочих очемоданенных путешественников), Черников направился к входу в аэропорт и столкнулся с молодым мужчиной, явно выделявшимся среди суетливых пассажиров неторопливостью, элегантным черным пальто и большим блестящим кейсом в руке. Буркнул что-то извинительное, обходя этот островок благополучного спокойствия, но мужчина вдруг ухватил свободной рукой его под локоть.
– Куда же вы так торопитесь, Борис Иванович?.. Опять революционеров выискивать?