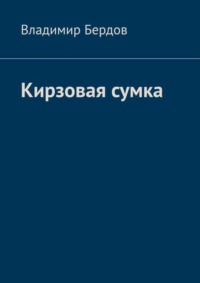Loe raamatut: «Кирзовая сумка»
© Владимир Андреевич Бердов, 2019
ISBN 978-5-4496-3169-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Владимир Бердов
Кирзовая сумка
Непридуманные истории прошлого и настоящего
Омск
2011
Семь лет службы на флоте и в пехоте, десять – работа в газетах и на радио, более двадцати – в педагогике без отрыва от журналистики да сорокалетняя практика дневниковых записей. Все это в какой-то степени подтолкнуло автора к письменному столу.
Перефразируя известную поговорку, Владимир Бердов построил баню, шалаш посадил несколько деревьев и кустарников, вырастил сына и двух дочерей и сейчас занимается воспитанием внуков.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
«Вспоминаю армейскую газету «Ленинское знамя», Красноярск, себя молодого и в форме, и еще Владимира Бердова, очень русского, очень талантливого парня, который писал хорошие стихи и трепетные рассказы.
Вместе мы прослужили год. Потом я демобилизовался, а он, т.к. был моложе и, соответственно, призвался позже, остался.
Несколько лет, пока я жил в Алмалыке, мы переписывались, потом я переехал в Ташкент, затем в Москву, и мы потеряли друг друга.
Еще в армии, опекая его, как «старик» «молодого», я был убежден, что проявляю заботу о втором Иванове-Разумнике, Вампилове, Василии Белове, а может, даже Куприне.
Живя в Москве и в Мюнхене, я задумывался: ну где же этот сибирский парень, тем более, что его романам, повестям или рассказам давно пора осветить небосвод российской словесности. Но нет, Бердов не появлялся. И вдруг звонок из выходящей в Кельне газеты «Контакт»: «Вас разыскивает армейский товарищ Владимир Бердов, живущий в Омске. Продиктовать телефон?» «Конечно, диктуйте!»
И вот я слышу голос из юности. Мы вспоминаем Красноярск, нашу многотиражку, типографию, редактора-чудака Бердичевского, самоволки… Впрочем, все это эмоции, а вот потрясение в том, что Бердов не стал великим русским писателем. Он, оказывается, стал журналистом. Уверен, что квалифицированным, надежным, оперативным. Но родился-то он, чтобы стать Писателем. Талантище в нем было огромное. Но не стал, позволив втянуть себя в суету и повседневность будней. И в этом, а не в чем ином, как раз и кроется, пресловутая загадка русской души и русского характера…»
Из книги известного немецкого писателя Александра Фитца «Письмо Канцлеру»
ПРИЗНАНИЕ
Жене Раисе
В нашей жизни
так порой случается,
Словно русла
разных прежде рек,
Судьбы двух людей
объединяются,
Когда встречен
главный человек.
Мы с тобой
на теплоходе встретились
Летнюю прекрасною
порой:
Хорошо, что общий
путь наметили
И пошли
дорогою одной.
Ты мой друг,
судьба моя, советчица.
И хотя порой
упрямый я,
Но капризы все
тобою лечатся —
Без тебя мне
впрямь никак нельзя!
Милая, любимая,
родная!
Ты мой самый
главный Человек.
И с годами
больше понимаю:
Ты моя судьба,
мой оберег!
10.02.2011г.
КИРЗОВАЯ СУМКА
Елка
Походный человек
Дело было в Пеньково
Фросина каша
Кирзовая сумка
Басарга
Среди добрых людей
ЕЛКА
В наших лесах не было хвойных пород деревьев, и накануне новогодних праздников школьный завхоз Иван Петрович снаряжал подводу в балахлейский или новопетровский бор. Дело ответственное: нужно подобрать и привезти к сроку школьного праздника добрую ель. Для Кармацкого это не впервой, но каждый раз волнительно: угодит ли школьному начальству, а главное – детворе?..
В дорогу готовился основательно: бросал на сани-розвальни девятиовчинный тулуп, топор, веревки. Памятуя о крестьянской поговорке «Едешь на день, а еды запасай на три», брал с собой кусок сала, каравай домашнеиспеченного хлеба и «сороковушку» для сугрева. Логиновская поллитровка, выданная для «дипломатических» переговоров с лесничим, была завернута отдельно, но и она согревала настроение: всякий раз из нее наливалось и Петровичу.
Задобренный лесничий давал полный карт-бланш, и смекалистый завхоз, преодолевая снежные заносы, долго примерялся, приглядывался к разлапистым сосенкам и елочкам, выбирая деревце попышнее и постройнее.
Часто в один день не управлялся, и приходилось заночевывать у знакомых. Для соблюдения секретности на обратном пути Иван Петрович подгадывал и въезжал в село вечером.
Устанавливать и украшать елку поручалось старшеклассникам, и спортзал закрывался от любопытной «милюзги». Каждый класс вносил свою новогоднюю лепту: придумывали и мастерили карнавальные маски, раскрашивали и склеивали картофелинами, сваренными в мундире, серпантинные ленты, сочиняли веселые поздравления в школьную стенгазету.
Дома елки не ставили, разве что несколько начальственных семей позволяли себе эту «роскошь», и поэтому школьная елка была сюрпризом для детворы, и волнительные ожидания усиливали торжественность праздника.
О елках школьной поры у каждого свои воспоминания. Для меня это хруст зимнего яблока из большого подарочного кулька, аромат шоколадных конфет, обернутых в «драгоценные» фантики и Дед Мороз, в котором мы, став постарше, угадывали наших учителей…
На новогодних праздниках зарождались искорки любви, и почтальоны-разносчики признательных записок были тому свидетелями.
Сколько же нужно времени, чтобы мальчишка, робко дергающий понравившуюся девчонку за косички, осмелился, наконец, пригласить ее на танец, шепнуть на ушко что-то тайное и коснуться пересохшими губами до ее румяной нежной щеки, не получив ответную оплеуху?
…Последний раз на школьную елку я попал через несколько дней после службы в армии, и моим «карнавальным костюмом» была сержантская форма с армейскими значками. Приглянувшаяся старшеклассница не сразу согласилась со мной танцевать: «староват!». В перерывах между танцами ее классный руководитель, однорукий историк, нашептывал:
– Девчонка, что надо. Отличница, королева, если соответственно приодеть!
Королева была неподступна. После новогоднего вечера я выскочил ее проводить и, настигнув у школьной калитки с дрожью в коленках, попытался взять под руку, она сверкнула на меня глазищами:
– Дяденька, не надо! – и скрылась в зафонарной темноте.
Когда я рассказал об этом другу Петьке, он долго «ржал», тыча в мою сторону пальцем: «Дя-день-ка!».
Всякий раз, наряжая с детьми и внуками домашнюю елку, вспоминаю светлые новогодние праздники далекого детства, когда елка таинственно «приходила» к нам и так же «уходила». После праздников ее не выбрасывали на всеобщее обозрение, как это делается сегодня, а прибирали и распиливали на заготовки для школьной мастерской.
ПОХОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Зимним вечером, когда мать была на дежурстве, а я, разложив вокруг керосинки, книжки и тетрадки, делал уроки, в закуржавленное окно постучали. Из темноты палисадника пялилось и что-то маячило небритое одноглазое лицо. Младшая сестренка спала на печи, и я заробел. Случалось, незнакомцы и раньше к нам стучались, но этот пиратского вида старик почему-то не вызывал доверия, и я долго не осмеливался ему открывать. И только, когда он начал дуть на руки и приплясывать под окном, я его пожалел.
Еще в сенях он с акцентом затараторил:
– Моя Аптула теревня, там ущительнищал. Вы не пойтесь меня, ропята.
Обснеженные валенки он снял в холодных сенях и, смешно перешагивая разматывающимися портянками через высокий порог избы, продолжал извиняться и оправдываться:
– Я тут по телам пыл, немноко затершалса.
Как выяснилось в разговоре, ему было около шестидесяти, но выглядел он много старше. Наверно, его старила линялая фуфайка, подпоясанная ремнем, козья шапка и седеющая небритость на лице.
Развязывая залатанную котомку, он попросил поставить на печку-железянку с полведра воды:
– Отнако шипко нынще устал и ись охота.
Когда вода начала закипать, старик бросил в ведро пучок душистой травы. Затем достал начатый полукруг хлеба и сверток сала, чем немало удивил: из рассказов одноклассника Марика я знал, что татары сало не едят.
После нескольких кружек мутновато-коричневого напитка постоялец отогрелся, повеселел, и его покрывшаяся капельками пота бритая голова совсем не пугала. Допивать полуведерный «самовар» он подсел к затухающей, но все еще обдающей теплом железянке. Покряхтывая от удовольствия, старик завел то ли быль, то ли небылицу:
«Возле одной деревни была высокая гора, над которой с неба свисал пеньковый канат. Всякий раз, чтобы рассудить какой-то спор, деревенские мужики поднимались на гору. Кто был прав, тот до каната доставал, а виноватый достать не мог.
Так было до тех пор, пока в деревне не появился пришлый человек. Как-то он занял деньги у соседа и отперся. Привели виноватого и пострадавшего на гору справедливости и велели доставать до каната. Тот, кто давал деньги, поднял руку и сразу достал. Пришел черед виновному доставать. Он был хитрый и под предлогом, чтобы ловчее до каната достать руками, отдал свой костыль подержать тому, с кем судился. Протянул руки и тоже достал до каната. Народ удивился: как это оба правы?
А у виноватого в костыле было высверлено полое место, куда он засунул деньги, в займе каких отпирался. Так получилось, что с костылем он отдал деньги заемщику и потому дотянулся до каната.
Так он обманул всех, но с тех пор канат поднялся на небо, и больше его никто не видел. А на горе на пожертвования построили храм, и люди ходили туда за правдой».
Вместе с печкой «потухли» и сказки постояльца. Старик по-походному скрючился в углу на своей фуфайке и притих… Утром его на месте не оказалось. Он ушел засветло, чтобы с ишимскими бензовозами добраться до своей деревни. Пьянящий аромат заваренного разнотравья стойко держался в избе. И его нельзя было скрыть от матери, которая, уходя в ночное дежурство, всегда наказывала: «Незнакомцам не отворяйте!». Но в тот раз мы рассказали ей про доброго сказочника, и она нас не ругала.
Ближе к лету аптулинский киномеханик, приехавший в наш клуб за кинобанками, заскочил к нам и передал от старика гостинец: ученическую тетрадь и начатый сине-красный карандаш.
Имя этого походного человека я забыл, а сказка, которую он рассказывал, в памяти запечатлилась. Сам ли он ее придумал или вычитал где, когда в комсомольские годы работал избачом-книгоношей.
ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВО
Площадью в несколько сот метров приветный кротовский уголок, прозванный Пеньково, с одной стороны примыкал к реке Балахлей, а с севера отделялся от кладбища грунтовым большаком. Здесь располагались цеха промартелей и стояла известная аптека тети Лизы Андреевой. А чуть дальше в березовой роще – сельская больница.
Говорят, когда работала местная гидростанция, то неподалеку от нее было и пенькопроизводство. Об этом напоминают бесконечные копани да прозвище «Пеньково».
Сегодня конопля попала в немилость и в разряд криминогенного продукта, а до войны под ее посевы отводились значительные площади. Она росла в огородах, как и мак, украшая сельские палисадники. И, слава Богу, что людей того времени не привлекала пагубная страсть – тяга к наркомании. Прежде чем пустить коноплю в производство, стебли вымолачивали и из семян выжимали прекрасное пищевое масло. Затем коноплю вымачивали и высушивали тресту, которая после переработки шла на изготовление грубой посконной ткани и веревок.
В одном из домов, где мы с матерью квартировали, в межкомнатной стене было проделано отверстие. По детской наивности я думал, что оно служит для подглядывания, и иногда этим пользовался. Но позже мне объяснили, что через него пропускали крученую пеньку и зимними вечерами мужики вили веревки.
Еще одна пеньковская достопримечательность – кирпичный заводик. Производство это было высокорентабельным, поскольку глину – основное сырье, добывали тут же. Казалось, грохот ленточных транспортеров и гул обжиговых печей не смолкали здесь ни днем ни ночью. Кирпичей производили порядком, но что-то мало было в селе домов кирпичной кладки.
В холодную осеннюю пору, озябшие на рыбалке, мы бежали сюда погреться. А возвращаясь к своим удочкам, непременно прихватывали по несколько кирпичей, на которых жарили небогатый улов или нанизанные на прутики обабки из ближнего лесочка.
Но больше нас к пеньковской стороне притягивали старые тополя. По весне здесь собиралось молодежи больше, чем у сельского клуба. У веревочных качелей, встроенных между огромных деревьев, всегда было шумно и очередно. Хотя, главной притягательницей была лапта. Играли в основном взрослые и подростки. Лаптой увлекались и в других уголках села, но здесь было как-то престижней, хотя и не всякого принимали в команду. Когда брал в руки биту Ванька Хомич, собравшиеся на поляне замирали. Он редко промахивался и так запуливал самодельный губчатый мяч, что его долго приходилось искать. Быть «осоленным» его метким броском мало кто хотел. Особенно с визгом уворачивались девчонки. Но Ванька нарочно метил в женские прелести. До самых потемок ребятня резвилась у старых тополей, и родители знали, где их искать.
Когда беготня нам наскучивала, мы собирались в доме изобретательного Вовки Кондрюкова. Назвать домом их покосившуюся избушку под дерном, было трудно. На крыше Вовка прилаживал репродуктор, который, заглушая лай собак, горланил на всю окраину. Иногда он включал микрофон и через усилитель транслировал какую-нибудь шуточную информацию. Но это уже считалось хулиганством, и местный участковый с серьезными предупреждениями наведывался к доморощенному диктору. Для осуществления своих творческих идей Вовка часто обшаривал местные мехмастерские. Утащить с охраняемого объекта автомобильный аккумулятор или подшипники для колесянки ему ничего не стоило. А однажды укатил целое колесо, разбортовал его и вынутую камеру приспособил для плавания. Я был свидетелем, как он накидывал на освещенную фару полу своей фуфайки и тяжелым предметом разбивал ее. Еле слышный хруст стекла и лампочка была в его руке.
Став постарше, Вовка остепенился и при напоминании эпизодов озорного детства с легкой усмешкой отшучивался. Имея всего лишь начальное образование, он знал радиотехнику на уровне хорошего инженера. После армии я работал на радио, и, если случались в моих магнитофонах поломки, он охотно меня выручал. Зная, что лучше его в этом деле никто не разбирается, к нему несли все – от простой настенной «тарелки» до телевизора. Иногда, его просили покопаться в мототехнике, Кондрюков и в этом разбирался, но всегда отсылал к другому умельцу, Петьке Чуракову, который в этих вопросах кумекал больше.
Деревня всегда жила с юмором в ладу, и прозвища здесь давали меткие, словно в паспорт вписывали. Кондрюков непременно был Кондратом, Чураков – Чурой, бабушка Шутова – Шутихой, а Колесова – Колесихой. Можно бесконечно называть фамилии и имена – прозвища сельчан, которые в большинстве своем шуточно – безобидные. Но и к ним еще прилаживалось место проживания.
В километрах двух от пеньковской окраине Балахлей размывался вширь, излюбленное место рыбалки —Красный омут. Я не помню, чтобы тут купались. Напуганные таинственными страшилками взрослых и длиннохвостыми ондатрами, которые могли кое-что откусить, ребятишки не осмеливались входить в воду. Когда рыбалка удочками не удавалась, случалось и хулиганили: вытрясали поставленные неподалеку местными промысловиками мордушки (плетеные из ивняка рыболовные снасти).
Как-то в очередном рейде по рыболовным садкам школьный трудовик Алексей Павлович заприметил на одной из запруд копошащихся и громко переговаривающихся ребятишек. Затаился в кустах и, дождавшись, пока они наполнят карманы и насуют в запазухи трепыхающихся окуней и чебаков, неожиданным медведем вышел на них. Старший подстрекатель Вовка Брызгалов успел улизнуть, а троицу приятелей, словно альпинистов, в одной связке повел в село. Заплаканных и чумазых, с вещдоками под рубахами, доставил их к сельсовету. Время было страдное, и в конторе никого не оказалось. Сбежавшиеся бабы «облаяли» Василия и освободили пленников. Мальчишки были из безотцовских семей, и за них по-мужицки некому было заступиться. А дома от матерей они получили еще и по подзатыльнику.
Вовка Кондрюков в этой акции не участвовал. У него хватало своих, более серьезных, приключений. После того, как он подвел провода от комбайнового магнета к дверной ручке класса и вредная историчка попалась на контакт, Вовку из школы турнули.
ФРОСИНА КАША
Вечерами, управившись с домашними делами и отужинав, люди собирались в клубе или на соседских посиделках. У Фроси Леоновой, кроме нескольких куриц да приблудного пса, по кличке «собака», никакого хозяйства не было. Сунув за пазуху бутылку… керосина, она шла к соседям, где собирались картежники близлежащих домов. Электричества на заречье не было, и приходилось жечь керосиновые лампы. Засиживались подолгу, и каждому полагалось вносить керосиновый пай. Карты были самодельные, их хорошо наладился мастерить курганский Ванька Китаев. Часто и он сидел тут же. Картежник и балагур, он был непревзойденный, и по заранее продуманному им сценарию умело демонстрировал проигрыш, разжигая азарт соперников. Особенно ликовала и радовалась, как ребенок, Фрося. Хозяйка на нее цыкала: за стеной спали дети, которым утром в школу.
«Прохлопав» несколько партий и чувствуя, что картежное шоу пора переворачивать в другую сторону, Ванька подмигивал своей команде и начинался разгром соперников. Описать эту картину, по рассказам матери, которая тоже сиживала в этой компании, под силу только таланту Гоголя. Играли трое на трое, и уже после нескольких проигрышей, Леонова начинала нервно чесаться и сигналить, наступая на ноги под столом своим компаньонам. Ванька давал послабление нервному напряжению еще двумя – тремя проигрышами, и уж потом они начинали окончательно добивать соперников. В предчувствии полного провала, Фрося нервно швыряла карты и, разрядившись матерками, выскакивала за двери. Игра расстраивалась. Дня три она переживала поражение, и компания без нее скучала.
Если в картежной команде ее психовыпады терпели и потешались, то ни в совхозе, ни на другом производстве работать с ней не хотели.
Одну весну полевод Дубровин на свой страх и риск все же решил доверить ей кашеварство на период посевной. Моя мать готовила механизаторам на соседнем полевом стане. Как-то прибегает к ней через вспаханное поле вся растрепанная, раскрасневшаяся Фрося и чуть не плачет:
– Ильинична, у тебя от обеда ничего не осталось?! А то у меня кормить нечем.
Мать ее тогда выручила. Готовила Фрося не вкусно, и бригада на нее неоднократно жаловалась. А в этом случае она сварила кашу и, чтобы в нее никто не заполз, повесила котелок на березу. На солнцепеке она у нее и прокисла. После этого случая незадачливую повариху со скандалом убрали, приклеив прозвище «ротозея».
Я учился во втором классе, когда мать уговорили пасти личный скот. Крупные и мелкие рогатые животные водились практически в каждом дворе, и стадо с двух улиц набиралось приличное. Нужен был напарник. Но на хлопотную пастушью должность охотников не находилось. Тогда и вспомнили о Фросе, которая перебивалась поденщиной у людей.
В совместной работе с матерью они сдружились. Помощница прислушивалась к совету старшей и быстро освоила немудреное ремесло. А когда они получили первые пастушьи сборы, и вовсе посветлела лицом и подобрела. Набрала себе обновок, но с сапогами так и не расставалась. Да и где было носить эти обновки! А сапоги – самая подходящая обувка для пастуха.
Когда Фросе нужно было отлучиться от стада по каким-то делам, я всегда охотно соглашался ее подменить, и она одаривала меня десятирублевой бумажкой.
Но однажды Ефросинья все же вывела мать из себя. Придремнув на пригретом бугорке, она недоглядела, и коровы с ее фланга забрели в болото. С большим трудом удалось их оттуда выматерить. Но одна широкобрюхая и, похоже, стельная увязла так между кочек, что пришлось бежать за подмогой. Хорошо, что неподалеку тарахтел на поле трактор и мужики не отказались помочь. Пока вытаскивали бедную животину, оттирали ее и сами отмывались от болотной жижи, мать на чем свет крыла помощницу. Фрося виновато посапывала и молчала.
У разведенного для просушки костра мать немного успокоилась, но все еще, словно сковорода, только что вынутая из печки, утихающе продолжала ворчать:
– Если бы корову-то не вытащили, пришлось бы тогда все лето задаром пасти!
Виновница задумчиво слушала и, неразборчиво мыча, поддакивала.
От хорошо разгоревшегося костра отходить не хотелось, но стадо уклонилось к лесу, и мать поднялась его завернуть. Фрося осталась обсыхать. Наверно она не была бы собой, если бы и здесь с ней чего-нибудь не приключилось. Стоя у костра, она так углубилась в размышления о своей нескладной жизни, что не почувствовала, как начала подгорать на ней юбка. Когда мать прибежала на ее громкие ругательства, Леонова уже сдернула дымящуюся одежду и затаптывала ее сапогами. Мать разбирал смех, и она еле сдерживалась. А Фросе было не до смеха. Она обвязалась телогрейкой и под прикрытием стада прокралась домой, дав еще один повод сельчанам для насмешек.