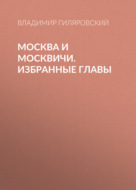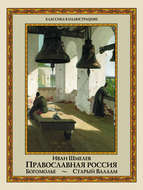Loe raamatut: «Москва и москвичи. Избранные главы»
© ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» 2013
* * *

С. Малютин. Портрет В. А. Гиляровского
От автора
Я – москвич! Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя. Я – москвич!
Минувшее проходит предо мною…
Привожу слова пушкинского Пимена, но я его несравненно богаче: на пестром фоне хорошо знакомого мне прошлого, где уже умирающего, где окончательно исчезнувшего, я вижу растущую не по дням, а по часам новую Москву. Она ширится, стремится вверх и вниз, в неведомую доселе стратосферу и в подземные глубины метро, освещенные электричеством, сверкающие мрамором чудесных зал.
…В «гранит одетая» Москва-река окаймлена теперь тенистыми бульварами. От них сбегают широкие каменные лестницы. Скоро они омоются новыми волнами: Волга с каждым днем приближается к Москве.
Когда-то на месте этой каменной лестницы, на Болоте, против Кремля, стояла на шесте голова Степана Разина, казненного здесь. Там, где недавно, еще на моей памяти, были болота, теперь – асфальтированные улицы, прямые, широкие. Исчезают нестройные ряды устарелых домишек, на их месте растут новые, огромные дворцы. Один за другим поднимаются первоклассные заводы.
Недавние гнилые окраины уже слились с центром и почти не уступают ему по благоустройству, а ближние деревни становятся участками столицы. В них входят стадионы – эти московские колизеи, где десятки и сотни тысяч здоровой молодежи развивают свои силы, подготовляют себя к геройским подвигам и во льдах Арктики, и в мертвой пустыне Кара-Кумов, и на «Крыше мира», и в ледниках Кавказа.
Москва вводится в план. Но чтобы создать новую Москву на месте старой, почти тысячу лет строившейся кусочками, где какой удобен для строителя, нужны особые, невиданные доселе силы…
Это стало возможно только в стране, где Советская власть.
Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. Это на наших глазах.
…Грядущее проходит предо мною…
И минувшее проходит предо мной. Уже теперь во многом оно непонятно для молодежи, а скоро исчезнет совсем. И чтобы знали жители новой столицы, каких трудов стоило их отцам выстроить новую жизнь на месте старой, они должны узнать, какова была старая Москва, как и какие люди бытовали в ней.
И вот «на старости я сызнова живу» двумя жизнями: «старой» и «новой».
Старая – фон новой, который должен отразить величие второй. И моя работа делает меня молодым и счастливым – меня, проживше го и живущего
На грани двух столетий,
На переломе двух миров.
Москва, декабрь 1934 годаВл. Гиляровский
В Москве
Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями, сквозь его живую вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и, только наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц, но он освещал только собственные стекла, залепленные сырым снегом.
Мы шли со своими сундучками за плечами. Иногда нас перегоняли пассажиры, успевшие нанять извозчика. Но и те проехали. Полная тишина, безлюдье и белый снег, переходящий в неведомую и невидимую даль. Мы знаем только, что цель нашего пути – Лефортово, или, как говорил наш вожак, коренной москвич, «Лафортово».
– Во, это Рязанский вокзал! – указал он на темневший силуэт длинного, неосвещенного здания со светлым круглым пятном наверху; это оказались часы, освещенные изнутри и показывавшие половину второго.
Миновали вокзалы, переползли через сугроб и опять зашагали посредине узких переулков вдоль заборов, разделенных деревянными домишками и запертыми наглухо воротами. Маленькие окна отсвечивали кое-где желто-красным пятнышком лампадки… Темь, тишина, сон беспробудный.
Вдали два раза ударил колокол – два часа!
– Это на Басманной. А это Ольховцы… – пояснил вожатый. И вдруг запел петухом: – Ку-ка-ре-ку!..
Мы оторопели: что он, с ума спятил?
А он еще…
И вдруг – сначала в одном дворе, а потом и в соседних ему ответили проснувшиеся петухи. Удивленные несвоевременным пением петухов, сначала испуганно, а потом зло залились собаки. Ольховцы ожили. Кое-где засветились окна, кое-где во дворах застучали засовы, захлопали двери, послышались удивленные голоса: «Что за диво! В два часа ночи поют петухи!»
Мой друг Костя Чернов залаял по-собачьи; это он умел замечательно, а потом завыл по-волчьи. Мы его поддержали. Слышно было, как собаки гремят цепями и бесятся.

М. Якунчикова-Вебер. Москва зимой
Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще пл ощадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами.
– Это Разгуляй, а это дом колдуна Брюса, – пояснил Костя.
Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года.
Из Лефортова в Хамовники
На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортова отправиться в Хамовники, в Теплый переулок. Денег в кармане в обрез: два двугривенных да медяки. А погода такая, что сапог больше изорвешь. Обледенелые нечищеные тротуары да талый снег на огромных булыгах. Зима еще не устоялась.
На углу Гороховой – единственный извозчик, старик, в армяке, подпоясанном обрывками вылинявшей вожжи, в рыжей, овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошевни – низкие лубочные санки с низким сиденьем для пассажиров и перекинутой в передней части дощечкой для извозчика. Сбруя и вожжи веревочные. За подпояской кнут.
– Дедушка, в Хамовники!
– Кое место?
– В Теплый переулок.
– Двоегривенный.
Мне показалось это очень дорого.
– Гривенник.
Ему показалось это очень дешево.
Я пошел. Он двинулся за мной.
– Последнее слово – пятиалтынный? Без почину стою…
Шагов через десять он опять:
– Последнее слово – двенадцать копеек…
– Ладно.
Извозчик бьет кнутом лошаденку. Скользим легко то по снегу, то по оголенным мокрым булыгам, благо широкие деревенские полозья без железных подрезов. Они скользят, а не режут, как у городских санок. Зато на всех косогорах и уклонах горбатой улицы сани раскатываются, тащат за собой набочившуюся лошадь и ударяются широкими отводами о деревянные тумбы. Приходится держаться за спинку, чтобы не вылететь из саней.
Вдруг извозчик оборачивается, глядит на меня:
– А ты не сбежишь у меня? А то бывает: везешь, везешь, а он в проходные ворота – юрк!
– Куда мне сбежать – я первый день в Москве…
– То-то!
Жалуется на дорогу:
– Хотел сегодня на хозяйской гитаре выехать, а то туда, к Кремлю, мостовые совсем оголели…
– На чем? – спрашиваю. – На гитаре?
– Ну да, на колибере… вон на таком, гляди.
Из переулка поворачивал на такой же, как и наша, косматой лошаденке странный экипаж. Действительно, какая-то гитара на колесах. А впереди – сиденье для кучера. На этой «гитаре» ехали купчиха в салопе с куньим воротником, лицом и ногами в левую сторону, и чиновник в фуражке с кокардой, с портфелем, повернутый весь в правую сторону, к нам лицом.
Так я в первый раз увидел колибер, уже уступивший место дрожкам, высокому экипажу с дрожащим при езде кузовом, задняя часть которого лежала на высоких, полукругом, рессорах. Впоследствии дрожки были положены на плоские рессоры и стали называться, да и теперь зовутся, пролетками.
Мы ехали по Немецкой. Извозчик разговорился:
– Эту лошадь – завтра в деревню. Вчера на Конной у Илюшина взял за сорок рублей киргизку… Добрая. Четыре года. Износу ей не будет… На той неделе обоз с рыбой из-за Волги пришел. Ну, барышники у них лошадей укупили, а с нас вдвое берут. Зато в долг. Каждый понедельник трешку плати. Легко разве? Так все извозчики обзаводятся. Сибиряки привезут товар в Москву и половину лошадей распродадут…
Переезжаем Садовую. У Земляного вала – вдруг суматоха. По всем улицам извозчики, кучера, ломовики нахлестывают лошадей и жмутся к самым тротуарам. Мой возница остановился на углу Садовой.
Вдали звенят колокольчики.
Извозчик обернулся ко мне и испуганно шепчет:
– Кульеры! Гляди!
Колокольцы заливаются близко, слышны топот и окрики.
Вдоль Садовой, со стороны Сухаревки, бешено мчатся одна за другой две прекрасные одинаковые рыжие тройки в одинаковых новых коротеньких тележках. На той и на другой – разудалые ямщики, в шляпенках с павлиньими перьями, с гиканьем и свистом машут кнутами. В каждой тройке по два одинаковых пассажира: слева жандарм в серой шинели, а справа молодой человек в штатском.
Промелькнули бешеные тройки, и улица приняла обычный вид.
– Кто это? – спрашиваю.
– Жандармы. Из Питера в Сибирь везут. Должно, важнеющих каких. Новиков-сын на первой сам едет. Это его самолучшая тройка. Кульерская. Я рядом с Новиковым на дворе стою, нагляделся.
…Жандарм с усищами в аршин. А рядом с ним какой-то бледный. Лет в девятнадцать господин… – вспоминаю Некрасова, глядя на живую иллюстрацию его стихов.

С. Светославский. Москворецкий мост
– В Сибирь на каторгу везут: это – которые супротив царя идут – пояснил полушепотом старик, оборачиваясь и наклоняясь ко мне.
У Ильинских ворот он указал на широкую площадь. На ней стояли десятки линеек с облезлыми крупными лошадьми. Оборванные кучера и хозяева линеек суетились. Кто торговался с нанимателями, кто усаживал пассажиров: в Останкино, за Крестовскую заставу, в Петровский парк, куда линейки совершали правильные рейсы. Одну линейку занимал синодальный хор, певчие переругивались басами и дискантами на всю площадь.
– Куда-нибудь на похороны или на свадьбу везут, – пояснил мой возница и добавил: – Сейчас на Лубянке лошадку попоим. Давай копейку: пойло за счет седока.
Я исполнил его требование.
– Вот проклятущие! Чужих со своим ведром не прощают к фанталу а за ихнее копейку выплачивай сторожу в будке. А тот с начальством делится.
Лубянская площадь – один из центров города. Против дома Мосолова (на углу Большой Лубянки) была биржа наемных экипажей допотопного вида, в которых провожали покойников. Там же стояло несколько более приличных карет; баре и дельцы, не имевшие собственных выездов, нанимали их для визитов. Вдоль всего тротуара – от Мясницкой до Лубянки, против «Гусенковского» извозчичьего трактира, стояли сплошь – мордами на площадь, а экипажами к тротуарам – запряжки легковых извозчиков. На морды лошадей были надеты торбы или висели на оглобле веревочные мешки, из которых торчало сено. Лошади кормились, пока их хозяева пили чай. Тысячи воробьев и голубей, шныряя безбоязненно под ногами, подбирали овес.
Из трактира выбегали извозчики – в расстегнутых синих халатах, с ведром в руке – к фонтану, платили копейку сторожу, черпали грязными ведрами воду и поили лошадей. Набрасывались на прохожих с предложением услуг, каждый хваля свою лошадь, величая каждого, судя по одежде, – кого «ваше степенство», кого «ваше здоровье», кого «ваше благородие», а кого «васьсиясь!»1.
Шум, гам, ругань сливались в общий гул, покрываясь раскатами грома от проезжающих по булыжной мостовой площади экипажей, телег, ломовых полков2 и водовозных бочек.
Водовозы вереницами ожидали своей очереди, окружив фонтан, и, взмахивая черпаками-ведрами на длинных шестах над бронзовыми фигурами скульптора Витали, черпали воду, наливая свои бочки.
Против Проломных ворот десятки ломовиков то сидели идолами на своих полках, то вдруг, будто по команде, бросались и окружали какого-нибудь нанимателя, явившегося за подводой. Кричали, ругались. Наконец по общему соглашению устанавливалась цена, хотя нанимали одного извозчика и в один конец. Но для нанимателя дело еще не было кончено, и он не мог взять возчика, который брал подходящую цену. Все ломовые собирались в круг, и в чью-нибудь шапку каждый бросал медную копейку, как-нибудь меченную. Наниматель вынимал на чье-то «счастье» монету и с обладателем ее уезжал. Пока мой извозчик добивался ведра в очереди, я на все успел насмотреться, поражаясь суете, шуму и беспорядочности этой самой тогда проезжей площади Москвы… Кстати сказать, и самой зловонной от стоянки лошадей.

Спустились к Театральной площади, «окружили» ее по канату. Проехали Охотный, Моховую. Поднялись в гору по Воздвиженке. У Арб ата прогромыхала карета на высоких рессорах, с гербом на дверцах. В ней сидела седая дама. На козлах, рядом с кучером, – выездной лакей с баками, в цилиндре с позументом и в ливрее с большими светлыми пуговицами. А сзади кареты, на запятках, стояли два бритых лакея в длинных ливреях, тоже в цилиндрах и с галунами.
За каретой на рысаке важно ехал какой-то чиновный франт, в шинели с бобром и в треуголке с плюмажем, едва помещая свое солидное тело на узенькой пролетке, которую тогда называли эгоисткой…
Театральная площадь
Грохот трамваев. Вся расцвеченная, площадь то движется вперед, то вдруг останавливается, и тысячи людских голов поднимают кверху глаза: над Москвой мчатся стаи самолетов – то гусиным треугольником, то меняя построение, как стеклышки в калейдоскопе.
Рядом со мной, у входа в Малый театр, сидит единственный в Москве бронзовый домовладелец, в том же самом заячьем халатике, в котором он писал «Волки и овцы». На стене у входа я читаю афишу этой пьесы и переношусь в далекое прошлое.
К подъезду Малого театра, утопая железными шинами в несгре-бенном снегу и ныряя по ухабам, подползла облезлая допотопная театральная карета. На козлах качался кучер в линючем армяке и вихрастой, с вылезшей клочьями паклей шапке, с подвязанной щекой. Он чмокал, цыкал, дергал веревочными вожжами пару разномастных, никогда не чищенных «кабысдохов», из тех, о которых популярный в то время певец Паша Богатырев пел в концертах слезный романс:
Были когда-то и вы рысаками,
И кучеров вы имели лихих…

В восьмидесятых годах девственную неприкосновенность Театральной площади пришлось ненадолго нарушить, и вот по какой причине.
Светловодная речка Неглинка, заключенная в трубу, из-за плохой канализации стала клоакой нечистот, которые стекали в Москву-реку и заражали воду.
С годами труба засорилась, ее никогда не чистили, и после каждого большого ливня вода заливала улицы, площади, нижние этажи домов по Неглинному проезду.
Потом вода уходила, оставляя на улице зловонный ил и наполняя подвальные этажи нечистотами.
Так шли годы, пока не догадались выяснить причину. Оказалось, что повороты (а их было два: один – под углом Малого театра, а другой – на площади, под фонтаном с фигурами скульптора Витали) были забиты отбросами города.
Подземные болота, окружавшие площадь, как и в древние времена, тоже не имели выхода.
Начали перестраивать Неглинку, открыли ее своды. Пришлось на площади забить несколько свай.
Поставили три высоких столба, привезли тридцатипудовую чугунную бабу, спустили вниз на блоке – и запели. Народ валил толпами послушать.
Эй, дубинушка, ухнем, эй, зеленая, подернем!..
Поднимается артелью рабочих чугунная бабища и бьет по свае.
Чем больше собирается народу, тем оживленнее рабочие: они, как и актеры, любят петь и играть при хорошем сборе.
Запевала оживляется, – что видит, о том и поет. Вот он усмотрел толстую барыню-щеголиху и высоким фальцетом, отчеканивая слова, выводит:
У барыни платье длинно,
Из-под платья…
А уж дальше такое хватит, что барыня под улюлюканье и гоготанье рада сквозь землю провалиться.
А запевала уже увидал франта в цилиндре:
Франт, рубаха – белый цвет,
А порткам, знать, смены нет.
И ржет публика, и все прибывает толпа.
Артель утомилась, а хозяин требует:
– Старайся, робя, наддай еще!
Встрях ивается запевала и понаддает:
На дворе собака брешет,
А хозяин пузо чешет.
Толпа хохочет…
– Айда, робя, обедать.
«Дубинушку» пели, заколачивая сваи как раз на том месте, где теперь в недрах незримо проходит метро.

Театральная площадь в начале XX века
В городской думе не раз поговаривали о метро, но как-то неуверенно. Сами «отцы города» чувствовали, что при воровстве, взяточничестве такую панаму разведут, что никаких богатств не хватит…
– Только разворуют, толку не будет.
А какой-то поп говорил в проповеди:
– За грехи нас ведут в преисподнюю земли.
«Грешники» поверили и испугались.
Да кроме того, с одной «Дубинушкой» вместо современной техники далеко уехать было тоже мудрено.
Хитровка
Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел.
Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве.
Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускаются, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится. Особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка – жуть берет свежего человека: облако село! Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму.
В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки съестными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с «тушенкой», жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют «собачья радость»…
Хитровские «гурманы» любят лакомиться объедками. «А ведь это был рябчик!» – смакует какой-то «бывший». А кто попроще – ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину горло, легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка – рубец, который здесь зовется «рябчик».
А кругом пар вырывается клубами из отворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водки.
Двух– и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до десяти тысяч человек. Эти дома приносили огромный барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а «номера» ходили по двугривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих; они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и полтора аршина ширины между двумя рогожами и есть «нумер», где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев…
На площадь приходили прямо с вокзалов артели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников: последние скупали все что попало. Бедняки, продававшие с себя платье и обувь, тут же снимали их и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов – в «сменку до седьмого колена», сквозь которую тело видно…
Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев: Бунина, Румянцева, Степанова (потом Ярошенко) и Ромейко (потом Кулакова). В доме Румянцева были два трактира – «Пересыльный» и «Сибирь», а в доме Ярошенко – «Каторга». Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В «Пересыльном» собирались бездомники, нищие и барышники, в «Сибири» – степенью выше – воры, карманники и крупные скупщики краденого, а выше всех была «Каторга» – притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых. «Обратник», вернувшийся из Сибири или тюрьмы, не миновал этого места. Прибывший, если он действительно «деловой», встречался здесь с почетом. Его тотчас же «ставили на работу».

Хитрованцы
Полицейские протоколы подтверждали, что большинство беглых из Сибири уголовных арестовывалось в Москве именно на Хитровке.
Мрачное зрелище представляла собой Хитровка в прошлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов, на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться! И действительно, никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны.
Всем Хитровым рынком заправляли двое городовых – Рудников и Лохматкин. Только их пудовых кулаков действительно боялась «шпана», а «деловые ребята» были с обоими представителями власти в дружбе и, вернувшись с каторги или бежав из тюрьмы, первым делом шли к ним на поклон. Тот и другой знали в лицо всех преступников, приглядевшись к ним за четверть века своей несменяемой службы. Да и никак не скроешься от них: все равно свои донесут что в такую-то квартиру вернулся такой-то.
Стоит на посту властитель Хитровки, сосет трубку и видит – вдоль стены пробирается какая-то фигура, скрывая лицо.
– Болдох! – гремит городовой.
И фигура, сорвав с головы шапку, подходит.
– Здравствуйте, Федот Иванович!
– Откуда?
– Из Нерчинска. Только вчера прихрял. Уж извините пока что…
– То-то, гляди у меня, Сережка, чтоб тихо-мирно, а то…
– Нешто не знаем, не впервой. Свои люди…
А когда следователь по особо важным делам В. Ф. Кейзер спросил Рудникова:
– Правда ли, что ты знаешь в лицо всех беглых преступников на Хитровке и не арестуешь их?
– Вот потому двадцать годов и стою там на посту, а то и дня не простоишь, пришьют! Конечно, всех знаю.
И «благоденствовали» хитрованцы под такой властью.
Рудников был тип единственный в своем роде.
Он считался даже у беглых каторжников справедливым, и поэтому только не был убит, хотя бит и ранен при арестах бывал не раз. Но не со злобы его ранили, а только спасая свою шкуру. Всякий свое дело делал: один ловил и держал, а другой скрывался и бежал.
Такова каторжная логика.
Боялся Рудникова весь Хитров рынок как огня:
– Попадешься – возьмет!
– Прикажут – разыщет.
За двадцать лет службы городовым среди рвани и беглых у Рудникова выработался особый взгляд на все:
– Ну, каторжник… Ну, вор… нищий… бродяга… Тоже люди, всяк жить хочет. А то что? Один я супротив всех их. Нешто их всех переловишь? Одного пымаешь – другие прибегут… Жить надо!
Во время моих скитаний по трущобам и репортерской работы по преступлениям я часто встречался с Рудниковым и всегда дивился его умению найти след там, где, кажется, ничего нет. Припоминается одна из характерных встреч с ним.
С моим другом, актером Васей Григорьевым, мы были в дождливый сентябрьский вечер у знакомых на Покровском бульваре. Часов в одиннадцать ночи собрались уходить, и тут оказалось, что у Григорьева пропало с вешалки его летнее пальто. По следам оказалось, что вор влез в открытое окно, оделся и вышел в дверь.
– Соседи сработали… С Хитрова. Это уж у нас бывалое дело. Забыли окно запереть! – сказала старая кухарка.
Вася чуть не плачет – пальто новое. Я его утешаю:
– Если хитрованцы, найдем.
Попрощались с хозяевами и пошли в 3‑й участок Мясницкой части. Старый, усатый пристав полковник Шидловский имел привычку сидеть в участке до полуночи; мы его застали и рассказали о своей беде.
– Если наши ребята – сейчас достанем. Позвать Рудникова, он дежурный!
Явился огромный атлет, с седыми усами и кулачищами с хороший арбуз. Мы рассказали ему подробно о краже пальто.
– Наши! Сейчас найдем… Вы бы пожаловали со мной, а они пусть подождут. Вы пальто узнаете?
Вася остался ждать, а мы пошли на Хитров в дом Буниных. Рудников вызвал дворника, они пошептались.
– Ну, здесь взять нечего. Пойдем дальше!
Темь. Слякоть. Только окна «Каторги» светятся красными огнями сквозь закоптелые стекла да пар выходит из отворяющейся то и дело двери.
Пришли во двор дома Румянцева и прямо во второй этаж, налево в первую дверь от входа.
– Двадцать шесть! – крикнул кто-то, и все в ночлежке зашевелились.

На Хитровке
В дальнем углу отворилось окно, и раздались один за другим три громких удара, будто от проваливающейся железной крыши.
– Каторга сигает! – пояснил мне Рудников и крикнул на всю казарму: – Не бойтесь, дьяволы! Я один, никого не возьму, так зашел…
– Чего ж пугаешь зря! – обиделся рыжий, солдатского вида здоровяк, приготовившийся прыгать из окна на крышу пристройки.
– А вот морду я тебе набью, Степка!
– За что же, Федот Иванович?
– А за то, что я тебе не велел ходить ко мне на Хитров. Где хошь пропадай, а меня не подводи. Тебя ищут… Второй побег. Я не потерплю!..
– Я уйду… Вон «маруха» завела! – И он подмигнул на девицу с синяком под глазом.
– П-пшел! Чтоб я тебя не видел! А кто в окно сиганул? Зеленщик? Эй, Болдоха, отвечай!
Молчание.
– Кто? Я спрашиваю! Чего молчишь? Что я тебе – сыщик, что ли? Ну, Зеленщик? Говори! Ведь я его хромую ногу видел.
Болдоха молчит. Рудников размахивается и влепляет ему жесточайшую пощечину.
Поднимаясь с пола, Болдоха сквозь слезы говорит:
– Сразу бы так и спрашивал. А то канителится… Ну Зеленщик!
– Черт с ним! Попадется, скажи ему, заберу. Чтоб утекал отсюда. Подводите, дьяволы. Пошлют искать – все одно возьму. Не спрашивают – ваше счастье, ночуйте. Я не за тем. Беги наверх, скажи им, дуракам, чтобы в окна не сигали, а то с третьего этажа убьются еще! А я наверх, он дома?
– Дрыхнет, поди!
Зашли в одну из ночлежек третьего этажа. Там та же история: отворилось окно, и мелькнувшая фигура исчезла в воздухе. Эту ночлежку Болдоха еще не успел предупредить.
Я подбежал к открытому окну. Подо мной зияла глубина двора, и какая-то фигура кралась вдоль стены. Рудников посмотрел вниз.
– А ведь это Степка Махалкин! За то и Махалкиным прозвали, что сигать с крыш мастак. Он?
– Васьки Чуркина брат, Горшок, а не Махалкин, – послышался из-под нар бас-октава.
– Ну, вот он и есть, Махалкин. А это ты, Лавров? Ну-ка вылазь, покажись барину.
– Это наш протодьякон, – сказал Рудников, обращаясь ко мне.
Из-под нар вылез босой человек в грязной женской рубахе с короткими рукавами, открывавшей могучую шею и здоровенные плечи.
– Многая лета Федоту Ивановичу, многая лета! – загремел Лавров, но, получив в морду, опять залез под нары.
– Соборным певчим был, семинарист. А вот до чего дошел! Тише вы, дьяволы! – крикнул Рудников, и мы начали подниматься по узкой деревянной лестнице на чердак. Внизу гудело «многая лета».
Поднялись. Темно. Остановились у двери. Рудников попробовал – заперто. Загремел кулачищем так, что дверь задрожала. Молчание. Он застучал еще сильнее. Дверь приотворилась на ширину железной цепочки, и из нее показался съемщик, приемщик краденого.
– Ну, что надо? И кто?
Поднимается кулак, раздается визг, дверь отворяется.
– И что вы деретесь? Я же человек!
– А коли ты человек – где пальто, которое тебе Сашка Пономарь сегодня принес?
– И что вы ночью беспокоите? Никакого пальта мне не приносили.
– Так. Повыдьте-ка отсюда, а мы поищем! – сказал мне Рудников, и, когда за мной затворилась дверь, опять послышались крики.
Потом все смолкло. Рудников вышел и вынес пальто.
– Вот оно! Проклятый черт запрятал в самый нижний сундук и сверху еще пять сундуков поставил.
Таков был Рудников.
Иногда бывали обходы, но это была только видимость обыска: окружат дом, где поспокойнее, наберут «шпаны», а «крупные» никогда не попадались.
А в «Кулаковку» полиция и не совалась.
«Кулаковкой» назывался не один дом, а ряд домов в огромном владении Кулакова между Хитровской площадью и Свиньинским переулком. Лицевой дом, выходивший узким концом на площадь, звали «Утюгом». Мрачнейший за ним ряд трехэтажных зловонных корпусов звался «Сухой овраг», а все вместе – «Свиной дом». Он принадлежал известному коллекционеру Свиньину По нему и переулок назвали. Отсюда и кличка обитателей: «утюги» и «волки Сухого оврага».
Забирают обходом мелкоту, беспаспортных, нищих и административно высланных. На другой же день их рассортируют: беспаспортных и административных через пересыльную тюрьму отправят в места приписки, в бли жайшие уезды, а они через неделю опять в Москве. Придут этапом в какой-нибудь Зарайск, отметятся в полиции и в ту же ночь обратно. Нищие и барышники все окажутся москвичами или из подгородных слобод, и на другой день они опять на Хитровке, за своим обычным делом впредь до нового обхода.
И что им делать в глухом городишке? «Работы» никакой. Ночевать пустить всякий побоится, ночлежек нет, ну и пробираются в Москву и блаженствуют по-своему на Хитровке. В столице можно и украсть, и пострелять милостыньку, и ограбить свежего ночлежника; заманив с улицы или бульвара какого-нибудь неопытного беднягу бездомного, завести в подземный коридор, хлопнуть по затылку и раздеть догола. Только в Москве и житье. Куда им больше деваться с волчьим паспортом3: ни тебе «работы», ни тебе ночлега.
Я много лет изучал трущобы и часто посещал Хитров рынок, завел там знакомства, меня не стеснялись и звали «газетчиком».
Многие из товарищей-литераторов просили меня сводить их на Хитров и показать трущобы, но никто не решался войти в «Сухой овраг» и даже в «Утюг». Войдем на крыльцо, спустимся несколько шагов вниз в темный подземный коридор – и просятся назад.
Ни на кого из писателей такого сильного впечатления не производила Хитровка, как на Глеба Ивановича Успенского.
Работая в «Русских ведомостях», я часто встречался с Глебом Ивановичем. Не раз просиживали мы с ним подолгу и в компании и вдвоем, обедывали и вечера вместе проводили. Как-то Глеб Иванович обедал у меня, и за стаканом вина разговор пошел о трущобах.
– Ах, как бы я хотел посмотреть знаменитый Хитров рынок и этих людей, перешедших «рубикон жизни». Хотел бы, да боюсь. А вот хорошо, если б вместе нам отправиться!
Я, конечно, был очень рад сделать это для Глеба Ивановича, и мы в восьмом часу вечера (это было в октябре) подъехали к Солянке. Оставив извозчика, пешком пошли по грязной площади, окутанной осенним туманом, сквозь который мерцали тусклые окна трактиров и фонарики торговок-обжорок. Мы остановились на минутку около торговок, к которым подбегали полураздетые оборванцы, покупали зловонную пищу, причем непременно ругались из-за копейки или куска прибавки и, съев, убегали в ночлежные дома.
Торговки, эти уцелевшие оглодки жизни, засаленные, грязные, сидели на своих горшках, согревая телом горячее кушанье, чтобы оно не простыло, и неистово вопили:
– Л-лап-ш-ша-лапшица! Студень свежий коровий! Оголовье! Свининка-рванинка вар-реная! Эй, кавалер, иди, на грош горла отрежу! – хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице.
– Горла, говоришь? А нос у тебя где?
– Нос? На кой мне ляд нос?
И запела на другой голос:
– Печенка-селезенка горячая! Рванинка!
– Ну, давай всего на семитку!
Торговка поднимается с горшка, открывает толстую сальную покрышку, грязными руками вытаскивает «рванинку» и кладет покупателю на ладонь.
– Стюдню на копейку! – приказывает нищий в фуражке с подобием кокарды.