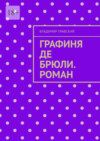Loe raamatut: «Преданные»
© Владимир Графский, 2024
ISBN 978-5-0064-5275-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Владимир
Графский
ПРЕДАННЫЕ
Повести и рассказы
2024
Аннушка
Когда-то и я был военным. Когда-то много было у меня друзей однополчан. И все мы тогда гордились тем, что солдатская форма у нас была времен Великой Отечественной Войны – гимнастерка, галифе с кирзовыми сапогами и пилотка со звездой. В конце войны такая же форма, была и у наших отцов. Только они были другими. Мы как будто тоже защищали Родину, но мы плохо себе представляли, от кого мы ее защищали, у нас не было врага, и мы не сражались с ним на фронте. Мы не знали, кто такой враг, не видели его в глаза и не знали, как его надо убивать. Мы были другими, не похожие на своих отцов.
После службы мы навсегда расстались и вернулись к своим родителям. Служба в Армии, пожалуй, была единственной общей страницей жизни каждого из нас и, видно, поэтому мы продолжали поддерживать связь.
Так уж повелось, общались мы друг с другом через командира отделения Николая, все новости друг о друге передавались только через него. Так было всегда и так долго, что в памяти каждого из нас мы оставались навсегда молодыми. Прошло много лет, теперь мы все состарились.
А месяца два назад я позвонил Николаю, поговорили о том, о сем, армейские истории всякие вспомнили, а потом, когда я уже прощаться стал, возьми и скажи ему:
– Ну, ладно, – говорю, – всем ребятам, кто звонить будет, привет передавай.
А он удивился:
– А кому передавать-то? – говорит – никого уже нет. Ты да я остались.
– Да ты что? – удивился я.
– Да, старик, никого… – подтвердил Николай потухшим голосом. – Ты Фрола помнишь? – спросил он неожиданно.
– Конечно, как не помнить, – отвечаю, – очень хорошо помню, никогда не забывал его. Это же целая легенда – наш Фрол.
– Так вот, и его больше нет, забыл сказать тебе. Умер Фрол. На прошлой неделе прах его закопали рядом с родителями где-то под Москвой. От ковида умер. Ты-то как? Ковидом переболел?
– Да, в легкой форме… – отвечаю, а сам о Фроле думаю, пытаюсь представить его стариком и не могу, после Армии мы ни разу не виделись.
– Не повезло Фролу, – продолжил Николай, – он ведь, ты знаешь, большой пост занимал, персональную пенсию получал и машиной государственной пользовался, а сожгли его, как полено. На похоронах никого не было, одни чиновники, да батюшка. Солдаты отсалютовали, все разъехались и быстро забыли, что жил такой. Теперь так хоронят.
– А семья, дети? – в недоумении спросил я.
– Не было у Фрола ни семьи, ни детей, – помолчал и добавил, – так что, прости, но привет твой передавать больше некому.
Последняя фраза Николая меня не тронула. Что-то неправдоподобное звучало в ней. Не верилось мне, что никого уже нет. То ли я так долго живу? То ли друзья мои так рано ушли? А когда положил трубку, вспомнил Фрола в солдатской форме, и тоже не поверилось, что его больше нет.
Служили мы под городом Тейково Ивановской области в 1968 году. Часть наша стояла в лесу километрах в десяти от города. Фрол плохо служил, недобросовестно. Уродился он, видно, с непростым характером, неспособным подчиняться. Других, раз от разу, вывозили на автобусе в увольнение, а Фрола – никогда. Но он хорошо понимал, каким образом заслуживалось такое поощрение, понимал он и свое неумение что-либо заслуживать. Поэтому, такие увольнения он устраивал себе сам. Только закроют после автобуса шлагбаум на КПП, Фрол тут же отправлялся в самоволку. И так каждый раз.
Иногда и я увязывался с Фролом. Службой хорошей я тоже не отличался и в увольнении тоже ни разу не был, а свободы хотелось. Пожалуй, только мы с Фролом портили все показатели роты. Командир роты о нас так и говорил: «не было бы этих двух придурков, переходящее знамя полка нашу казарму не покидало бы». Но мы с Фролом другими быть не могли.
В самоволку идти особенно было некуда, кругом лес, но нас и это устраивало. Мы с Фролом оба выросли в лесных поселках, он – в таежных лесах, а я – в Воронежском заповеднике. Так что скучно в лесу нам не было.
Километрах в двух от части был хутор. Рубленый дом с неровной деревянной крышей, два сарая, колодец, стог сена, а вокруг зеленая трава. Все это дышало тишиной и миром, напоминало родной дом. Вот на этот хутор Фрола и занесла одна из его самоволок.
Ходили слухи, что у Фрола на этом хуторе появилась зазноба. Как будто, это была молодая женщина, которая бросила своего московского мужа, забрала ребенка и приехала к родителям на хутор. А вот навсегда она приехала или на время, этого никто не знал. Я мог бы спросить Фрола, и он, скорее всего, рассказал бы мне все в красках, как это обычно водилось среди солдат, но я не испытывал никакого любопытства к его похождениям, хотя других это интересовало.
Поймать Фрола в самовольной отлучке хотели многие, а кто-то откровенно ненавидел его. Ведь всегда, когда Фрола не было на поверках, наказывалась вся рота. Объявлялась тревога, и весь личный состав в полной выправке отправлялся в марш бросок, как бы, на поиски самовольника. Я тоже пробегал эти десять километров, но у меня всегда находились оправдания поступков Фрола, и тогда бежать мне было намного легче.
Вот так мы служили. Пришло время демобилизации. Фрола демобилизовали первым, без всяких почестей, его одного увезли на станцию, даже проститься с товарищами не дали. Думаю, это сделали специально, чтобы показать ему, кто он такой и как его в части ценят. На следующий день отправили всех остальных. А в Москве мы все договорились поддерживать связь через Николая и разъехались в разные стороны.
Теперь надо было устраиваться на работу. Вместе с отметкой в военном билете нам всем вручили конверты с характеристиками, предназначенные для отделов кадров по месту будущей работы. Я протянул свой конверт кадровику Московского метрополитена. Пожилой мужчина с наградными планками на пиджаке прочитал, посмотрел на меня недобро и швырнул бумажку на столик передо мной.
– С такой характеристикой, сынок, – ехидно улыбаясь, процедил кадровик – тебе только в тюрьму дорога.
Я вышел из кабинета, прочитал характеристику и понял, что мне действительно, кроме дворника, ничего лучшего не светит. Позвонил старшему брату, капитану Советской Армии, и уже на следующий день мы с ним отправились на его старенькой машине в город Тейково за новой характеристикой.
Дорога оказалась нелегкой, добрались мы только к вечеру, штаб в воинской части был уже закрыт. Пришлось искать ночлег. Возвращаясь в город, мы проезжали мимо хутора. Того самого хутора, куда по слухам бегал Фрол.
– Постой, – говорю я брату, – давай здесь попросимся на ночлег.
Только-только вечерело, теплый июльский вечер и стог сена во дворе – все это манило, ехать дальше, искать что-то лучшее не хотелось.
– Давай, заезжай, – говорю, – в крайнем случае, в стогу или в машине заночуем.
В доме нас встретил старик с длинной седой бородой. Он сразу же и, как показалось, с удовольствием, предложил нам ночлег.
– Анна, – громко крикнул старик, – накрой на стол.
И из дальнего угла дома из-за перегородки вышла девушка. Красота ее нас поразила. Мы переглянулись. Девушка поздоровалась, взяла большую алюминиевую тарелку и вышла из дома.
– Это ваша внучка? – спросил брат.
– Дочь, – ответил старик недовольным голосом.
Мы с братом снова переглянулись. Казалось, ни по возрасту, ни по внешнему виду Анна никак не подходила старику в дочери.
Тут в дом вбежала чумазая девчонка и сразу объявила:
– Меня зовут Света!
– Вот моя внучка, – не скрывая удовольствия, произнес старик и усадил девочку себе на колени, – моя помощница, моя надежда.
В дом вошла Анна. В тарелке у нее была картошка, куриные яйца, зелень и два свежих огурца, аромат от которых тут же заполнил весь дом.
– Пока я тут готовить буду, – обратилась к нам Анна, – вы можете на пруд сходить, искупаться с дороги.
Вдоволь накупавшись, мы возвращались. Я плелся за братом по узкой протоптанной тропинке. «Какой прекрасный вечер, – думалось мне, – и почему я не чувствовал этой красоты, не вдыхал этого необыкновенного воздуха, когда служил здесь солдатом». Мне тут же вспомнился Фрол. Я предположил, что именно сюда, к этой Анне он убегал в самоволку. Вот он-то, наверняка, наслаждался всем этим, купался по ночам в пруду с этой красавицей, валялся с ней в стогу. Мне даже вспомнилось, каким Фрол был счастливым. Как от него пахло, когда сеном, когда деревенским домом, а порой, когда он возвращался под утро, на спине его гимнастерки выделялись зеленые следы свежей травы.
«Да, – думал я, – в каком счастье купался Фрол».
У дома громкими возгласами нас встретила Света. Она, веселая и возбужденная, была рада нас видеть. Видно, не часто ей приходилось встречаться с гостями.
Стол был накрыт, запах жареной картошки, испытывал наше терпение и заставлял глотать слюнки. Брат принес из машины бутылку армянского коньяка. Все сели за стол. Выпили. Старик выпил с удовольствием, разглядел бутылку и заключил:
– Наше производство коньяков, – старик поднял указательный палец вверх, – всегда славилось, а армянский коньяк – самый лучший в мире. Анна встала и скрылась за перегородкой
– А что же дочь-то ваша не выпила с нами, да и компанию не поддержала? – спросил брат.
– Беременная она, – полушепотом произнес старик, обернулся в сторону перегородки и добавил – ей нельзя.
Почти всю бутылку выпил старик, но не опьянел, на вопрос о муже Анны отмахнулся, опустил голову и ничего не сказал. Только когда вышли на улицу покурить, старик принялся рассказывать нам о своей непутевой дочери.
– Ходил к ней тут солдат один, – начал он, а для меня уже этих слов было достаточно, чтобы понять, о ком он собирается рассказать, – имя у него еще необычное было, Фролом звали. Ах, Аннушка, Аннушка! Какая девушка была. Вот уж не зря говорят, не родись красивой, а родись счастливой, да и с лица воды еще никто не напился.
Я голову опустил, слушаю, а самому не по себе становилось. Так хотелось его спросить, а брат, будто мысли мои прочитал и спросил:
– А солдат-то тот знает, что у него ребенок будет?
– Да кто ж его знает, – отвечает старик, – она на эту тему со мной разговаривать не хочет. Только спрошу, беленица вся, сама не собой становится. А я и не видел его ни разу, Фрола этого. Случайно имя узнал. Офицер тут приходил, все допытывался: «не ходит ли к вам солдат наш по имени Фрол?» Мне бы тогда признаться бы ему, ну, мол, гуляет дочь моя с солдатом вашим, а я ничего офицеру не сказал, пожалел этого Фрола. Знаю, что за такие дела бывает.
Мне вдруг захотелось пойти к Анне, взять ее за руку и сказать, что я хочу, чтобы она стала моей женой. Попросить ее, представить меня отцу, как Фрола и начать новую жизнь. Но мысль эта только промелькнула и нигде не задержалась.
Утром мы распрощались. Анна тоже вышла из-за перегородки, улыбнулась и пожелала нам удачи. Возвращались мы в хорошем настроении, характеристику мне дали такую, что хоть в космонавты записывайся. Проезжая мимо хутора, я еще раз подумал: «не встречу я больше такой красавицы за всю свою жизнь».
И не ошибся. Теперь я старик, пятьдесят лет прошло с тех пор, а таких красивых женщин встретить мне больше не доводилось.
А тут оказия случилась. Приглашают меня на свадьбу в город Иваново, машину выслать обещают. Я отказываюсь.
– Ну, что мне там делать? – говорю, – свадьба – дело молодых, старикам там не место.
Но неожиданно мысль мелькнула, и я соглашаюсь, но при условии, если машина через город Тейково меня провезет и в часть мою заедет. Интересно же вернуться туда, где пятьдесят лет не был.
Воинской части нашей не осталось, а на месте хутора деревенька из десятка домов появилась. Дома того бревенчатого тоже не оказалось. Остался только пруд и тропинка от него в деревню. Вот по этой тропинке я и восстанавливал все в памяти. Брата вспомнил, которого уже сорок с лишним лет нет, и пруд и воздух – все вспомнил.
– А не знаете ли вы Анну, – спрашиваю я у женщины, вышедшей на крыльцо, – Анну, которая когда-то здесь жила.
– Анну Тимофеевну? – переспрашивает меня женщина.
– Может быть, – пожимаю плечами и добавляю, – она с отцом жила, как его звали, не помню, но у него была длинная седая борода.
– Это дед Тимофей, а дочь его, Анна Тимофеевна, – улыбается и весело отвечает женщина, – она теперь на той стороне улицы живет и показывает мне ее дом.
На мое удивление, Анна сразу меня вспомнила.
– Кто же у вас родился тогда? – спросил я осторожно.
– Две дочери, близняшки.
И тут же достала фотографии, и дочерей, и внуков, и правнуков. Из фотографий я узнал, что старшая дочь Светлана Григорьевна окончила медицинское училище и уехала к отцу в Москву, работает там медсестрой в больнице, а младшие Надежда Фроловна и Любовь Фроловна трудятся на ткацкой фабрике в Иваново, на доске почета их фотографии висят, как передовиков производства.
Как же мне хотелось спросить, а знал ли Фрол, что у него есть дочери. Но Анна, как-то легко, будто я спросил ее об этом, угадала мои мысли.
– Девочки никогда ничего не знали о своем отце. Я им никогда не рассказывала о Фроле. Сначала спрашивали, хотели знать, кто их отец, а потом выросли и все сами поняли.
– Я ведь, Анна Тимофеевна, в одной роте с Фролом служил и, так сказать, догадывался…
– А я это еще тогда поняла – хитро улыбнулась Анна и продолжила, – я тогда, грешным делом, подумала, специально у нас на ночь остановились, чтобы все разведать да потом Фролу рассказать, но на утро, когда вы снова в часть поехали, поняла, что ошиблась.
Домой я возвращался на поезде и всю дорогу думал о том, как непредсказуемы наши, человеческие жизни. Уже из дома я позвонил Николаю, чтобы рассказать эту необычную историю. Трубку подняла незнакомая мне женщина, спросила мое имя и сообщила, что Николая уже неделю, как похоронили. Я положил трубку и вспомнил почему-то не Николая, у которого и внуки, и правнуки, а Фрола. У него ведь тоже были и внуки, и правнуки, о существовании которых он не знал.
В любви с надеждой
На войну Матвей пошел добровольцем.
– Что ж ты у меня такой никчемный! Ну, куда? – говорила ему жена, провожая на фронт, – ты даже за себя постоять не можешь, а туда же… ведь можешь не ходить! Только заикнись, тут же бронь получишь. Или вон, погляди, как умные люди делают: всех образованных на курсы учиться отправляют. А ты? Да с твоей-то специальностью, только в штабе и воевать. Детей наделал, и на войну… под пули лезешь… На кого их бросаешь? А я…? Меня на кого оставляешь?
Прижал Матвей жену к себе, крепко-крепко, а что сказать, не находит…
– Да никуда я не лезу… – произнес почти шепотом, – но не могу я вот так… Потом меня спросят: где ты был, где воевал? Что я им отвечу? В штабе карты рисовал?
– Кому им? Кому ты отвечать собрался? Вот они, погляди на них, они тебя спросят! Дети твои тебя спросят! И никому, кроме них, до тебя дела нет. Вот кому отвечать будешь, зачем в самое пекло полез? – обняла мужа, уткнулась ему в грудь и разрыдалась.
– Марусенька, милая, да разве я ушел бы, если бы ни война? – сам чуть ни рыдая, отвечал Матвей. – Я вернусь… это не надолго, к яблочному спасу, а до морозов уж точно вернусь…
Было у Матвея трое детей, дочь старшая и двойняшки, сын с дочкой, весной, в мае, родились. Недавно им дни рождения справили.
К спасу Матвей не вернулся. Письма писал чуть ни каждый день, но ответов не получал. Отступали… долго отступали, спасались, кто как мог… И когда полевая почта заработала, ответов от жены не было.
Благодаря среднему образованию, любви к фотографии, пониманию топографии, умению составлять карты и знанию нескольких десятков немецких фраз, Матвея зачислили в разведывательный полк. В разведку его не брали. Ни силой, ни ростом он не вышел, но уважали его не меньше тех, кто, рискуя жизнью, ходил в тыл к немцам. Принесут разведчики немецкие планшеты с картами, документами, а расшифровать их мог только один Матвей. Командиры смотрят на него, на рядового, как на высшего по званию, с готовностью исполнить любой его приказ.
– Ну, Егоров, давай, рассказывай, что они там задумали? – спрашивали с надеждой командиры. – Да не молчи ты, говори! Что там?
– Мне наша карта нужна, – отвечал важно Матвей, – для сравнения нужна…
– Это же надо! – удивлялся радостно, сам с собой разговаривая. – Говорите, планшет этот ребята с убитого немца сняли?
– Да, с убитого… Да немец-то здесь при чем? Ты давай о карте расскажи, что вот это, и вот это, красным, что это означает?
– А немец этот при том, что его нам специально с этими картами подсунули. Выглядит, как карта их укреплений, только почему-то без всякой кодировки, все открытым текстом… Вот, смотрите… Но это еще что… Смотрите, где они свою тяжелую технику с артиллерией разместили? А теперь смотрите на нашу карту. Там же сплошные болота, непроходимые, топкие. Грубо работают. Видно, за дураков нас принимают. А вот показать бы им, что поверили?
И становился в эти минуты Матвей самым главным человеком в землянке. Никто не вспоминал того, кто принес эти бумаги, на какое-то время героем оставался только Матвей.
Воевал Матвей хорошо. С двумя ранениями в составе все того же разведывательного полка до самого Берлина дошел.
«С самим маршалом Жуковым на короткой ноге» – подтрунивали его однополчане.
А случилось это вот как. Встретил однажды Матвей на фронте свою первую учительницу, знать не зная, что она жена командующего фронтом Жукова.
– Александра Диевна! – кричит.
Та оборачивается, генералы вокруг нее исподлобья на Матвея смотрят, а он от радости, чинов не замечая, только ее одну видит и навстречу бежит.
– Матвей? Егоров? – удивилась учительница, – да ты-то, откуда здесь? – и руку ему подает. – Здравствуй! – говорит.
Матвей от волнения, от радости, что землячку встретил, руку ее трясет, смеется и сквозь смех несколько раз повторяет:
– Здравствуйте! Здравствуйте!
– Вырос-то как! – удивляется учительница. – Да как же ты здесь оказался? – и вроде как, обнять уже его хотела, но передумала. Раньше-то она всех своих ребятишек обнимала, а теперь перед ней мужчина, солдат, с медалью на груди.
– Да вот, воюем… – отвечает Матвей, а руку ее не отпускает и ничего вокруг себя не замечает.
Подходит к ним Жуков. Генералы в струночку вытянулись, настроение главкома всегда на лице написано, а у Матвея рот до ушей.
– Кто такой? – то ли жену, то ли генералов спрашивает Жуков.
Матвей оборачивается, в себя приходит, а слова произнести не может. Руку к виску, а она не слушается, язык онемел, только губы беззвучно шевелятся…
Жена объясняет, а сама тоже улыбается, радости от встречи с земляком не скрывает.
– Как звать-то, солдат? – спрашивает Жуков.
– Рядовой Егоров! – и руку под козырек.
– Ну, здравствуй, рядовой Егоров! – и тоже руку под козырек.
Генералы переглянулись, и тоже все честь отдали в недоумении.
Начальство военное направилось в блиндаж, а Матвей остался со своей учительницей. С тех пор, чуть что, ему в полку эту встречу припоминали.
– Давай-давай, Егоров, постарайся, а то от товарища Жукова нам за тебя достанется.
О семье учительница Матвею ничего рассказать не смогла, давным-давно из Воронежской области уехала и ни разу там больше не появлялась.
Закончилась война.
Пришел Матвей домой, а дома нет… Ни дома, ни детей, ни жены – никого и ничего нет… Соседи говорят, бомба в их дом угодила, только что глубокая воронка и осталась. Весь день, до темноты, просидел Матвей у воронки, всю махорку искурил. Уж было уходить собрался, навсегда уехать куда-нибудь подальше решил, как вдруг собака его объявилась. Стоит перед ним, хвостом виляет и глаз с хозяина не сводит, а глаза тоже уставшие, грустные…
– Жулька?! – обрадовался Матвей. – Живая…
Взял он собаку на руки, она ему лицо лижет, трясется от радости. А когда собрался на станцию идти, собака за ним не пошла.
– Пойдем, пойдем, Жулька… – уговаривает, а собака ни в какую идти не хочет. – Э-э-э, да тебя, видно, тоже война коснулась… на твоих глазах все произошло?
Собака легла на землю, голову на передние лапы положила и вздохнула по-человечески.
А на следующий день с самого утра к Матвею в гости народ пошел. Приходят и приносят с собой, кто что может. Сарай к вечеру с земли подняли, крышу кое-как подлатали, стол со стулом откуда-то появились… Так и остался Матвей в родных местах.
Горе, конечно, но жить-то надо. А после четырех лет со смертью в обнимку, ему, как никому, жить хотелось. Женился. В сельской школе географию и немецкий язык преподавать стал. На участке рядом с воронкой дом построил, сад посадил, нарожала ему новая жена других детей, и зажили они, как и все после войны – в любви, с надеждой на лучшую жизнь.
Дети зимой воронку в горку превращали, вся улица приходила на санках, на лыжах кататься. Собака лаяла, злилась, с цепи рвалась, а Матвей ее успокаивал:
– Ну что ты, Жулька? Перестань… Хватит… Не злись… Пусть катаются… Кто знает, может, и им там все это в радость… не злись…
Время быстро пролетело. Дети выросли. Сын Армию отслужил, дочери невестами стали…
Ко Дню Победы Матвея всегда в президиум сажали.
– Вы, Матвей Егорович, что же это, никогда не выступите, не расскажите, как воевали? Какие подвиги совершили? – спрашивает его директор школы. – Все знают, что вы разведчиком были, наверное, ни одного фашиста убили? Помнится, наград-то у вас много, а на пиджаке один значок? Стесняетесь, что ли?
– Нет, – отвечал Матвей, – не стесняюсь… фашистов убивать мне не пришлось, я карты расшифровывал, переводчиком был. А в атаку один единственный раз ходил, в Берлине. Там, в Берлине, весь наш полк свои жизни положил, а я вот, да начальник штаба жить остались. Страшно все это было сознавать: четыре года вместе из одного котла ели, и вдруг сразу никого не стало. Обоз подошел, старшина спрашивает: «а где все?» Начальник штаба ему ничего не ответил, только рукой на пленных показал и тихо произнес: «корми эту мразь». Какой полк был… и у каждого из них, у этих ребят, наград куда больше моих было…
А тут, провожали Матвея на пенсию. Удочки, рыболовные снасти подарили, в школе банкет устроили, из РОНО начальство приехало, вымпел какой-то привезли. На самом деле, Матвея Егоровича Егорова уважали и как фронтовика, и как преподавателя. Никто никогда не вспомнил, что диплома-то учителя у него отродясь не было.
Сидит Матвей в центре стола, а в дверях женщина появляется, вылитая его первая жена – Маруся. Смотрит на него, глаз не сводит и прямо на него идет. Идет медленно, улыбается, все ближе и ближе подходит, руки протянула к нему.
– Здравствуй, папа, – говорит на ломанном русском.
Дочь старшая, самая старшая, от первого брака, из ФРГ приехала. Каким-то чудом одна единственная в живых осталась. Все за столом притихли. Матвей встал, глазам своим не верит, а взгляда от дочери оторвать не может – вылитая Марусенька…
Посадили эту дочь за стол, спрашивать стали, допытываться, как, мол, да как, а разговор не клеился, и праздник на этом закончился. Ни пить, ни есть уже никому не хотелось, люди вдруг о своих делах вспомнили и разошлись.
А когда уже дома за стол сели, выяснилось, что дочь ничего не помнит. Только фамилию, имена, дом, концлагерь с какой-то чужой тетей и речку, в которой отец ее учил плавать.
Уезжает дочь и оставляет отцу деньги немецкие.
– Возьми, – говорит, – папа… Я богатая, у меня много денег…
Деньги эти по тем временам даже не большими, а огромными были, весь поселок купить можно было. Не взял Матвей денег.
– Как же ты, доченька, – спрашивает отец, – рядом с ними жить-то можешь?
Больше они никогда не виделись. А в девяностых годах обе дочери со своими семьями уехали в Германию к богатой сестре. Старший сын Сергей остался с отцом. В тот же год он отца на сельском кладбище похоронил, а недавно и Сергей умер. Хоронили его соседи и я, случайно оказавшийся неподалеку от его поселка. Дружил я с Сергеем Егоровым, вместе в Армии служили, а потом долго работали вместе.
История эта, вопреки здравому смыслу, остается для меня странной, не оправданной. Как-то несправедливо все получилось. И жизнь Матвея мне то нелепой случайностью, то трагедией представится, а то и подвигом простого русского человека в тяжелой войне обернется.
Березовый сок
Были последние дни марта, а зима не унималась. Все приносила и приносила откуда-то белые хлопья и все заметала, заметала. Ветхий, с просевшей крышей, барак уже и так почти утонул в снегу, только окна и видно было. Порывистый северный ветер поднимал вверх клубы снега и с яростью обрушивался на один-единственный прикрученный к столбу фонарь, который, жалобно поскрипывая, метался из стороны в сторону, как пес на привязи, того и гляди, сорвется. На какое-то время, притаившись в темноте, ветер стихал, а потом неожиданно бесстрашно вылетал из-за угла и снова то завывал, то взвизгивал, то глухо, еле слышно, гудел, закручивая висевший на цепи тяжелый кусок рельса.
Внутри барака было темно, тихо и холодно, в воздухе витал неприятный запах валенок и портянок. У входной двери белела нетающая полоса снега. Две буржуйки стояли далеко от входа, в конце барака, рядом с грубо сделанным деревянным столом. На его засаленных грязных досках лежали большие куски неочищенной колбасы, разорванная на четыре части буханка хлеба, хамса и картошка, в центре стояли пластиковые стаканы и трехлитровая банка с ядовито-сизой жидкостью. Здесь было жарко. За столом сидели четыре человека.
Рыжий, конопатый парень в майке склонился над гитарой. Кривые пальцы, наполовину покрытые мутно-синими татуировками, неумело скользя по грифу, брали незамысловатые аккорды. Его друзья, еще не опьянев, молча слушали, угрюмо смотрели на стол, курили, выразительно пускали дым в потолок.
Откуда-то из темноты, крадучись, неуверенно и медленно, как тень, к столу приблизился человек. Поседевшие волосы и щетина, впавшие щеки, выпуклые скулы, острый горбатый нос, тонкие прямые губы делали тощее серое лицо неживым, а глубоко посаженные глаза придавали ему измученный отрешенный вид. И только руки, нетронутые годами руки, могли что-то сказать о его возрасте. Похоже, совсем еще нестарый, он выглядел как немощный, отживший свой век старик.
– Те чего надо? – выкрикнул гитарист.
Старик, как бы, растерялся. Стоял, опустив голову, и молчал.
– Я те спрашиваю, что надо?
– Мне бы вот с ним потолковать.
– Говори! Между нами секретов нет.
– У вас-то, может, и нету, а у меня есть. Говорю ж, мне бы с ним только, а нет – так и нет.
Крепкий парень лет тридцати, с неровным, бугристым лицом и сплющенным носом, важно, нехотя встал из-за стола и вразвалочку пошел следом за стариком в темноту барака.
– Помру я скоро… – начал старик.
– Да брось ты, – перебил его парень, – рано тебе помирать-то.
– Помру-помру, уже еле ноги волочу, все внутри болит, ну, обо мне нечего… Просьба у меня к тебе есть… Ты же утром завтра на волю?
– Что, письмишко передать? – снова перебил. – Так ты ж сам скоро откинешься… весной ведь?
– Некому мне писать. Я тут вот деньги собрал… – старик вынул из кармана толстую пачку денег и протянул ее парню. – Возьми, мне они теперь ни к чему.
У парня от удивления брови поднялись, глаза расширились, лицо вытянулось, но от улыбки тут же снова округлилось и стало похоже на блин.
– Только одна просьба будет… Сделай! Христа ради прошу, сделай! – старик положил руку на сердце. – Мать у меня померла недавно. Я у нее один… Мы только с ней вдвоем… Только она у меня и была.
– Ух, ты, надо ж… – как мог, посочувствовал парень.
– Так ты в любую церковь зайди, спроси там кого-нибудь, что сделать надо… Ну, что бы помянуть ее, что ли, или как там водится, свечку поставить что ли… Я не знаю! – нервно, с досадой и от безысходности махнул рукой куда-то в сторону.
– Ты там спроси кого-нибудь. Спроси, если, мол, сын перед смертью прощение у матери попросить хочет… Ну, как бы покаяться перед ней, уже после смерти… Спроси, что тогда надо сделать. Спроси, ну и сделай, как скажут, чтоб простила она меня… ну, чтоб все нормально у нас с ней было, как и прежде! – вздохнул, опустил голову, но тут же резко выпрямился и, как бы с обидой, выкрикнул:
– Понимаешь? Как прежде! – снова потупился в пол. – Сделай, заплати там, сколько надо, а остальные себе возьми. Христа ради прошу, сделай.
– Да не вопрос. Какой разговор. Только ты ж того… скоро сам на волю?
– Да не доживу я! – резко оборвал старик. – На волю, на волю… Говорю ж тебе, помру скоро! – размахивая сжатыми кулаками, старик как-то нехотя повернулся и, сгорбившись, медленно пошел к нарам.
Парень посмотрел ему вслед, потом на деньги, сунул их в карман, улыбнулся и направился было к столу, но, услышав из темноты дрожащий шепот, остановился, резко обернулся.
«Христа ради, прошу, сделай…» – как будто не человек, а барак простонал еле слышно.
– Ну, что там? – не скрывая любопытства, спросил гитарист, уловив растерянность парня.
– Да, ничего. Придурок какой-то… – испуганно покосился в темноту. – Я так и не понял, что он хочет. Похоже, мозги отморозил… – с отвращением скривил губы.
Все улыбнулись.
– Наливай! Давай бухнем за нас с вами и за х.. с ними!
– Это можно… – кто-то подтвердил.
А старик уже лежал на нарах, уткнувшись лицом в скрещенные на подушке руки.
На следующий день друзья, не скрывая зависти, проводили освободившегося жулика, и восточный экспресс увозил его далеко на запад, в его родной город. Он сидел в чистом вагоне, пил сладкий чай с лимоном и жадно смотрел в окно, за которым все двигалось, мелькало и пахло весной. На душе у него было легко и весело, как в детстве.
– Эх, сейчас бы соку березового, холодненького! – послышался голос соседа с верхней полки.
– Хе, а что в нем толку-то, в соке-то, – удивился парень, – семь весен пил его, вода – она и есть вода.
Сосед с недовольным удивлением свесил вниз голову, хотел было что-то сказать, но, увидев татуировки на пальцах парня, промолчал и отвернулся к стенке.
До своего города парень так и не доехал. На одной из станций его арестовали за кражу чемодана. При обыске у него обнаружили справку об освобождении и крупную сумму денег, которую тут же конфисковали.
Профессор
Как-то мой давний приятель, еще по институту, уезжая на пару дней, попросил меня присмотреть на даче за его престарелым отцом.
– Обычно меня подменяет сестра, но в этот раз она не сможет. А отец мой – неплохой человек, но старый и с причудами, – сказал приятель и продолжил, – ну, сам понимаешь, ученый, всю жизнь в науке, сначала студенты нервы мотали, потом – аспиранты, из года в год одно и то же, у кого мозги не поедут? Тем более, увлеченный человек, весь в себе, от жизни всегда был оторван… Весь дом держался на маме. Он порой даже не мог понять, зачем на рубашке так много пуговиц? А когда мамы не стало, вся эта академическая неприспособленность к жизни и проявилась… Да, и еще, сам себя он считает великим ученым, но это уже от возраста.