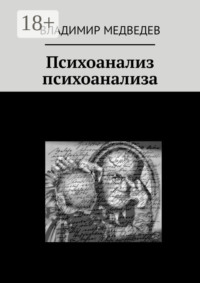Loe raamatut: «Психоанализ психоанализа», lehekülg 3
Достаточно, чтобы ощутить дух психоанализа как древнего таинства, возрожденного Фрейдом на материале античного мифа.
Раз уж я упоминал кроме мифа и сказку, т.е. привязку к символике культуры детства, то скажу пару слов и об этом. В типологии сказочной культуры есть сюжет, который описывает психоаналитическую ситуацию в абсолютно точном ее выражении. Это сказка о спящей царевне; в русской литературной традиции это – «Руслан и Людмила», в европейской – «Спящая красавица».
Тут все выписано очень точно. «Красавица» должна спать, лежа на Кушетке (на символическом языке сказки Кушетка, кстати говоря, уподобляется «прозрачному гробу»). Она должна спать и видеть сны, должна рассказывать о своих сновидениях, а герой, прекрасный принц, должен бдеть над нею и соответствующим образом размышлять о том, что же привело, в конце концов, ее к этому страшному и тяжелому состоянию. Будить ее он не должен (хотя хочет этого больше всего на свете). Ведь проснувшись, она выпадет из этой «аналитической ситуации», превратится в чужого и постореннего человека, с которым эти интимности станут недопустимыми.
Вот такая вечная зацикленность на печали, обоюдно связанной с тем, что объект желания недоступен в силу того, что он находится в иной реальности, в реальности сновидения, в реальности фантазии и игры.
Разговор о сказке позволяет нам плавно перейти к следующей теме и поискать привязки «психоаналитичности» (и фрейдовской, и каждого из нас) к инфантильным травмам и фиксациям.
Но прежде чем сделать это, давайте зафиксируем наши нынешние достижения. Что мы уже имеем? Мы имеем кровать («Кушетку») как базовый символический атрибут профессионального ритуала и набор игровых сценариев, вокруг нее воспроизводимых. В основе этих ритуальных действий, в совокупности формирующих психоаналитический сеттинг (т.е. общие правила профессиональной игры), лежит трансляция вовне, на фигуру пациента, потока Танатоса, т.е. аутоагрессии самого психоаналитика. И все это покрывается, как своего рода базовой метафорой происходящего, знаменитым «мифом об Эдипе», отыгрываемом, как и положено, в жанре античной трагедии, т.е. искусственно организуемого предсмертного страдания его героев.
Фиксируемся в этом понимании и идем дальше.
3. Базовая инфантильная фиксация психоанализа
Теперь, зафиксировав смысловой и эмоциональных заряд, заложенный в символической атрибутике и ритуалистике психоанализа, а также – окунувшись в атмосферу базового психоаналитического мифа, мы можем приступить к главной задаче: психоанализу психоанализа как стандартной процедуре.
И, соответственно, попытаться ответить на вопрос – к какому периоду нашего инфантильного опыта, к какой точке интервала психосексуального развития, подключен психоанализ, понимаемый и как личностная установка, и как профессиональная деятельность?
Психоанализ, как и любая иная устойчивая форма регрессивного состояния, отыгрываемая в опять же устойчиво воспроизводимых (навязчивых) ритуалах, должен иметь свою «инфантильную прописку». Т.е. должен быть привязан к определенной травматической фиксации, к ее желаниям, фобиям, травмам и сценарным защитам.
Травматическая фиксация, напоминаю, завершает конкретный маршрут инфантильного развития (индивидуации), обозначает своего рода финишную черту, дальше которой мы так и не продвинулись, довольствуясь достигнутым и выстраивая из этого достигнутого свое личностное своеобразие.
Развитие как таковое предполагает наличие жестких стимулов, поскольку, как сейчас модно говорить, представляет собой «покидание зоны комфорта», выход за пределы телесно и психически освоенных переживаний в зону травмы, т.е. в зону чего-то нового, небывалого, не имеющего сценарных аналогов и потому порождающего страх. Естественно для человека (и ребенка, и взрослого) как раз регрессировать или фиксироваться на своих актуальных психических достижениях; развитие всегда стимулируется извне, носит вынужденный характер. Стимулы эти, учил нас Фрейд, в нашем детстве идут из двух источников: из наследуемых схем развития (филогенетических прафантазий) и из наличной системы воспитания ребенка, его семейной и социальной среды обитания.
Фиксация предполагает, что некий травматический стимул, который по логике развития должен был подвигнуть нас на изменения и переход на новую стадию развития, оказывается настолько страшным и невыносимым, умудряется настолько радикально пробудить вроде бы пережитый уже травматизм более ранних стадий (то есть сформировать т.н. «инфантильный невроз»), что приводит к тотальному вытеснению всего массива инфантильного опыта. Подобного рода остановка в развитии всегда маркируется страхом и виной, становящимися обоснованием этой остановки и ложащимися в основание последующего формирования личностного психотипа (характера) и типа объектных отношений (включая, кроме всего прочего, и выбор профессии).
Все – ты здесь остановился; ты здесь решал некие проблемы, не смог их решить и зафиксировался в этой позиции. Теперь ты всю оставшуюся жизнь будешь эти проблемы решать, это «недоделанные дела» своего детства навязчиво доделывать.
Аффекты и желания, производные от этой фиксации, ты будешь либо проявлять, либо – подавлять, либо – трансформировать или сублимировать; но свободным от них ты уже не будешь никогда.
И единственная форма свободы в ситуации подобного рода неосознаваемой сверхдетерминации – пройти психоанализ и выяснить конкретику своей «зафиксированности». От ее власти при этом мы все равно не избавляемся, ведь кукла-марионетка не может двигаться самостоятельно: Фрейд жестко и безапелляционно объявил нам, что все, связанное в нашей психики с Я, с сознанием, и пр. суть вторичные образования, посредством которых проявляется воля БСЗ. Но поняв, куда привязаны нити, за которые нас дергает этот невидимый кукловод, мы можем получить своего рода «бонус», а именно – понимание своих возможностей и своих ограничений. На базе которого можно определить для себя пространство деятельности, где наши особенности, производные от такой вот фиксации, востребованы и выигрышны в плане эффективности решения профессиональных задач.
Вспомнив еще одну фрейдовскую метафору, можно добавить, что понимание своей базовой инфантильной фиксации позволяет нам, несущимся верхом на бешеном коне БСЗ, в общих чертах понять – куда именно он несется, а также – планировать свою жизнь с учетом этого понимания. Мол, а нам туда и было надо!.. Идеальный вариант «свободы воли», ничего другого для нас тут и не предусмотрено. Идеальный, кстати, еще и потому, что только в данном случае нам гарантированы телесное здоровье, психическое равновесие и профессиональная эффективность в одном флаконе.
Мы с вами вообще привязаны к телу социума исключительно через собственное тело, поскольку только здесь расположен ресурс универсального воздействия на индивидов, в прочих отношениях совершенно уникальных, ресурс объединения их в теле массы.
Цивилизация собирает нас в массу, создает из отдельных индивидов социум, подключаясь к каждому из нас посредством символики универсальных младенческо-инфантильных травм, запечатленных в памяти нашего тела.
Но набор таких судьбоносных травм не так уж и велик, для их перечисления достаточно пальцев одной руки. Да и не все они годятся для организации коллективной психодинамики современных людей.
Вот как, к примеру, можно построить цивилизацию, основанную на травме «орального отказа»? Перенесенная в сферу массовой психики и способов ее регулирования эта травма может быть развернута исключительно в виде страны-концлагеря, основанной на принципе регулирования допуска человека к пище как таковой.
Те коллеги-психологи, в том числе и психоаналитики, которые после второй мировой войны описали глубинно-психологическое основание организации концлагерей, показали, что да, в принципе это возможно. Массообразование, то есть универсальная и устойчивая инфантилизация людей, выстраивается предъявлением им требований родительского сверхконтроля: строится, пересчитываться, мыться, оправляться, и так далее. Плюс жесткое нормирование периодичности принятия пиши и ее количества. И все – искомая регрессия запущена, человек подавляет свою индивидуальность, почти без остатка растворяясь в легко управляемой массе. Даже проблема собственной жизни и смерти отходит при этом на второй план. Что позволяет формировать в среде подобного рода воздействия качества, совершенно не свойственные современному нарциссически ориентированному человеку. Например – устойчивую мотивацию жертвенного служения Матери-Родине (самопожертвования) в армейских ритуалах.
Попробуем теперь зайти с другого конца «спектра инфантильных травм», а именно – с подключения людей к массе через динамику формирования их инфантильной генитальной организации. Тут тоже нет ничего особо сложного. Прежде всего потому, что телесное отреагирование полового влечения может быть без особого труда сублимировано, в отличии от питания, скажем, или от уринирования или дефекации. Эта сублимация не является разрушительной для организма и, соответственно, либидо как энергия сексуального желания, весьма пластично трансформируется и смещается по цели, загружаясь, катектируясь, на практически любые объекты, подсовываемые социокультурной средой. Поэтому мы с вами так часто повторяли формулу, гласящую, что вся социальная организация – это набор девиаций. То есть это некое комплексное и системное сексуальное извращение, когда изначально простое, естественное эротическое желание при помощи специальных процедур и символических медиаторов смещается по цели и переводится в режим социального чувства.
Но мы немного отвлеклись от нашей темы. Итак, какая же базовая инфантильная фиксация лежит в основании психоаналитичности как уникального психотипа и психоанализа как не менее уникальной формы ее ритуализированной социализации и профессионализации?
Для экономии времени в данном случае я не буду подводить вас к инсайту, а просто сразу озвучу свой вариант ответп на данный вопрос.
А уже после этого постараюсь его обосновать.
Тут ведь всегда есть две линии рассуждений. Можно дробить анализируемое на отдельные признаки и спрашивать себя: если нечто выглядит как утка, квакает как утка, и т.д., то может быть это утка и есть? А можно просто взять эту утку и, анализируя свое к ней отношение, спросить: а с нашего ли птичьего двора эта птица? И я предлагаю нам с вами пойти этим – вторым – путем.
Пойти, отталкиваясь от следующего моего заявления: изначально, в своем фрейдовском первоистоке, классический психоанализ возник и закрепился в качестве рациональной и деятельной компенсации травматизма фаллического порога генитальной стадии развития.
Весь он, со всеми его объяснительными концепциями и метапсихологическими спекуляциями, метафорами и иллюстративными представлениями, символами и мифами, деятельными реакциями и ритуальными процедурами, телесными диспозициями и правилами коммуникации, прописан по единому регрессивному адресу – в пространстве уретрально-кастрационных переживаний фаллической фиксации.
Именно тут – на выходе из «позднего анала», где на ребенка обрушиваются кастрационные переживания, коренятся истоки и тайны всех странностей нашей «психоаналитичности», превращенных в профессию. Там мы имеем свою «корпоративную травматическую фиксацию» как базовый компонент «корпоративного Эго», там постоянно ищем и находим искомое подключение к инфантильным ресурсам психзащит и реактивных сценариев. Там мы дома, там нам не страшно (что странно, для всех остальных это зона тотального ужаса, но вот такие мы особенные!), там мы постоянно пребываем, затаившись за изголовьями своих Кушеток, там мы заряжаемся мотивацией для своих игр, там мы черпаем веру в свои парадоксальные для иных людей принципы и постулаты, оживляем их этой верой и превращаем в психоаналитический миф.
А вот теперь давайте обо всем этом поговорим поподробнее и решим – про нас ли это заявление, узнаем ли мы себя в подобного рода регрессивной личностной модели и привязанных к ней компенсаторных и сублимационных формах персональной и групповой активности (в качестве которой я и пытаюсь сегодня рассмотреть наш родной психоанализ).
Начну немного издалека, от нашей «печки», т.е. от самого Фрейда, от его собственного «фаллосоцентризма», который поначалу «вслепую» вел его по жизни, как куклу-марионетку, а потом, по мере углубления фрейдовского самоанализа, стал поводом для тщательной проработки фаллической фиксации, а в итоге превратился в то, что и было названо «психоанализом».
Прежде всего давайте вспомним о том, Фрейд, все-таки, был человеком, который не просто отыгрывал в профессии свои глубинные проблемы и комплексы в режиме сублимации; он исследовал свою психику и психику своих пациентов, тем самым укрощая свою неизбежную поначалу психоаналитическую «дикость». Подобного же рода исследования он проводил и в своих книгах, т.е. в гораздо более безопасном (для всех участниках психоаналитической коммуникации) режиме защитного отстранения, находил возможности для изучения и описания собственной инфантильной фиксации при написании текстов, где анализировал людей, в чем-то подобных, как ему казалось, ему самому (в интервале от Леонардо да Винчи до Вудро Вильсона, от «Маленького Ганса» до судьи Шребера). Порою он в качестве проективных объектов для такого самоанализа избирал целые народы; и, конечно же, не мог обойти вниманием свой собственный, еврейский народ.
Последний описывался (диагностировался) Фрейдом как больной этнос, одержимый чувством вины и навязчивой аутоагрессией, который он решил вылечить психоаналитическими методами, уверяя, что они вполне применимы и для «терапии культурных сообществ». Он описал свой родной народ как коллективного фиксанта как раз именно на фаллической стадии, который в генезе своей глубинной ментальности остановился на неудачной попытке индентификации со своим культурным отцом (в качестве которого Фрейд анализировал мифологический образ Моисея). Неудача подобного рода идентификации и соответствующая фиксация породили и специфику истории народа, и особенности его массовых проявлений его глубинной психодинамики (фобий, навязчивостей, неосознаваемой вины и искупительной жертвенности), в той или иной степени проявляющихся и у отдельных ее носителей.
Описал Фрейд и личностную модель подобного рода коллективного психического расстройства; причем описал ее как модель генеза патогенной психодинамики некоего «идеального еврейского пациента», ссылками на которого, а точнее – на модель которого, он часто пользовался в своих социокультурных изысканиях (от «Тотема и табу» до «Человека Моисея»). Изысканиях, которые, как мы сейчас понимаем и тут, внутри своего круга можем проговаривать и обсуждать, были посвящены проблемам одного единственного народа, родного для Зигмунда Фрейда, подключенного к нему каналами филогенетической памяти и избранного им для исследования и психокоррекции.
Вы все помните эту модель, которая для нас с вами сегодня имеет предельно важное значение, поскольку «идеальный пациент» в психоанализе – это всегда Альтер-Эго психоаналитика. Речь в этой модели у Фрейда всегда идет о некоем мальчике, который на фаллической стадии, после того как он наблюдал страшную сцену коитуса между родителями, восстановил инфантильную мастурбационную активность и, соответственно, сформировал блокировки либидо на будущий пубертатный период.
Самая главная проблема, которую Фрейд всегда особо выделял как основу всей нашей невротичности – это чувство вины за вторичную мастурбацию на фаллической стадии развития, которая не только лежит в основе нашей невротичности, но которая даже, как уверял Вильгельм Флисс, фиксируется в назальной зоне в виде неких особых участков слизистой оболочки носовой полости. Флисс, как вы знаете, полагал, что шоковое воздействие на эти участки, их прижигание, приводит к тому, что человек оздоравливается полностью от своей невротической предрасположенности, то есть наконец преодолевает фаллическую фиксацию и по линии телесного символизма верха и низа переходит-таки на генитальную стадию развития, стадию здоровой взрослой продуктивности.
Вы спросите – а зачем я вам все это рассказываю, мало ли какие бредни этот полусумасшедший Флисс внушал своему другу. А затем, чтобы вы подумали: а зачем Фрейд в здравом уме и твердой памяти сделал у Флисса несколько (не менее шести) подобного рода «прижиганий»?
Кстати говоря, вы ведь видели фотографии Фрейда и Флисса (они любили фотографироваться во время своих «Конгрессов»); это милые молодые люди, в чем-то внешне даже похожие друг на друга, но невооруженным взглядом видно, что у них совершенно не было чувства юмора. Да и сохранившиеся письма Фрейда к другу говорят об этом. Представьте только себе: два молодых человека собираются на «Конгрессы» (так они называли свои встречи), обсуждают символику носа и носовой полости, говорят о смещении верха и низа, о психических и телесных циклах, о бисексуальности, и им совершенно не приходит в голову, что они в некой смещенной вербальной форме занимаются собственными фаллическими проблемами. Более того, они настолько прочно это вытесняли, что в огромном блоке фрейдовских работ, посвященных как инфантильной, так и взрослой сексуальности, по назальной проблематике вообще ничего нет. Даже про потаенное влечение к поеданию какашек и соответствующую неприязнь к собакам, этим порою грешащим, Фрейд писал неоднократно. А вот тут – тишина…
Хотя, вроде бы, тема эта вне психоанализа отнюдь не табуирована; как только говоришь о «назальной эротике» и ее инфантильных корнях, так сразу вспоминается старый анекдот, когда мальчик заглядывает в родительскую спальню и удивленно восклицает: «Во, чего вытворяют, а нам даже в носу запрещено ковыряться!».
Итак, что из всего этого следует? Привлечение материалов о самом Зигмунде Фрейде, поскольку он, во многом – и по его собственной инициативе, психоаналитически «просвечен» буквально насквозь, есть королевский путь к пониманию природы психоанализа.
Можете посмотреть любую его биографию, вам там расскажут о том, как он описался в спальне у родителей, как страшный Отец ругал его, кричал, что никогда и ничего из него не выйдет… Мы помним сновидение о стакане мочи (сосуде для мочи), где на травматический для человека 19 века опыт путешествия в купе без отдельного туалета накладывается детское вытесненное наблюдение за коитусом родителей, имевшее место тогда, когда семья на поезде переезжала из Фрайбурга в Вену… И уж тем более мы не должны забывать, как настойчиво Фрейд навязывал свои детские переживания Сергею Панкееву, обнаруживая за белыми волками, сидящими на дереве, и совокупляющихся по-собачьи родителей в белых одеждах, и храброго портняжку, стригущего волкам хвосты. И как презрительно отмахивался от ссылок самого пациента на сказку о Матери-Козе, потерявшей молоко и превратившейся в белого Волка – пожирателя маленьких козлят…
То есть все эпизоды собственной биографии (реальные или фантазийные), которые Фрейд в своих книгах, и прежде всего – в «Толковании сновидений» и «Психопатологии обыденной жизни», использовал в качестве пояснительных метафор при конструировании психоанализа, привязаны к переживаниям и проявлениям фиксации на фаллической стадии, где все страхи привязаны к кастрационному фантазму, а все эротические разрядки привязаны к акту уринирования, к половому органу как «пипиське» (или – «вивимахеру», как выражался «Маленький Ганс», один из фрейдовских «Альтер-Эго»). Об уретральной эротике, кстати говоря, Фрейд также писал очень мало, избегая излишнего травматизма. Единственное, о чем он тут пишет, причем уже в старости, так это о том, что уретральная эротика основана на бессознательном желании погасить струей мочи «вздымающиеся ввысь всполохи пламени отцовской фаллической мощи» (?!). Там же он, вы помните, объясняет, почему мужчина не мог быть хранителем домашнего очага, а вот женщина смогла…
На базе таких вот странных, почти анекдотичных, рассуждений Фрейд рассказывает читателям свой собственный, сугубо личный, уретрально-фаллический миф. Миф о маленьком мальчике, который часто писался и бесил своего отца, восклицавшего: «Ну что же это такое? Опять всю кровать испортил!». И маленький мальчик, тогда еще просто Сиги, плакал и клялся: «Когда я выросту, я куплю тебе много-много кроватей!». То есть лично для него функция уринирования символически (т.е. эрогенно) была связана с отцом, с так и не преодоленным страхом перед могуществом и силой последнего, а также – с регрессивными защитами от этого страха.
Анализируя фрейдовские сновидения, мы видим, какой небывалый уровень амбивалентности сопровождает появление в них любого рода «отцовских персонажей». Не говоря уже об его «главном сне» об «Отце в гробу». Последний сон, раз уж мы о нем вспомнили, дает повод исследователям предположить, что травматическая фиксация на фаллической стадии была связана у Фрейда с фантазмом «инфантильного совращения». По крайней мере резюмирующие это сновидение слова – «Нужно закрыть глаза!» – натренированному психоанализом уху говорят о многом.
Но в любом случае мы должны помнить, что речь в этой персонифицированной мифологии классического психоанализа идет не о реальном отце Зигмунда Фрейда – неудачном коммерсанте, замешанном в аферах с фальшивыми деньгами и послушно бредущим по грязи, реагируя на злобные окрики: «Жид – пошел вон с тротуара!».
В сновидениях и фантазиях основоположника психоанализа отец – это Отец, первоообраз репрессивного, карающего (кастрирующего) начала, Творец и Господин, воплощение иудаистского Б-га. Убийство которого, даже фантазийное, даже условное – через занятие его места, невозможно и даже немыслимо.
Опираясь на вскрытые в самоанализе особенности своей собственной психики и выстроив под них свой психоанализ (во всех смыслах этого слова), Фрейд полагал (явно и неявно), что этот созданный им мир другие люди приходят исключительно для того, чтобы также, следуя его примеру, решать в нем свои фаллически-уретральные проблемы.
То есть мужчина приносит в психоанализ, собираясь сделать его профессией, свою вынужденную фобийную блокировку генитальной сексуальности. И, уложив даму на Кушетку, он теперь может спокойно дремать за изголовьем последней, не опасаясь насмешек и совершенно не переживая по поводу своей неполноценности. Которая теперь становится его преимуществом. Не говоря уже о возможностях проявления неосознаваемого влечения к власти над другим человеком, к доминированию, которое считается признаком динамики именно «уретрального эротизма»
А женщина, зафиксировавшаяся, опять же, на фаллической стадии, и потому адекватная психоанализу, приходит в него, соответственно, для того чтобы найти здесь наличествующий у нее в фантазмах, но телесно отсутствующий фаллос. Для того, чтобы обрести возможность быть профессионально фалличной, доминантной и довлеющей, проникающей и продуктивной. Причем все это – вне телесной продуктивности, которая для подобного типа женщин является сугубо (или частично) травматической.
Даже знаменитая фрейдовская Кушетка рассказывает нам об этом. Та самая Кушетка с большой буквы, Первокушетка, которая хранится в лондонском музее и которую, как главный символический атрибут психоанализа, Фрейд вывез из нацисткой Вены в 1938 году. Так вот, когда музей начал собирать средства на реставрацию этой Кушетки, с нее сняли ковровую обивку и выложили в Сеть ее «обнаженный вид». И что же? Главная причина реставрации была в том, что посредине этой кушетки была огромное пятно от въевшейся в кожу мочи. Обычным пациентам в психоанализе достаточно коробки с одноразовыми салфетками, которые они орошают своими слезами и соплями. На этой же Кушетке проходили анализ будущие статусные психоаналитики.
В мире фрейдовского психоанализа все вращается вокруг фалличности как проблемы, как центра аффектации, как основы «архитектоники» любой психоаналитической конструкции. Даже выстраивая свою квази-религию (с верой в невидимого и принципиально не доступного осознаванию Б-га-БСЗ и со сложным культом поклонения последнему) Фрейд умудряется занять нишу между равным образом травматичными для него традициями: довлеющей генитальной продуктивностью классического иудаизма («Плодитесь и размножайтесь!») и кастрационными призывами христианства («Блаженны оскопившиеся во имя Мое!».
Вот здесь нам с вами, коллеги, следует сделать дополнительное усилие, чтобы не поддаться искушению пойти по легкому пути игр с телесной символикой, производной от опыта одного единственного, хотя и великого по масштабу своих свершений, человека.
Отличительной особенностью психоанализа по отношению к прочим школам глубинной психологии, от него отпочковавшимся, и вправду является то, что он сохранил изначальную привязку своих интерпретаций и своих техник к телесности, к желаниям нашего тела, к его состояниям, к его проблемам – прошлым, настоящим и будущим. Под последними я понимаю нашу телесную смертность, если кто не понял. В этом смысле психоанализ, несомненно, является «телесно-ориентированной» глубинной психологией, где та же энергетика «либидо», к примеру, понимается как потенциал полового телесного влечения, а не психическая энергия как таковая, как у наших коллег-юнгианцев.
Но тело нас интересует не само по себе, а как некий посредник между двумя частями нашей психики, друг с другом не соприкасающимися, но равным образом «привязанными» к этому телу и реализующими свое содержание только при задействовании эти телесных привязок. Мы с вами это хорошо знаем, поскольку в нашем антропологическом курсе потратили немало времени на психоаналитическое рассмотрение человеческой телесности.
Через тело к нам подключены как архаическое наследие опыта выживания наших предков, так и резервуар личного БСЗ, т.е. совокупный результат работы нашего Эго с недопускаемым к осознаванию опытом (и со всем тем, что может о нем напомнить). Но воздействие на нас этих двух компонентов БСЗ – творящего нас и творимого нами – не просто телесно, а символически телесно. И потому оно развертывается, по крайней мере – в норме, в теле культуры, к которой мы символически подключены. И потому наша телесность выступает своего рода посредником между Эго (как проекцией нашего тела на экран психики) и культурой (как проекцией нашего тела на экран социальности).
Исходя из вышеизложенного, давайте попробуем понять, что вслед за Фрейдом мы выстраиваем здание психоанализа вокруг проблемы фалличности как его несущей конструкции не потому, что нас принуждает к этому специфика инфантильной проблематики основоположника, вынужденно зафиксировавшегося на уретрально-фаллических телесных переживаниях, а потому что мы с вами живем в пространстве постхристианской культуры. Т.е. культуры, в основании которой, по мнению последовательно критиковавшего ее Фрейда, лежит настолько мощный травматический заряд жертвенной вины, привязанной и к материнскому комплексу (синдром «первородного греха»), и к комплексу отцовскому (синдром «агнца божьего»), что при малейшем ослаблении церковности и выхода людей из системы искупительных культовых ритуалов он прорывается в форме массовой психопатологии и социопатии.
И всем тем, кому досталась эта доля – жить в эпоху перемен, когда одна цивилизация, отработавшая свой культурный ресурс, сменяется другой, перспективной и компенсаторной, нужны убежища, где было бы возможно обрести и воспроизводить защитные (или хотя бы – не столь травматические) формы самоотношения и коммуникации. И прибывать в этих убежищах до тех пор, пока новая цивилизация (как мы уже понимаем – цивилизация нарциссов) не вступит в свои права и не обрастет соответствующей ей символикой (в том числе и символикой «нового детства») и ритуалистикой.
Психоанализ как раз и является одним из подобного рода убежищ; можно даже сказать – одним из самых первых из таковых. Изначально он был выстроен как ментальная и деятельная психзащита одного конкретного человека, отторгаемого окружающей его культурой и соорудившего себе некий защитный кокон из своих фантазий и снов. Затем ему удалось привлечь в пространство своего личного убежища группу людей – друзей и коллег, обнаруживших в этих идеях и в этих ритуалах потребный им защитный ресурс, что превратило психоанализ сначала в интепретационную игру, а потом – в разновидность психотерапии (так уж случилось, что сам основоположник психоанализа, его друзья и, само собой, его коллеги были врачами). Позднее психоанализ был предложен в качестве своего рода «средства коллективной психотерапии» по отношению к большой национально-культурной общности людей. И наконец, уже после второй мировой войны, он стал не просто глобальным (универсальным) компонентом построения любой реактивной «конрткультуры» (в этом плане «фрейдизм» выступал постоянным конкурентом, а порою и соратником, «марксизма»), но и интегрировался в ряде своих постфрейдовских новаций в проект нарождающейся нарциссической («доэдипальной») цивилизации.
Итак, что мы с вами здесь пока, в качестве некоего промежуточного вывода можем зафиксировать?
У нас с вами уже есть фигура «первого психоаналитика» как человека, который застрял на пороге фаллической стадии, будучи по ряду причин не в состоянии перейти к чрезмерно для него фобийным переживаниям генитальной переорганизации психики. И не просто застрял, неосознаваемо зафиксировавшись на соответствующих травматических переживаниях, но нашел для себя адекватную сублимацию, выстроил целый мир, деятельно и концептуально обустроенный. И в этом мире человек, подобный Зигмунду Фрейду, может счастливо жить и успешно работать.
Также у нас есть в наличии явным образом патогенная культура и инерционно порождаемая ею цивилизация, которые в совокупности, взаимно детерминируя друг друга, по традиции черпают энергию для своего воспроизведения, символически раздражая как раз эти самые уретрально-фаллические уязвимости. Пробуждая при этом, как мы увидим, патогеннное (и для индивидов, и для самого социума) перенесение в социальное поле отцовских и материнских первообразов (имаго). Идентификация с которыми в рамках переживаний данного этапа инфантильного развития равным образом травматична.
Какое место в этой индивидуальной и социальной психодинамике занимает сам психоанализ и олицетворяющий его психоаналитик?
Ответ тут прост, хотя сама проблема социального статуса психоаналитика (да и психоанализа как социального института) отнюдь не проста.
Tasuta katkend on lõppenud.