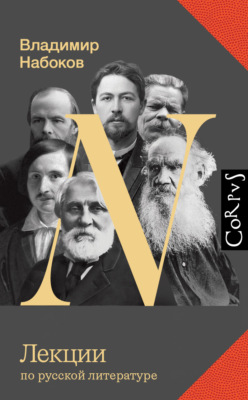Raamatust
Владимир и Вера Набоковы прожили вместе свыше пятидесяти лет – в литературном мире это удивительный пример счастливого брака. Они редко расставались надолго, и все же в их архиве сохранилось более трехсот писем и записок Набокова, с 1923 по 1975 год. Один из лучших писателей ХХ века, блестящий, ироничный и взыскательный Набоков предстает в этой книге нежным и заботливым мужем. «…Мы с тобой совсем особенные; таких чудес, какие знаем мы, никто не знает, и никто так не любит, как мы», – писал он в 1924 году. Вера Евсеевна была его первым читателем, его машинисткой и секретарем, а после смерти писателя переводила его английские произведения и оберегала его обширное наследие.
Собранные в настоящем издании письма рисуют детальный портрет молодого Набокова: его ближайшее окружение и знакомства, литературные замыслы и круг чтения, его досуг, бытовые привычки, воспоминания о России и Кембридже, планы на будущее и т. д. В письмах более поздних лет неизменными остаются его любовь и восхищение женой, разделившей с ним и нелегкие испытания, и всемирную славу.
Teised versioonid
Ülevaated, 16 ülevaadet16
Ты пришла в мою жизнь - не как приходят в гости (знаешь, "не снимая шляпы"), а как приходят в царство, где все реки ждали твоего отражения, все дороги - твоих шагов.
Есть люди, которые приходят в нашу жизнь не случайно. И есть книги, которые не случайно приходят в очень правильное время. "Письма к Вере" стала именно такой книгой, чудесным новогодним подарком.
Я растягивала её, как могла. Обещала себе прочитать парочку писем перед сном, и засыпала через десятки страниц в обнимку с книгой. Выписывала цитаты, перечитывала некоторые абзацы по нескольку раз, а эти милые уменьшительно-ласкательные.... Неожиданно всплывающие в реальности...)
Кошенька моя...
Ироничный и едкий Владимир Владимирович предстал в совершенно ином образе: сентиментальный, трогательный, нежный и любящий.
Я разгадывала шифры и кроссворды и хохотала над ответами (Половина пяти - гениально), искала изображения бабочек по названиям, умилялась от описаний "штанишек" и ланчей, злилась на сухие и деловые описания прошедшего дня, расплывалась в улыбке от картинок с поездами, обижалась на приказной тон...
Но, не смотря ни на что, любовь и ласка прочитывалась в каждом письме, в каждой записке. Даже спустя 40, 50 лет брака этой удивительной пары. Любовь, не стареющая и не угасающая с годами.
Буду любить тебя и сегодня вечером, и завтра, и послезавтра, и ещё очень много очень даже много завтр.
"Запоем их не читайте. Они как дивные пирожные и горный ручей: принимать по вечерам и прижимать к груди…" - так написал мне друг про "Письма к Вере". Чуть дольше двух месяцев каждый почти день дожидались они на прикроватной полочке предсонного моего прочтения.
Владимир и Вера больше пятидесяти лет прожили вместе. В нечастые дни и месяцы разлуки он писал ей письма. Письма… Из всего написанного, что может быть более личным? Ведь у каждого – один единственный адресат.
Заглядывать через плечо не хорошо. Но не зря же Вера - самая близкая и самая требовательная женщина в жизни Набокова, - согласилась на публикацию его писем к ней (уничтожив при этом все до единого свои, и утаив то, что считала особенно личным). Полагаю, это была её дань памяти. И ответ не слишком щепетильным биографам. Тут, конечно, надо отдать должное Брайану Бойду. Он собрал все эти письма (некоторые, начитанные на магнитофон Верой Евсеевной, записал) с особой бережностью. Без его предисловия и комментариев, многое осталось бы непонятным. Отчего ВН так грустно без письма от Madam Bertran, откуда взялся Милейший, что за компот из Королев Клавдий, кто такой Виктор, и почему ВН так мучает грек? Весьма шифрованно пишет ВН и о гонорарах. Бывало, я перечитывала каждое письмо трижды, и, в большей степени благодаря комментариям, всякий раз догоняла.. Это удивительное чувство переплетения прошлого-будущего… Владимира и Веры уже нет на этой земле. Но, вот я читаю одно из его «юных» писем и уже знаю, что он станет всемирно известным писателем, что у него родится сын, знаю о его коротком романе с поэтессой, зарабатывающей на жизнь стрижкой пуделей, в каких странах ему придётся скитаться, и где он найдёт приют. А он, тот, который пишет это письмо, ещё ничего этого не знает. «Письма к Вере» - будто сделанные необыкновенно талантливым человеком слайды-картинки из того сегодняшнего дня. ВН не мудрствует, не «блещет» словесами. В письмах 1926 года по просьбе жены, он описывает ей, проходящей лечение в санатории, каждый свой день. «А к ужину кроме мясиков, было три сладеньких пирожка – макаронистые, сверху поджаренные и посыпанные сахаром (и преневкусные)… Вчера вечером так и не сочинил стишонка – а день культуры на носу. У меня осталось пять марок».
Такое удовольствие читать простые вроде-бы строки: «Кош, мой К-ко-ош, Вот и первый день бестебяшный прожит. Сейчас без четверти девять. Я только что поужинал. Я буду всегда писать в это время. Каждый раз будет другое обращенье, - только не знаю, хватит ли маленьких. Пожалуй придется, еще нескольких сотворить…Около десяти перебрался в постель, покурил, потушил, кто-то жарил на рояле, но скоро перестал. Сейчас встану, чтобы смешать себе питье - воды с сахаром». «Маленьких» хватило: Комочек, Мысч, Мой зелененький, Любимыш, Тушкан, Мое милое, Скунсик, Жар-звереныш. Его письма - это и фрагменты будничного дня, и пришедшие в голову мысли, и совершенно необыкновенные, точно подмеченные портреты писательского бомонда, в котором вынужден был он вариться. «Потом поехали большой компанией.. и там пили шампанское. Пили писатели: Алданов, Бунин, Ходасевич, Вейдле, Берберова и другие…» Порой, до тошноты надоедали выходы в свет, этот необходимый для продвижения своих произведений пиар. Вера настаивала на этом. «Если Т.Х. Гексли был бульдогом при Дарвине, то Вера Евсеевна – при Набокове, пусть и в образе изящной гончей». Возможно, не только благодаря бешеному совершенно трудолюбию, таланту и Вере, к концу 1960-х он стал, пожалуй, самым знаменитым из живущих писателей. «Я просто удивляюсь тому множеству вещей и связей, которые я один сделал и наладил». При этом ВН никогда не стремился кому-то угодить. Довольно жёстко описывает он «неприятного господина» Бунина, и становится больно за стареющую Тэффи. В отношениях Берберова - Ходасевич (бывших супругов), он на стороне Пушкиниста Влада с жёлтыми как Сена пальцами.. (и четвёртой женой). «…сходство щекатнуло воображение: закутанный в клетчатый плед, растрёпанный и красноречивый, «с печатью гения на матовом челе», он вдруг напомнил что-то старомодное – и старомодное обернулось Пушкиным, - и я ему приставил бакенбарды – и право же он стал на него похож (как иной энтомолог смахивает на жука или кассир – на цифру). Он был очень в ударе и поил меня своим играющим ядом».
А вот вдруг: «Щенуша, обещай мне, что у нас никогда, никогда, никогда не будет к ужину колбасы. Обещаешь?» Набоков необычайно светел в своих письмах. Лишь изредка пробиваются в них боль и горечь.. И тоска по России.. «По дороге меня прямо пронзила молния беспредметного вдохновения – страстное желание писать – и писать по-русски. И нельзя. Не думаю, что кто-либо не испытавший этого чувства, может по-настоящему оценить его мучительность, его трагичность…Люблю тебя, моя душенька. Постарайся – будь весёленькой когда возвращусь (но я люблю тебя и унылой). Если бы не было вас – почувствовал совершенно ясно, - поехал бы солдатом в Марокко; там, кстати водится в горах божественная лиценида.. Впрочем, гораздо больше этого сейчас хотел бы написать русскую книгу. Ватный отель, за окном дождь, в номере библия и телефонная книжка: для удобства сообщения с небесами и с конторой». И всё-таки общий тон писем – чудесен… Возможно потому, что обращены они были к ней, к его Вере: «Ты для меня превращаешь жизнь во что-то лёгкое, изумительное, радужное, - на все наводишь блеск счастия, всегда разного…Милое мое волненье..» Земная жизнь Веры и Владимира пройдена. Книга прочитана. Прижимаю её к сердцу.
Шура, спасибо.
Очень люблю Набокова, поэтому жалею, что прочитал (точнее прослушал аудиокнигу). Сплошное приторное сюсюканье, сплетничество и лицемерие (регулярно ужинает и Буниным и каждый раз пишет про него гадости, да и про других тоже). Набоков выдающийся писатель, потрясающий язык, а здесь.... Правильно его жена скептически отнеслась к идее публиковать письма, и не надо было их вообще делать публичными.
На волне интереса к Набокову решила добавить в вишлист изданную переписку между ним и его женой Верой. Причем переписку одностороннюю: от него к ней. Однако не учла несколько моментов, и, во-первых, объем. Хотя, как выяснилось, половина - это комментарии. Читать такое залпом невозможно, приходилось делать перерывы, иначе все сливалось. Во-вторых, сразу же пришлось отдельно распечатать биографическую справку из начала издания, потому что постоянно листать туда-сюда, чтобы понимать контекст и обстоятельства написания того или иного письма было неудобно. В итоге же я поняла, безотносительно того, что письма дают возможность заглянуть в душу, в дом автора, в семью, а, может быть, и из-за этого, я окончательно убедилась, что читать письма мне не нравится, для меня это сродни подглядыванию. Очень уж сомнительно, что автор писал их с оглядкой на возможность публикации, а значит для чьих-то чужих глаз это не предназначалось. Хотя опыт был интересный, не говоря уже о глубине чувств, которые ясны даже через какие-то обыденные темы и вещи, и красоту языка Набокова. Ты либо писатель, либо нет. И не важно, идет ли речь о романе или письмах.
Рекомендую к прочтению для увлеченных творчеством Владимира Набокова. В первую очередь, чтобы углубиться в творчество, вникнуть в мельчайшие детали, считать тонкий ход его мысли. Это как фильм о фильме, только это книга о жизни автора, что же происходило в момент создания ставших классикой произведений, о чем думал, как жил, как создавал. Помогает посмотреть под другим углом как на самого автора, так и на его творения
Моя милая, милая любовь, моя радость, радуга моя солнечная, я, кажется, съел весь треугольничек сыра, но, правда, я был очень голоден… Но теперь сыт. Сейчас ухожу в мягкий свет, в остывающий гул вечера и буду любить тебя и сегодня вечером, и завтра, и послезавтра, и еще очень много очень даже много завтр. Ну вот и все, моя нежность, моя прелесть невыразимая. Да: забыл тебе сказать, что люблю тебя. В. P.S.
Ты пришла в мою жизнь – не как приходят в гости (знаешь, «не снимая шляпы»), а как приходят в царство, где все реки ждали твоего отраженья, все дороги – твоих шагов. Судьба захотела исправить свою ошибку – она как бы попросила у меня прощенье за все свои прежние обманы.
Прагу я еще не видал – да вообще мы с нею в ссоре.