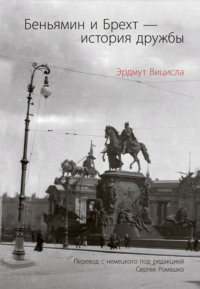Loe raamatut: ««Мой дорогой, старинный, но вечно молодой друг, Давид Бурлюк!». Письма художников к Д.Д. Бурлюку»
Письма художников в архиве Давида Бурлюка
Обширный архив «отца русского футуризма», передававшийся им, начиная со второй половины 1950-х годов, в рукописный отдел Ленинки, целиком и полностью сформировался в Америке. В судьбе Бурлюка он стал третьим по счёту. Первый архив был переправлен в 1913 году из Таврической губернии в подмосковное Михалёво, где Бурлюк приобрёл добротный двухэтажный дом, а затем, два годя спустя, в Кунцево. Здесь, на небольшой деревянной даче, были складированы библиотека, собрание картин и графических произведений, включавшие в себя работы, подаренные Кандинским, Ларионовым, Гончаровой, Явленским и Францем Марком, коллекция скифских и древнегреческих артефактов, привезённых из Чернянки, семейный архив, и, наконец, рабочий архив самого Бурлюка, включавший в себя выставочные и издательские материалы, в том числе и рукописи Хлебникова. На протяжении трёх последующих лет, во время своих приездов в Москву художник навещал кунцевскую дачу и сюда же им переправлялись картины для московских выставок. Тут-то и увидел один из его «натуралистических пейзажей» Малевич, снимавший расположенную по соседству дачу, которую Бурлюк называл «цитаделью» непримиримых футуристов1.
После бегства Бурлюка из Москвы в апреле 1918 года содержимое кунцевской дачи было оставлено на попечение Булычёвых – новых жильцов, которым Бурлюк, хотя и с перерывами, но ещё некоторое время продолжал переводить деньги. Сестра Надежда, оказавшись в 1927 году в Москве, писала в Америку, что «дачи вернуть нельзя ни в коем случае», а «Додины картины и кое-что из старины увезено инженером Яровым в Москву на 9 подводах»2. «Инженер Яровой» – это известный фотограф, редактор «Вестника фотографии», Николай Яровов. Именно он поздней осенью 1923 года по просьбе Бурлюка отправился в Кунцево.
За эти 3 дня я работал там только на чердаке и всё разобрал и отсортировал. Сколько хороших вещей пришло в негодность! Сколько порвано картин! Сколько уничтожено стар. книг. Страницы вырваны десятками. Ни одной книги с автографами мне пока не попалось. <…> На картинах вершка 2 куриного помёта, а низы ящиков гниют от коровьего и свиного навоза и сырости3.
Понятно, что архив в таких условиях спасти было невозможно. Разыскивая картины, Яровов обнаружил «много рис. углем, подарки Ваших друзей, меццо-тинто, офорты, японск. грав.»4. Что же касается писем, то далее он сообщает: «Ваши семейные письма читались всеми на даче. Я их побросал в печь – когда находил»5.
Картины Яровов смог перевезти в Москву, и у Бурлюка появилась надежда, что он сможет хотя бы часть из них переправить в Нью-Йорк с собиравшейся тогда И. Грабарем выставкой русской живописи. Однако по каким-то причинам этого сделать не удалось – то ли Яровов опоздал, то ли Бурлюк не успел отправить деньги на уплату вывозной пошлины. Перед своим отъездом в Южную Америку Яровов сдал находившиеся у него бурлюковские полотна на хранение в Дом печати на Никитском бульваре. В дальнейшем Бурлюк через многих знакомых пытался выяснить их судьбу, но безрезультатно. В конце 1920-х годов их передали в Государственный музейный фонд, и впоследствии они пополнили собрание столичных и многих провинциальных музеев.
Второй по времени архив возник во время пребывания семьи Бурлюка в Башкирии в 1915−1918 годах. Здесь, в бугульминских степях, недалеко от железнодорожной станции Буздяк, у отца жены Бурлюка Маруси был свой дом. Однако Бурлюк снял для своей семьи большую крестьянскую избу. Спешно покидая в сентябре 1918 года захваченную войсками чехословацкого корпуса Башкирию, Бурлюк даже не пытался ничего вывезти – ни картины, ни какие-либо документы. Некоторое время они продолжали храниться в буздякском доме. Большинство картин впоследствии было распределено по музеям и народным домам республики. Директор Губернского музея Юлий Блюменталь писал Бурлюку, что в общей сложности через его музей прошло 107 полотен художника – едва ли не половина из всего написанного им в Башкирии. Архивные материалы, скорее всего, как и в Москве, пропали или были сожжены. Удивительным образом до нас дошло одно письмо Малевича. Отправленное в ноябре 1915 года на станцию Иглино, под Уфой, где тогда находился Бурлюк, оно сохранилось в фонде Матюшина в Пушкинском доме. По всей видимости, письмо переслал ему сам Бурлюк, в качестве своеобразного подтверждения нежелания коллег выставлять его работы. В одном из более ранних писем Матюшину Бур-люк уже жаловался на то, что его не позвали на Первую футуристическую выставку «Трамвай В»6.
Письмо Малевича было ответом на просьбу Бурлюка об участии в готовившейся выставке «0,10». В нём он наставительно сообщал Бур-люку, «что у нас выставка очень крайнего направления»7 и «пейзажи натуралистические», а те, которые он увидел на кунцевской даче, там не могут быть выставлены. Бурлюку было не привыкать к такого рода отношению к себе коллег. Ларионов – бывший соратник по первым авангардным выставкам – тогда же категорически заявляет, что «точек, общих с Д.Д. Бур-люком»8 у него нет. Подобное отношение ещё больше усугублялось наметившимся в искусстве художника того времени явным поворотом вправо, «в сторону натуры». Период «бури и натиска», когда он вместе с другими футуристами с упоением «бросал» с парохода современности признанные авторитеты, оказывался позади. Для современников это лишний раз подтверждало давно уже высказывавшиеся в адрес художника обвинения во всеядности и беспринципности.
Однако сам Бурлюк совсем не считал своё новое искусство шагом назад. Наоборот, в нём он увидел возможность выхода за рамки уже утратившего элемент новизны кубофутуристического шаблона, своеобразное средство против схематизма, «к каковому пришёл футуризм, доведённый до крайней своей цели, благодаря своей отвлечённости»9. Раньше многих других Бурлюк понял опасность подчинения индивидуального чувства догме. «Я принимаю всякое искусство, – любил повторять художник, – даже попытку на искусство; классицизм, реализм, импрессионизм, декаденство, кубизм, футуризм; но творчество индивидуальное»10.
Открытость Бурлюка к тому, что выходит за рамки собственных или групповых установок являлась уникальной в авангардной среде. Ларионов был открыт всем мыслимым влияниям – от заборных рисунков до персидской миниатюры. Но вот оценить творчество своего коллеги по группе, в особенности, если тот начал привлекать внимание публики или критики – нет, лидерские амбиции не позволяли ему этого сделать. Конкурент немедленно подвергался обструкции и изгонялся из коллектива, как это поочередно произошло с Татлиным и Малевичем.
Бурлюк же, номинально оставаясь лидером «Гилеи», на первый план всегда выдвигал не своё искусство, но – Хлебникова и Маяковского. Да и в отличие от «текучести кадров» у Ларионова, состав бурлюковской группировки долгое время оставался неизменным благодаря его умению примирять между собой столь разные творческие индивидуальности, каковыми являлись, скажем, Лившиц и Кручёных.
Способность к творчеству, по Бурлюку, являлась единственным и достаточным основанием «прикосновенности к искусству». Фактически он первым отказался от абсолютизации любых формальных схем, какими бы новаторскими они ни считались в данный момент. Ларионов и Малевич пришли к этому позже.
С позиции нашего сегодняшнего знания исторического пути авангарда нельзя не заметить и определённой иронии судьбы в том, что «поворот» Бурлюка по-своему предвосхитил и возврат самого Малевича в конце 1920-х годов к фигуративному искусству. Соответственно, тон его писем к Бурлюку, уже находившемуся к тому времени в Америке, резко поменялся. Надеясь с его помощью устроить выставку у нью-йоркской меценатки Катрины Дрейер, Малевич ёрничает, вспоминает былых друзей, обещая заехать «на осле в Париж к Ларионову и Гончаровой, а там как-нибудь и к вам в New-Y. заеду с ослом, может быть, впустите»11, а затем требует поторопиться с отправкой виз.
Оба письма Малевича дошли до нас в составе «американского» архива Бурлюка. Из более чем двухсот находящихся там писем различных художников они единственные, которые были опубликованы (если не считать фрагментов нескольких писем Бориса Григорьева). Но странным образом их просительно-требовательная интонация служит неким камертоном для всех остальных писем. А ведь среди их авторов такие разные, непохожие друг на друга художники, как Судейкин, Леблан, Масютин, Лентулов, Сорин, тот же Григорьев.
Если вспомнить ахматовское сравнение отправителей с зеркалами, в которых по-разному отражается облик адресата, то можно сказать, что «в ста зеркалах», находящихся в бурлюковском архиве отразились в первую очередь сами адресаты, их облик, привычки, место жительства и пр. Отражение самого адресата, если и возникает на поверхности этих зеркал, то лишь для того, чтобы через минуту исчезнуть: «как супруга, дети?», – и всё…
Собственно, именно такое положение дел в эпистолярной части бурлюковского архива – малоинформативное для чистого бурлю-коведа – как раз и заинтересовало составителей этого сборника. Собранные вместе эти столь отличные друг от друга «осколки», к тому же невероятно разбросанные хронологически (20–60-е годы ХХ века) и географически (Россия, Германия, Франция, Италия, Америка), оказались способны выстроиться в объёмную круговую панораму целой эпохи. Бурлюк в данном случае оказывается лишь точкой схода разнонаправленных судеб и событий. В его характере была одна черта, довольно редко встречающаяся в художническом сообществе. При всех претензиях на собственную значимость, при всей своей страсти к саморекламе, он в любую минуту был готов оказать поддержку собрату по искусству.
Именно эта чисто человеческая готовность оказать помощь, сочетавшаяся у Бурлюка с искренним интересом к другому художнику – не только к его личности, но и к его искусству, зачастую кардинально отличавшемуся от бурлюковского, – и может объяснить нам особую интонацию большинства писем архива. Их авторы с готовностью делятся с художником своими проблемами, просят поддержки, помощи. Конечно, немаловажную роль играло и «местоположение» адресата. Ведь среди русских эмигрантов Бурлюк был единственным крупным художником, который сразу же выбрал не традиционные Берлин или Париж, а Америку. В сознании многих русских миф о неминуемой преуспеваемости каждого, чья нога ступит на землю этой страны, всегда соседствовал с прочным убеждением в её абсолютной культурной отсталости. Так что даже если бы Бурлюк ничего не предпринимал, всё равно для его коллег, остававшихся в Москве, Ленинграде, Казани, Харькове и Уфе, он бы являлся примером того, как в Америке художник даже со «средними способностями» может добиться успеха. А ведь Бурлюк не просто «предпринимал». Довольно быстро он познакомился с известным художественным критиком Кристианом Бринтоном, который представил его упоминавшейся уже Катрин Дрейер, основательнице художественного общества Société Anonyme.
В Америке 1920-х годов эта была единственная институция, занимавшаяся собиранием и пропагандированием авангардного искусства. Немка по происхождению, Дрейер поддерживала тесные контакты с берлинской галереей Вальдена и со многими представителями Баухауза, что давало ей возможность оперативно показывать новейшие образцы европейского искусства. В марте 1924 года сразу же после экспозиции, на которой работы русских беспредметников – Э. Лисицкого, А. Древина, Н. Габо и К. Медунецкого соседствовали с произведениями Пикассо и Брака, она показала первую в Америке персональную выставку Бурлюка. Не было ни одной рецензии, где бы ни упоминались знакомые нам по известному портрету Николая Фешина серьга с зелёным камнем в ухе и пёстрый жилет, в котором художник явился на вернисаж. Ставшие уже привычными для зрителей от Златоуста до Владивостока, в Нью-Йорке эти аксессуары были восприняты как новшество. Через находившегося в Америке Сергея Конёнкова об успехе выставки стало известно в Москве. Да и сам Бурлюк, как только чуть встал на ноги, развернул широкую издательскую деятельность. Брошюры, которые выходили под маркой издательства Марии Никифоровны Бурлюк, посылались в Россию не только старым знакомым, но и в библиотеки, музеи и научные институты. Художница Вера Ермолаева, служившая в ГИНХУКе, жаловалась в письме к Ларионову, что Бурлюк буквально «забрасывает институт книжками собственного сочинения, переплетёнными шнурками с кисточками, где первую страницу он от руки красит краской цветочками, и посвящает книгу жене, и говорит, что он радио-футурист и что дровосек, когда рубит дрова, имеет много рук». Далее следует весьма характерная добавка: «Из этого ясно, что Америка вредна!»12
На всех бурлюковских книжечках стоял адрес издательства —2116, Harrison avenue, который являлся адресом его квартиры в Бронксе. Таким образом, все желающие могли связаться с художником напрямую. Собственно, этот адрес мы и видим написанным рукой Малевича на конверте, сохранившемся в архиве вместе с двумя письмами. Поскольку ответные письма Бурлюка до нас не дошли, неясно, кто был инициатором возобновления переписки. Возможно, первым написал Малевич, нашедший адрес художника на обложке его изданий, либо получивший адрес от Матюшина. В матюшинском, более раннем по времени письме, содержится характерная приписка: «Малевич, директор, здесь же живёт постоянно и шлёт Вам свой привет». Но инициатором мог быть и сам Бурлюк, активно вербовавший русских художников для участия в выставках Société Anonyme.
С предполагавшимися выставочными проектами так или иначе связан блок писем второй половины 1920-х годов – один из самых ранних в архиве. Помимо питерцев, членов ГИНХУКа, в него входят письма москвичей – Лентулова, Леблана, Кузьмина – и киевлян – Пальмова, Голубятникова и Тарана. Московские художники в первую очередь были озабочены судьбой своих собственных работ, участвовавших в художественном разделе огромной Художественно-кустарной выставки, проходившей зимой 1929 года в Нью-Йорке. Конечно, всех волновала возможность продажи картин, поскольку художественный рынок в России едва теплился. Кто-то, как Лентулов, напрямую обращается «с просьбой помочь мне в деле продажи моих работ, которые представлены на выставке», правда, при этом, сообщая массу интересных сведений о московских покупателях, о похоронах Якулова и о проходившей в Москве французской выставке13. Михаил Леблан14, напротив, действует тоньше. Зная, что Бурлюк устроился в редакцию выходившей в Нью-Йорке ежедневной русскоязычной газеты «Русский голос», он предлагает ему для воспроизведения свои работы. Из его небольшой открытки также можно понять, что Бурлюк не оставлял надежду показать свои американские работы в Москве. Приводим текст открытки целиком:
1928 г. 5-го октября
Здоровы<?> Как живёте за морем?! Я Вам очень-очень благодарен за Ваш подарок – литературные труды и за репродукции – очень хорошо. Я тут же послал Вам благодарственное письмо, но ответа не получил; потом ещё писал в феврале месяце относительно Вашего участия на Выставке в Москве и тоже не получил ответа. Спасского очень давно не вижу. Теперь пишу Вам, кстати, т. к. мы сорганизовали и послали в Нью-Йорк выставку картин и кустарную вместе, которые откроются у вас в декабре месяце. И Вы не забудьте помянуть нас добрым словом. Если Вам будет надо что из моих 4-х картин снять и поместить в Вашем журнале, то можете это сделать. Переговорите с нашим представителем относительно присылки Ваших картин на выставку в Москву. Я не знаю, кто поедет. Ну, пока до свидания
Ваш М. Леблан15
Из текста трудно понять о какой московской выставке идёт речь. Возможно, предполагалось участие Бурлюка в выставке художников творческого объединения «Жар-цвет», куда входил Леблан. Не исключено также, что работы Бурлюка должны были участвовать в Выставке художественных произведений к 10-летнему юбилею Октябрьской революции, открывшейся в Москве в начале 1928 года.
Упомянутый в открытке Женя Спасский – талантливый художник, ещё юношей, по совету Бурлюка проучившийся сезон в студии Леблана и сопровождавший потом Бурлюка в его знаменитом «сибирском» турне. Пять его писем конца 1920-х годов заметно выделяются своей интонацией. Общее «буздякское» прошлое предполагало не только искреннюю заинтересованность в судьбе адресата, но и располагало к откровенности. Видимо, поэтому в посланиях Спасского есть что-то от дневниковых записей, позволяющее почувствовать становление подходящего к своему 30-летнему порогу художника.
Близкая интонация отличает и письма Виктора Пальмова, ещё одного спутника Бурлюка по дальневосточному, а затем и японскому турне. Женатый на свояченице Бурлюка, он долгое время жил вместе с его семьёй, но так и не решился уехать в Америку. После расставания с Бурлюками Пальмов возвращается в Россию, сначала в Читу, затем перебирается в Сергиев Посад, и к 1925 году оказывается в Киеве, где становится во главе живописного отделения Художественного института. Ему Бурлюк также предлагает принять участие в выставочной деятельности Société Anonyme и, видимо, исключительно благодаря энтузиазму Пальмова работы трёх киевских художников – Пальмова, Голубятникова и Тарана попадают в Нью-Йорк. Пальмовские композиции после выставки были куплены К. Бринтоном, в то время как работы Павла Голубятникова привлекли внимание самой учредительницы общества. По её инициативе на выставке общества, проходившей в 1928 году в Art Council Gallery в Нью-Йорке под названием «Ручей» была показана картина художника «Купающийся мальчик». Вторая его работа – «Натюрморт с блюдцем» – настолько тронула Дрейер своей магической иллюзорностью, что была приобретена ею для собственной коллекции. В конце ноября 1928 года деньги за натюрморт были пересланы Бурлюком Голубятникову со словами благодарности и восхищения от новой владелицы. К сожалению, нынешнее местонахождение обеих картин до сих пор не установлено.
Помимо пальмовских писем в архиве сохранилась ответная запис ка Голубятникова:
Многоуважаемый Давид Давидович!
На днях получил Ваше письмо с Вашей фотографией. Очень благодарен за внимание. Мне очень приятно, что эта маленькая вещица «Блюдечко» доставляет удовольствие miss Katherine Dreier. Надеюсь выслать в скором времени Вам снимки с моих работ. В этом сезоне, кроме Вашего города, я принимал участие на выставке в Венеции16, а также по СССР. В Киевской академии17 моя работа протекает в направлении постановки дисциплины цвета, где я являюсь инициатором и председателем этой секции. Много работаю над проблемою пространства в живописи. Целый ряд работ, на которых я сейчас остановился, дадут новые шаги в этой области. Вы спрашиваете у меня, имею я или нет каталог с выставки Société Anonyme. Нет, к сожалению, Вы мне не прислали. Относительно второй вещи «Купающийся мальчик» на доске, я хотел бы пожелать за неё не менее 75 (семьдесят пять) дол., всё же, что Вам удастся набавить сверху, считаю Вашим процентом. Пришлите, если можете, каталог выставки Société Anonyme, и, если есть, матерьялы. С глубоким уважением к Вам, Павел Константинович Голубятников.
Киев. 1928. 14/XII18.
Денежные расчёты за проданные работы велись через Бурлюка и на письмах всегда содержатся его или Марусины аккуратные пометки об отправке денег автору. В начале 1930-х годов переводить деньги из-за границы напрямую частному лицу стало затруднительно и приходилось изыскивать иные способы. Показателен фрагмент из письма вдовы Пальмова:
М.-б., Вы могли бы предложить картину Виктора, которую он вместе с художником Голубятниковым переслал Вам? Я была бы не только благодарна, а просто обязана. Деньги можно переслать: Киев, Торгсин – это у нас специальный магазин, где на иностранную валюту можно приобрести продукты19.
В этом же письме, кстати, содержаться интересные свидетельства того, как воспринимались издания Бурлюка местной литературно-художественной средой:
Помимо печатной продукции Бурлюк также сумел переправить на родину несколько своих живописных и графических работ. В Москве, правда, контакты с музеями установить не удалось – сказывалась давняя неприязнь к нему Игоря Грабаря. Лишь на одной из выставок группы «13» были показаны американские рисунки Бурлюка. И, словно в отместку столичным музейщикам, художник подарил нескольким украинским музеям свои новые работы, в том числе и выполненные во время пребывания в Японии. Три картины сохранились в Киевском Национальном музее, и пять – в Днепропетровском. Сохранилась и обширная переписка с художниками и музейными деятелями Харькова, Херсона и Днепропетровска.
Другой крупный блок писем в архиве Бурлюка связан с русскими художниками, проживавшими в Европе. Здесь также даёт о себе знать отличительная черта бурлюковского собрания – соединение в одном пространстве имён знаменитых, малознакомых и полностью забытых.
Бесспорно, в этой части архива выделяется группа писем Бориса Григорьева. Давний знакомый Бурлюка, он, в отличие от московских и питерских художников, часто и подолгу бывал в Нью-Йорке. Прекрасно знал условия жизни Бурлюка, поднимался в его квартиру на шестом этаже в доме на Харрисон авеню, где, по словам Маяковского, не водилось «ни мягких кресел, ни белья, ни столового серебра»22. Бывал и на съёмных, всегда холодных квартирах Манхэттена. Однако в письмах, которые он отправлял Бурлюку с виллы на юге Франции, мы тщетно будем надеяться найти расспросы о его житье-бытье. Абсолютная погружённость в себя, в свои бытовые проблемы, которые подобно надоедливым мухам отвлекают от главного – вот что, прежде всего, бросается в глаза, когда знакомишься с письмами Григорьева. Жалобы на кредиторов, на необходимость срочно уплатить налог на недвижимость – Бурлюку, который фиксирует в дневнике как важное событие каждый заработанный доллар, на который можно будет починить одежду сыновьям! – перемежаются в них с восхищением только что написанной картиной.
Внутреннее напряжение, максимальная концентрированность внимания, без которых Григорьев не мог бы создавать свои шедевры, требовали разрядки. Собственно, всё его «заграничное» существование было подчинено занятиям живописью. Всё, что оказывалось между этими занятиями – отношения с женой, устройства выставок, выбивание денег из покупателей – всё это проходило в каком-то лихорадочном ритме. Во время этих «жизненных промежутков» и писались обычно послания Бурлюку, в которых просьбы незаметно переходили в требования и стенания. В какие-то моменты начинает казаться, что перед тобой один из героев Достоевского:
А деньги пришлёшь? Попытайся, а я что могу для тебя тоже сделаю. В рассрочку продавать неплохо, но с условием, если платят аккуратно, иначе пахнет Уругваем, там мне должны около $ 2.000, и не вижу денег. Ах, Додя, так и помрём без удовлетворения всякого. А жить хочется. Какие бывают девчоночки, а без денег очень недоступны23.
И почти в каждом письме чувствуется страшное внутреннее напряжение, часто переходящее в истерику:
У меня страшно болит душа, как перед страшной болезнью, наверно, скоро помру…
Пусть купят хоть дёшево, не погибать же мне вместе с другими, ведь я не как все другие…
Была Америка (не говорю уже Россия), было Чили, и всё полетело, была слава, куча вещей, всё пошло прахом <…> Голова кружится, из-под носа вынут у меня клочок земли, дом, кровью добытый, чтобы спрятаться от сволочи людской…24
Бурлюк – свой, перед ним можно не притворяться, и, безусловно, чисто человечески Григорьев испытывал к нему симпатию. Правда, такие признания в письмах встречаются нечасто, да и те не лишены лёгких колкостей:
…ценю тебя очень, ты это знаешь, и плюю в рожи тому, кто к тебе плохо относится.
Я очень тебя люблю и твою человеческую скромность, и твои художественные несуразности, впрочем, всегда талантливые25.
Во время наездов Григорьевых в Нью-Йорк Бурлюки часто с ними виделись. После одного из визитов в гостиничный номер, где остановился Григорьев с женой, Маруся записала в дневнике:
…он – буря песочная – безденежье… обрушивается гневом на его плачущую жену. «Ну, если в семье есть нянька, проработавшая 25 лет… её уважают и никуда не гонят, – глотая слёзы, говорит Елизавета [Григорьева], – так и мне уже некуда идти, я устала слушать попреки сэндвичами, коврами… что живу здесь барыней, я бы лучше осталась в Париже, мёрзла бы там и шила платья на чужих». Я смотрю на двух старых людей, проживших вместе более 28 лет: верно, устали и надоели друг другу. Они никогда не задумывались об уважении вместе к прожитому времени, о листах прочитанной жизни… северный холодный ветер не раз бил им снегом и дождём в глаза… зачем же сейчас при чужих (мы с Бур-люком) кричать: «дворник» – «мещанка»26.
Весь эмоциональный накал, вся расхристанность григорьевской души, о которой пишет Маруся Бурлюк, чувствуется уже при первом взгляде на его письма. Даже не читая их, а лишь следя за орнаментальной вязью самого текста, испещрённого подчеркиваниями, многочисленными вставками и приписками, можно сполна ощутить состояние пишущего эти строки.
Подобный эффект производит и единственное, сохранившееся в архиве письмо Судейкина. Написанное уже больным художником, по-видимому, в последний год его жизни, оно не содержит ни просьб, ни требований. Друзья виделись довольно часто, и надобности в писании писем не было. Тем более по-английски. Этот странный, написанный каллиграфическим, как в школьных прописях, почерком текст воспринимается прямым переводом с русского. И только когда натыкаешься на финальный крик «Жив курилка!», будто вырвавшийся из-под этой груды так и не ставших родными букв, вспоминаешь обронённую Бурлюком фразу о том, что из всех русских художников, перебравшихся в Америку, самая русская внешность была у Судейкина. И почти физически начинаешь ощущать несоответствие внутренней сущности человека и той среды, в которую его забросила судьба.
Перед самой войной Бурлюк оставил службу в редакции, супруги приобрели небольшой дом на Лонг-Айленде, и после войны, как типичные пожилые американцы, они получили возможность путешествовать. Первая поездка в Европу состоялась в 1949 году. Планируя её, Бурлюк попытался разыскать Ларионова, отправив ему маленькую открытку:
Однако на открытке был указан неправильный адрес и только через художника Константина Терешковича, с которым Бурлюк познакомился ещё в 1930-е годы во время приезда последнего в Нью-Йорк, ему удалось связаться, а затем, во время пребывания в Париже, и повидаться со старым другом.
Ларионовские письма – документ не менее выразительный и столь же красноречиво передающий внутреннее состояние автора, как и письма Григорьева и Судейкина. В эти годы Ларионов всё чаще мысленно обращается к прошлому, решая осуществить давно уже вынашиваемую им идею написания книги «об искусстве и наших с Вами молодых годах». В его письмах Бурлюку слышны отзвуки бесед, которые проходили между ними в эту первую после долгой разлуки встречу. Былые обиды давно забылись.
У меня исчезло всё старое впечатление, что мы когда-то упорно с тобой спорили. Осталось самое прекрасное воспоминание прежней жизни – и очарование далёкой сейчас Чернянки. Вся прелесть твоей уступчивой улыбки – скорее полуулыбки, немного огорчённой. У тебя это и до сих пор осталось. Для меня ты остался абсолютно <таким>, каким ты был раньше30.
Конечно, замечание об «уступчивой» полуулыбке Бурлюка, памятной Ларионову с момента их первого знакомства осенью 1907 года, когда, по словам самого Бурлюка, он «увлекся мной и стал мне (и меня) Москву показывать»31, дорогого стоит. По изяществу выражения и тонкости восприятия личности Бурлюка этот осколочек зеркала, едва ли не единственный в архиве, который отражает самого владельца.
Помимо Бурлюка в ларионовских письмах постоянно возникает имя его брата Владимира – глубоко оригинального художника первой волны русского авангарда, творчество которого и судьба до сих пор остаются непрояснёнными. Бурлюк во всех изданиях упорно придерживался версии, что брат погиб на Салоникском фронте в 1917 году. Но ей противоречат сведения, которые мы находим в первом письме Ларио нова о том, что он не смог увидать Владимира, когда тот был, видимо, в конце 1910-х годов, во Франции:
Я получил от него письмо – даже два, но должен был уезжать в деревню и не смог увидать32.
Имя Владимира также встречается нам в письмах Ивана Загоруйко – забытого представителя русской школы живописи в Позитано. Уроженец Екатеринославля, он, после разгрома Белой армии, осел в этом тихом и труднодоступном в те годы местечке на Амальфийском побережье. Постепенно здесь образовалась небольшая колония русских, в том числе и художников, самым известным из которых стал Василий Нечитайлов. Вместе с Загоруйко эмигрировавший из России в Константинополь, он после войны перебрался в эти места, где прославился своей большой алтарной композицией для собора в Позитано, на которой изображалось чудесное явление основной святыни города – греческой иконы Богоматери. Открытку с репродукцией только что написанной картины Загоруйко отправил Бурлюкам:
16 ноября. Воск.
1958 Дорогие мои друзья! Это последнее творение Нечитайлова. Я уже писал Вам об этой работе. Варюсь, как каштан в кипятке, во всех своих невзгодах. Спасибо Богу и Вам за всё. Бог = батько. Обнимаю крепко, Ваш дядя Ваня. Тихо. Солнце. Черкну скоро. Богатого успеха на выставке!33
Такие послания могли оказаться только в архиве Бурлюка! Их смысл и ценность совсем никак не связаны с информативностью. Эти несколько открыток и листков прекрасной, ручной выделки бумаги с набранным антиквой именем – IVAN GIOVANNI ZAGORUIKO – в сочетании с почерком и украшениями ребёнка производят неизгладимое впечатление. Невольно вспоминается Ремизов, но здесь нет никакой стилизации и тем более каких-либо хитроумностей и кощунственных перевёртышей. Можно решить, что перед нами юродивый: абсолютная открытость миру, всёприятие и какой-то стихийный пантеизм, позволяющий одушевлять окружающее. Хотя, конечно, юродивым Загоруйко не был. Состояние гармонии с миром и с самим собой ему постоянно приходилось восстанавливать. «Прикосновенность» к творчеству рождала сомнения, в письмах иногда проскальзывает неуверенность в своих силах, но художник тот час же стремится избавиться от неё, «заговорить». Оттого его постоянные обращения к Богу, Солнцу, земле сырой воспринимаются некими заклинаниями, способными рассеять сомнения.
Tasuta katkend on lõppenud.