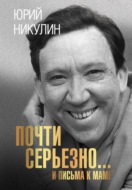Loe raamatut: «Cубъективный взгляд. Немецкая тетрадь. Испанская тетрадь. Английская тетрадь»
Дизайн обложки Дмитрия Агапонова
Фото на обложке Юлии Ромашиной
Фотоматериалы предоставлены Владимиром Познером, фотоагентством Getty Images и фотоагентством EAST NEWS Russia
© В. Познер, 2023
© ООО Издательство АСТ, 2023
* * *
Немецкая тетрадь

Введение
Тот, кто пишет, знает, что такое «не пишется». Когда сидишь, уставившись в пустой лист бумаги – или электронный, – и не выходит ничего. Тоска. Пытаешься выдавить из себя хоть какие-то слова, сложить их в более или менее приемлемый порядок, чтобы преодолеть чувство бессилия, но ничего не выдавливается или выдавливается такое, на что невозможно смотреть без отвращения.
Книжки, которые я написал вслед за документальными фильмами «Одноэтажная Америка», «Тур де Франс» и «Их Италия», писались необыкновенно легко, на одном дыхании. А потом все остановилось. Резко. Как будто в стремительно мчавшейся машине водитель ударил по тормозам. Только не было ни скрипа, ни скрежета, напротив, была полная тишина. Все встало. Последовали фильмы «Германская головоломка», «Англия в общем и в частности», «Еврейское счастье», «В поисках Дон Кихота», фильмы, в которые были вложены переживания, порой даже страдания, размышления, и мне казалось, что все это обязательно выплеснется в книги. Но…
Не писалось. Никак. Сколько раз садился к столу, столько раз я выходил из-за стола, не написав ни одного слова. Бывало, вдруг вдохновение, и вместе с ним возникало ощущение, что вот, наконец-то, все вернулось, сейчас ка-а-к сяду, к-а-ак напишу! Звонил моему редактору Евгении Лариной с радостными новостями: ожидайте, скоро все будет. Но как только я садился за письменный стол, то с огромным трудом выдавливал из себя одну, максимум две страницы, и на этом все заканчивалось. И я принял решение больше не думать об этом, забыть. И стало легче. Никого больше не обманывал обещаниями вот-вот написать, но главное, перестал обманывать себя.
Правда, иногда тихий внутренний голосок противно ныл, стыдил меня, но безуспешно. «Все, – думал я с облегчением, – все, больше никаких книг не будет».
Совсем недавно я сидел у компьютера и смотрел фотографии. Их у меня великое множество, поскольку я страстный фотограф-любитель, и когда я отправляюсь на съемки фильма, то всегда беру с собой две, а то и три камеры. И снимаю. Портреты тех, у кого беру интервью, разные виды, разные городские уголки. И вот я листал папку с названием «Германская головоломка», смотрел на эти лица и пейзажи, снятые мною несколько лет тому назад, вспоминал все это… и вдруг подумал, что можно было написать книжку о том, какие эти фотографии навевают мысли… Нет, не точно, не подумал, а захотелось написать такую книжку.
Вот что получилось.
«Германская головоломка»
Я этот фильм снимать не хотел. Потому что боялся. Это просто сказать и куда как сложнее объяснить. Есть страх понятный, в разъяснениях не нуждающийся. Например, я боюсь акул. Боюсь – и все тут. Это разве надо объяснять? А боязнь делать фильм о Германии…
Я с самого детства ненавидел немцев. Это чувство внушил мне мой отец во время Второй мировой войны. Я войну помню: как в Париже меня сажал на плечи мой дядя Роже, чтобы спуститься в бомбоубежище во время налетов; как парадным шагом шли по Елисейским Полям немецкие войска и как, глядя на них, плакали французы, стоявшие вдоль тротуара; как наша семья по подложным документам сумела попасть в «Свободную зону» Франции, в Марсель, и оттуда через Испанию и Португалию, прихватив с собой мою «няню», девятнадцатилетнюю еврейку (ее родители дали моему отцу необходимую сумму денег, чтобы подкупить гестапо и получить выездные документы, при условии, что мы возьмем их дочь с собой). И еще я помню детство в Нью-Йорке и рассказы о немецких зверствах, которые потом получили реальное подтверждение, когда папа показал мне документальные ленты, снятые немцами в концлагерях – снятые тщательно и подробно, с известной всему миру немецкой аккуратностью. И помню еще о том, как папа рассказал мне, что его ближайшего друга, Вову Бараша, немцы отправили в Аушвиц в газовую камеру, а его собственного отца, моего дедушку, которого я так и не увидел никогда, кроме как на фотографии – стоит такой исключительно модно, даже чуть франтовато одетый мужчина, от которого веет тонким запахом туалетной воды – немцы расстреляли лишь за то, что его фамилия была Познер. Все это и множество других вещей сформировало мое отношение к немцам – не только к Гитлеру с компанией, не только к нацистам, ко всем до самого последнего.
Когда мне было неполных пятнадцать лет, мой отец, горячий сторонник СССР, коммунист по убеждениям, хотя и не член партии, потерял свою высокооплачиваемую работу в американской кинокомпании MGM, потерял из-за того, что не захотел сдать свой советский паспорт в обмен на американский; когда он попал в черные списки и лишился источника заработка; когда французские власти отказали ему в визе, таким образом практически закрыв не только ему, но моей маме, мне и брату возвращение во Францию; когда, наконец, советское правительство предложило ему работу в берлинском отделении «Совэкспортфильма», мы уехали в Восточную Германию, то есть именно в ту страну, которую я ненавидел и куда ни за что ехать не хотел.
Невозможно передать разницу между ярким, полным обещаний, бесподобным Нью-Йорком и Берлином – полуразрушенным, серым, кисло пахнувшим запахом некачественного бурого угля, которым немцы топили свои жилища. В Нью-Йорке я чувствовал себя дома, это был мой город, я знал его как свои пять пальцев, я болел за королей бейсбола «Нью-Йорк Янкиз», я был абсолютно, несомненно, категорически стопроцентным нью-йоркским мальчиком, я был «своим». А в Берлине? В Берлине я был совершенно чужим: не мой город, не мои люди, и что вообще невыносимо, меня там принимали за немца, поскольку я ни слова не знал по-русски. Странное дело, я не помню, чтобы я тогда страдал, но, вспоминая сейчас прожитые там четыре года, я испытываю острое чувство жалости к тому американскому подростку, юность которого прошла в глубоко чуждой и ненавистной ему среде. Я знаю, что эти четыре года изменили меня – и физически, и психически. Я был 180 сантиметров роста, когда мы покинули Нью-Йорк. Попав в этот скудно снабжаемый Берлин, я перестал расти; думаю, я не добрал сантиметров 5–7 того, что предполагала природа. А из беззаботного, открытого, лишенного комплексов мальчика я превратился в… хамелеона, я чувствовал необходимость «менять краску», делаться похожим на других, чтобы меня не считали чужим, а принимали за своего. Как же это было мучительно трудно! Прошло не одно десятилетие, прежде чем я избавился от этого почти условного рефлекса, когда я перестал пытаться встраиваться, когда смог сказать себе – а значит, всем: нет, я не такой, как вы, не лучше и не хуже, но не такой, и мне совершенно все равно, как вы относитесь к этому, потому что для меня самое главное – это чувствовать себя хорошо в собственной шкуре.
Порой мне кажется, что Германия мне мстит за то, что я так не люблю ее. Бред? Конечно, но именно в Германию эмигрировала моя дочь, увезя с собой мою внучку Машу и невольно тем самым лишив меня возможности участвовать в ее воспитании. Там, в Германии, родился мой внук Коля, и именно эта страна пролегла между нами. Сколько бы я смог дать им, если бы они росли рядом!.. Что до моего правнука Валентина, которому сейчас три года, то я для него в какой-то мере мифологическая фигура, которая приобретает реальные очертания два-три раза в год, когда я приезжаю в Берлин на несколько дней или когда он с родителями приезжает в Москву на Рождество.
При чем тут Германия? Разве было бы иначе, если бы моя дочь уехала во Францию? Или в Америку, куда приезжать было бы еще труднее? Правильный вопрос, логичный, но не ждите от меня логики, потому что речь идет о чувствах, а чувства к логике отношения не имеют. Все, что я рассказал, – это попытка объяснить вам, читателям, почему я боялся делать фильм о Германии. Я опасался того, что мои личные счеты со страной «трех Б» – Баха, Бетховена и Брамса, но и «трех Г» – Гитлера, Геббельса и Геринга – не позволят мне быть объективным, что я не смогу справиться со своими пристрастиями.
Опасался не напрасно. Посмотрев фильм заново, я должен был признаться себе в том, что моя неприязнь к Германии и к немцам то и дело давала знать о себе. Я старался быть непредвзятым, “evenhanded”, как говорят американцы. Не получилось. И теперь, вспоминая ту поездку по фотографиям некоторых ее «героев», боюсь того, что это случится вновь, что опять не удержусь и из меня, как из разбуженного вулкана, вырвется кипящая лава нелюбви. Постараюсь удержать ее. Очень постараюсь. А что получится, то и получится.
И последнее: в том, как размещены эти фотографии и связанные с ними размышления, нет ни хронологии, ни связи. Хотя, может быть, какая-то связь есть – не совсем как, например, в пазле, потому что здесь каждое фото значимо само по себе (в отличие от кусочков головоломки), но и как в пазле потому, что все фото и связанные с ними размышления, собранные вместе, составляют, как мне кажется, единую картину.
Татьяна Нидель
Город Цербст – можно бы даже сказать городок – не имел бы значения ни для кого, за исключением разве живущих в нем граждан, если бы не два обстоятельства. Первое известно немногим, но достойно упоминания. В ночь с 14 на 15 апреля 1945 года, за две недели до капитуляции фашистской Германии, ВВС США разбомбили Цербст в пух и прах, а точнее, уничтожили его на восемьдесят процентов. В этом не было ни малейшей надобности. В Цербсте не было никакой военной промышленности, не было гарнизонов, не было солдат. Зачем бомбить? Как сказала мне одна дама, союзники торопились нанести как можно более тяжелый урон той части Германии, которой предстояло стать зоной советской оккупации, и Цербст просто попал под их общую «раздачу». Ни о каких таких намерениях союзников я не слышал и не склонен доверять подобным разговорам, но факт остается фактом: городок, не имевший никакого военно-стратегического значения, стерли с лица земли буквально накануне конца войны, и этому нет ни объяснения, ни оправдания.
Второе обстоятельство куда важней: первые пятнадцать лет своей жизни (не считая первых после своего рождения месяцев) провела здесь София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская. Она жила-поживала во дворце, пока совершенно неожиданно не была тайно вывезена в Россию по требованию императрицы Елизаветы Петровны, желавшей выдать ее за своего племянника, сына Анны Петровны, внука Петра I, Карла Петера Ульриха, которого за три года до этого привезли из немецкого Киля в Санкт-Петербург.
Несчастному Карлу Петеру предстояло стать императором Петром III Федоровичем. Несчастному, потому что его ждала жестокая смерть от рук участников дворцового переворота, организованного его супругой, той самой Софией Августой, ставшей по приезде в Россию Екатериной Алексеевной, а после заказанного ею убийства мужа императрицей Екатериной II.

Вот таким причудливым образом русская романовская кровь была обогащена (или разбавлена?) кровью немецкой.
Я часто задумывался над тем, сыграло ли это обстоятельство роль в судьбе России? Повлияла ли немецкая «прививка» и если повлияла, то как?
«Что русскому хорошо, то немцу смерть» – эти слова приписывают Александру Суворову, и если он и в самом деле автор этой истины, не удивительно, что Екатерина не слишком жаловала его. Если фельдмаршал был прав, то соединение этих двух кровей должно было привести либо к смерти, либо к рождению чего-то невиданного. И привело: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…»
Но я отвлекся.
Хоть и покинула Цербст будущая Екатерина Великая еще подростком и никогда туда не возвращалась, дух ее продолжает витать над городом. О ней напоминает полуразрушенный бомбежкой дворец, где проживала будущая русская императрица. Напоминает о нем и Татьяна Нидель.
Вглядитесь в эту фотографию. Это она, Татьяна Нидель. Харьковчанка, которая занималась германистикой и приехала в университет города Магдебурга, чтобы написать там и защитить диссертацию. Там, в Магдебурге, встретила Фредди Ниделя, вышла за него замуж и осталась жить в Цербсте.
При чем тут Екатерина II? – спросите вы. Чуть потерпите. Дело в том, что в Цербсте давно существует Общество Екатерины II. Возглавляла его преподаватель русского и немецкого языков Аннегрет Майнцер, женщина ничем не выдающаяся, живущая в такой же «хрущевке», какие сейчас стали в Москве сносить. Маленькая двухкомнатная квартира, маленькая кухонька, маленькая пятидесятилетняя женщина, говорящая по-русски с сильным акцентом, но почти без ошибок, родившаяся и прожившая всю жизнь в ГДР. Говорит тихим, спокойным голосом, смотрит в глаза, почти приятное лицо – почти, потому что чуть искривлен рот, может быть, поврежден тройничный нерв.
Была, как и все ее сверстницы, членом Союза свободной немецкой молодежи (гедеэровского эквивалента комсомола), свято верила в сказку о социализме, пока в один прекрасный день не сообщили, что сказка кончилась.
– Если бы из ГДР можно было ездить в разные страны, – говорит Аннегрет, – если бы режим был с человеческим лицом, меня это полностью устроило бы.
О Екатерине II и об истории России того периода знает все. Стала членом общества имени российской императрицы при его создании двадцать лет назад, через десять лет возглавила его, но совсем недавно уступила этот пост Татьяне Нидель – когда она говорит об этом, в голосе слышатся (или так мне кажется) нотки сожаления.
Под впечатлением встречи с Аннегрет Майнцер я полагал, что новый председатель Общества Екатерины II будет чем-то на нее похожа, например спокойствием, сдержанностью. Можете себе представить, какой шок я испытал, когда мне навстречу выпорхнуло блондинистое существо в розовом атласном платье, в розовых же туфлях на высоких ярко-желтых каблуках и в губной помаде того же оттенка, что и платье. Но если у вас мелькнула мысль «кокетливая профурсетка», как мелькнула у меня, то советую немедленно отказаться от нее. За легкомысленным фасадом скрывается жесткий, целеустремленный ум, не терпящий возражений и не знающий сомнений. И если вам придет в голову мысль, что я описываю саму Екатерину II, то вы будете недалеки от истины: мило улыбаясь, Татьяна Нидель говорит в шутку, что она – реинкарнация великой Екатерины, а в каждой шутке, как известно, есть доля шутки.
Татьяна добивается (и, уверен, добьется) восстановления дворца, в котором она регулярно устраивает костюмированные балы. Она выходит к гостям в одеждах императрицы под руку со своим Фредди, на котором пышный парик и богатые одеяния сидят как на корове седло. Но он давно примирился с мыслью, что в него не вселилась ни душа Орлова, ни Потемкина и что сопротивление не только бессмысленно, но и опасно.
И вот они идут рука о руку в свете горящих свечей, она – мило кивая своим «подданным», и он – нелепо вышагивая рядом. Россия и Германия? Татьяна, пристально глядя на меня совершенно синими глазами, говорит: «Екатерина была лучшим из всех российских монархов. Именно при ней Россия добилась признания и достигла величия. Русский характер нуждается в немецкой прививке, и Россия должна быть признательна Германии за этот подарок».
«17 июня 1953»
В Лейпциге, на площади, почти точно напротив гостиницы «Штайгенбергер» и недалеко от церкви Святого Николая, в одну из плит площади вбита небольшая металлическая квадратная плашка, на которой выведено 17 Juni 1953 («17 июня 1953»). Справа и слева от нее проходит то, что может показаться декоративными узорами. Но при ближайшем рассмотрении опытный глаз определит, что никакой это не узор, а изображение следа гусениц танка.
17 июня 1953 года в знак протеста против режима на улицы Берлина вышли сорок тысяч человек; тысячи людей – в других городах Германской Демократической Республики, в частности, в Лейпциге. В разгоне демонстрантов, помимо Вооруженных сил ГДР, приняли участие и советские войска, в том числе и танки. Крови было много. Очень много.
Прошло 36 лет, и здесь, в четырехстах метрах от этого памятника, из Николайкирхе вышли тысячи людей – они вышли из церкви во главе с пастором Кристианом Фьюрером, держа в руках зажженные свечи, и встали. Стояли молча, без лозунгов, протестуя против режима. Их окружили войска, из громкоговорителей приказывали им разойтись по домам. Они не расходились, они продолжали стоять, молча, не оказывая сопротивления. И войска отступили. То, что началось 17 июня 1953 года, завершилось 7 октября 1989 года, ровно за месяц до падения Берлинской стены.
Я стоял на площади рядом со вбитым в плиты площади напоминанием и спрашивал проходящих мимо, знают ли они, что означают эта плашка и узоры, что такое случилось 17 июня 1953 года? В ответ некоторые отворачивались и ускоряли шаг. Другие пожимали плечами. Совсем немногие отвечали: «Была какая-то заваруха…»

Потом я спрашивал, знают ли они, кто такой был пастор Кристиан Фьюрер? Не знал никто. Я не стал спрашивать, хотя очень хотелось, знакомо ли им имя пастора Мартина Нимёллера. Не стал спрашивать, потому что не сомневался в том, что снова я увижу пожимание плеч. И тогда я счел бы себя обязанным рассказать о том, что Мартин Фридрих Густав Эмиль Нимёллер родился в Германской империи в 1892 году в семье протестантского пастора. Во время Первой мировой войны он был офицером военно-морского флота, командиром подводной лодки, за потопленные корабли противника был награжден орденом «Железный крест». После войны Нимёллер пошел по стопам отца и стал священником. Будучи националистом и ярым антикоммунистом, он вступил в НСДАП и приветствовал приход к власти Гитлера. Но вскоре пожалел об этом: нацисты рассматривали Церковь, в особенности протестантских пасторов, как врагов режима. В 1938 году Нимёллер был арестован и отправлен в концлагерь – сначала в Заксенхаузен, потом в Дахау. Он выжил – его освободили американские войска. Он знаменит своим высказыванием об ответственности. Оно звучит так:
«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто мог бы протестовать».
С этими словами перекликается отрывок из проповеди английского поэта XVII века Джона Донна: «Человек не остров, целый сам по себе; каждый человек – часть континента, часть целого; если море смывает даже комок земли, то Европа становится меньше, как если бы был смыт целый мыс или дом твоих друзей, или твой собственный дом. Смерть каждого человека уменьшает меня, потому что я – часть человечества, и потому никогда не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».
Мы, люди, пока так и не усвоили этот урок. Могут людей давить танками, могут травить их в газовых камерах, нас это не касается. Точнее, касается только тогда, когда речь идет о близких. А так – нет. Не выходим на улицу по этому поводу, не протестуем. Потому что… что? Лень? Страшно? Не трогает? Не волнует?
Что случилось 17 июня 1953 года? Кто такой пастор Кристиан Фьюрер? Что сказал Мартин Нимёллер?
Да кто его знает…