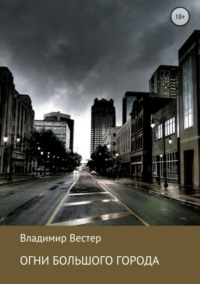Loe raamatut: «Огни большого города», lehekülg 3
Впрочем, на телогрейках душа моя отдыхала, однако в себя не всегда приходила. Это я несколько предвосхитил. Желание было, а результата желанного не было. Кололо что-то внутри. Тревожило что-то меня как в небольшом служебном помещении, так и за его пределами, на всем окраинном пустыре. К тому же в самый разгар рабочего дня на дальней столичной окраине скрипели дверные петли, откуда-то доносились гудки, и видел я не моего товарища при свете электрической лампочки, а более взрослого и крупного Сергея Львовича Стёгина в армейской фуражке без звезды. Помимо фуражки, Сергей Львович был в накинутой на плечи плащ-палатке, но без кожаной кобуры на боку. Сколько времени он из-за бушевавшей снаружи непогоды просидел в душной каптерке, я сказать не могу, но обязан уточнить, что никаких пожелтевших фотографий он из нагрудного кармана не вынимал, ничего о них не говорил и никак подробностей не вспоминал. А вот плавленый сырок «Дружбу» от фольги он двумя пальцами, кажется, очищал. Очистив его и проглотив его весь, бывший полковник выходил из каптерки, чтобы, наверное, кое-что разузнать как об этом будущем величественном здании со всем его внутренним оборудованием, неизвестными жильцами и мемориальной доской на фасаде. И снова слышал я голос товарища. Он только что из большой Москвы пришел ко мне. Он пришел навестить меня в вечернее время суток. И голос его до меня доносился тогда и снова доносится теперь сквозь шум и грохот десятилетий. Вот что важно отметить, а еще важнее об этом сказать. Ради справедливости и ее повсеместного торжества.
VII.
У каждого человека его странный всплеск воображения где-то внутри, но в каком именно месте, не скажу. Верно это и в наши всклокоченные дни, когда многие объяснения моего друга и товарища несколько поистлели в моей скромной памяти. Те же, которые не истлели, – те по-прежнему где-то рядом. И когда мне хочется их услышать, я их слышу, а когда не хочется, тоже слышу и всякий раз с тем же недоумением, что и тогда.
Ради торжества той же справедливости должен сказать я и то, что ни до одного из заборов я по-прежнему не добегал: ни на севере, ни на востоке. Никак не мог заставить себя. Выгляну из каптерки, а снаружи какой-либо дождик со снегом. Гудки на Ярославском перегоне. Животные в лесу кричат своими фантастическими голосами. Куда же я побегу? Для чего? Бывший полковник чуть поодаль от меня. Он сидит и, должно быть, о чем-то мечтает: по лицу видно. Быть может, о чем-то грандиозном, о чем-то мемориальном, о чем-то многоэтажном. Но это ведь его мечта, а не моя. Игра воображения бывшего военного командира, контуженного лет тридцать пять назад где-то на Дальнем Востоке в период сражения с японскими захватчиками.
Другое дело – мой ламповый радиоприемник, передававший самую лучшую музыку отечественных и зарубежных композиторов в домашнем тепле на 3-ем этаже. Джаз, рок-н-ролл, буги-вуги, твист, наиболее популярные песни протеста. Это нам с Александром Петровичем удавалось послушать. Как мне, так и ему. Сидим с ним и слушаем. Вместе с другом. Я и товарищ. Он тут, и я тут. Курим. Давно уже ночь в столице. Всю еду съели. Он мне говорит: «Прекрасно поют эти талантливые негры на английском языке, так и хочется перевести на русский! Но ты-то ведь все равно ни хера не поймешь!» И я понимаю, что снова он прав. Он, а не я. А вокруг – все по-прежнему. Мой гардероб неподалеку от Александра Петровича, а заначка «партийного» в узкой тьме его не покоится: всю выпили еще, наверное, вчера при далеком бое курантов за окном. Случилось это, стоит напомнить, не где-нибудь там, где никогда такого не случалось, а именно здесь, в моем двенадцатиметровом жилом помещении с советской ламповой радиолой «Днепр» и фикусом на подоконнике, вчерашней газетой «Правда» на столе. Александр Петрович, поставив локти на стол, сидел как раз вон на том стуле, а я вот на этом, и тоже поставив локти на стол. Музыка. Он – напротив меня, я – напротив него.
А чтобы нечто неожиданное про наш большой город сказать, то ничего такого ни разу между нами не было. Разное было, а это как-то мимо пронеслось. Ни слова не произнесли ни по снабжению города электроэнергией, ни по завозу предметов повседневного спроса в столичные магазины. Наш город и для всего остального слишком был огромный и непознаваемый. Кто же знает, когда, чего и куда завезут? Про ту же самую сушеную воблу в мешках и то никто ничего не знает. Да и огней, стоит заметить, в нашем городе столько, что даже подумать нечто обратное о нем слишком опрометчиво.
Навалом в Москве и других питейных заведений, помимо моей комнаты в общей квартире с досчатым коридором и огромными влажными панталонами на веревке в общей коммунальной кухне. Название все известные, неоднократно обнародованные: «Джульбарс» и «Наири», «Красные паруса» и «Огни Москвы», «Большой привет» и «Белый ветер»… В них мы с товарищем не так часто бываем, но все-таки бываем иногда, хотя и не в них, а просто у меня.
И ресторан «Прага». Один из самых старинных, крупных, больших, посещаемых, крутых, модных и знаменитых в Москве. Весь изнутри позолоченный и светлый, как майский рассвет. Там мы с Александром Петровичем ни разу еще не были. Ни он, ни я. Однажды он пообещал меня туда пригласить. Под приятную музыку по моему лаповому радиоприемнику на электрических конденсаторах он мне сказал: «Ты вот как свои премиальные деньги получишь, так я тебя сразу на третий этаж ресторана «Прага» приглашу. Во-первых, будет чем расплатиться. Во-вторых, ты сам увидишь, какие там женщины и какая еда! Ты мне потом еще спасибо скажешь, что я тебя не обошел своим приглашением».
Таким образом, все это и должно было состояться. Грандиозно и тщательно манили нас все эти заведения при всем их столичном блеске, яркости люстр, вышколенности гардеробщиков, мраморе лестниц, богатстве меню и величии зеркал. И все они были значительно более общественные, чем скромная площадь моего проживания. В ней мы с товарищем почти всегда вдвоем в наши давние осенние вечера, а там людей в сотни раз больше, чем в прокуренной строительной каптерке. В этих общечеловеческих заведениях всегда многолюдно. И какие-нибудь члены общества действительно поют, а иногда и танцуют (не без женщин). Все они – такие же непохожие друг на друга парни и мужики, как они же в метрополитене, на уличном тротуаре, в кинотеатре или в ближайшей бакалее. А то, что их всех объединяет, – черт знает что такое. Это, наверное, какой-нибудь «странный всплеск воображения», о котором говорил Александр Петрович, пытаясь совместить несовместимое и доказать недоказуемое.
Возможно, годы пройдут. Век следующий в нашей жизни наступит. И что-то с чем-то совместится, сцепится, слюбится. Пиво станет вкуснее, и сушеную воблу в мешках завезут. Так и случилось. И пиво стало вкуснее, и воблу круглые сутки завозят. А вот надежда как-то угасла. Это разве нужно доказывать? Скорость же проекционного луча и в конце девятнадцатого века представлялась мне такой же высокой, как и почти сто лет спустя при советской власти: шутка ли – 300 тысяч километров секунду! Это вам, знаете ли, как сказал бы Александр Петрович, не баран начхал. Почти что в полной неприкосновенности и мелькание мельчайших пылинок на всем протяжении этого луча. Люди в кинотеатрах чихают и кашляют, волнуются и переживают. Значит, им эти пылинки и в рот и в нос попадают. Отсюда и реакция. Правда, вот эта голая брюнетка после помывки еще на заре кинематографа куда-то подевалась через 58 секунд после начала демонстрации. Поэтому трудно сказать, каким образом за такое короткое время ей удалось сыграть такую заметную роль в догадках товарища.
В газетах и в журналах, на радио и в телевизионных передачах, в виде образов на киноэкране – повсюду отголоски похожих догадок, которые не только слышал я в жилом своем помещении, но и видел на значительном расстоянии от моей комнаты. Удивляться такому эффекту не очень хотелось. Что же тут удивительного? Почва и в той осенней Москве была для всего благоприятной. Слетали листья с деревьев, все реже встречались на бульварных скамейках разговорчивые центровые алкаши в галошах на босую ногу, и никакая окружающая «затхлость», никакой советский тоталитаризм не силах были повлиять на то, что с наступлением весны те же самые алкаши вернутся на те же скамейки и в тех же галошах. Не говоря уж о том, что и сам Александр Петрович без своего длинного пальто и шляпы с отблесками на широких влажных полях на улице не покажется. Что и бывало тоже часто, а особенно с такими непредсказуемыми людьми в нашей необозримой Москве, подсвеченной по вечерам многочисленными фонарями. И необычайно раннее полнолуние, наступившее в последней декаде октября того же года, некоторое время скромно освещало не только Александра Петровича, но и мою заставленную комнату, и я, должно быть, с целью экономии свою электрическую лампочку позже зажег. Где-то милиционер пронзительно свистнул. И вчерашняя «Правда» на моем столе, и два граненых на этой вчерашней «Правде», самой газетной газетой нашего советского прошлого. С главными государственными орденами и прямоугольной передовой статьей об освоении бескрайних пустырей в какой-нибудь необозримой области.
VIII.
Необозримо по смыслу, по эмоциям, по антуражу, по фантазиям все, чем мы жили тогда, а также и то, чем мы не жили никогда. Тем не менее веселой, смелой, отважной и задорной жизни всегда было много, что же скрывать. А как это более подробно объяснить, я не знаю. Я только знаю, что не одними только окраинными пустырями или баночными шпротами жив современный человек. Шкаф-то мой – еще туда-сюда, особенно, если обе его створки пошире распахнуть, однако даже мясными пельменями дело ни в коем случае не исчерпывается. И лампочкой на потолке. И вообще: «Живем мы только раз, но для чего, мало кто знает», – в разгар очередной нашей вечеринки утверждал Александр Петрович, поправляя свой широкий галстук в кривых фиолетовых огурцах. Я его спрашивал, считает ли он себя входящим в немногочисленную бригаду знающих. «Ладно бы я, – говорил я. – Я все-таки каждый день вижу носки на изогнутой трубе и слышу гудки на перегоне. Но ты-то хоть входишь в эту бригаду?» Он отвечал: «Ты понимаешь, я бы сам очень хотел бы в ней оказаться; прямо весь такой, какой есть: в пальто и в шляпе. Но вот беда: пока еще в дверях застрял». И уже далеко за полночь признавался, что вот он теперь сидит у меня без всякого важного дела, и кастрюля пустая, и тени странные под столом, тогда как сам бы давно уже лично не отказался постоять в одиночестве у гранитного парапета на Большом Каменном мосту.
Не знаю, для чего это нужно было ему, чтобы в длинном пальто, шляпе и нитяных перчатках идти на мост и там стоять у парапета. Умные люди чего только не вообразят. Он же, чтобы исключить более пристальное разбирательство, отзывался: «Ты сам представь: я, мост и ветер. Каково?» Я пытался такое представить, но ничего не выходило. Я и склонности его при всем желании не мог разделить: своего ветра хватало. Он говорил: «Когда вода темная, рябая, и в эту рябую воду фонари опрокинуты, как-то лучше понимаешь, кто ты есть такой на самом деле». Дальше он считал для себя возможным не продолжать, из-за этого заметно скучнел, а я у себя в комнате без всякой надежды на успех пробовал сообразить, кто я есть такой на самом деле, а не только он.
IX.
В конце той же осени вышла в свет книга об одном латиноамериканском полковнике. Этот полковник, стоя у стены, за несколько минут до расстрела вспомнил, как в детстве отец повел его посмотреть на куски замершей воды, то есть на лед. Полковника в связи с его дальнейшей повстанческой деятельностью не расстреляли, хотя раз сто собирались, почти ежегодно. Зато их всех, кто собирался в него смертельно пальнуть из длинной винтовки, смыл многолетний латиноамериканский дождь стеной. После чего начались такие приключения, которых хватило на весь ХХ век и кое-что еще осталось.
Книгу про многолетний дождь, латиноамериканского полковника и приключения в каких-то непроходимых кущах в двенадцати тысячах километрах от Москвы Александр Петрович прочитал несколько раз. Несколько раз с самого начала и несколько раз до самого конца. Он и другие книги тоже читал, но эту особенно пристально. Потом сидели у меня. Оба. Он мне, когда мы снова на разных стульях сидели, сказал: «Ты знаешь, я своего отца плохо помню. Он, помню, был такой же высокий, как я, и брился безопасной бритвой в той комнате, где теперь мама на машинке печатает; песенку еще какую-то напевал… А из той давней командировки назад так и не вернулся. В железном вагоне уехал, а назад не приехал. Тогда еще все составы огромные паровозы тянули на угольном ходу… Поэтому на лед он меня смотреть не водил. Меня мать однажды собиралась повести посмотреть на дождь, но я его уже и сам видел».
Это и кое-что из других его личных воспоминаний подходило для внесения творческого разнообразия в наши посиделки, а кое-что не совсем. Какие посиделки, такое и разнообразие. Опять не берусь утверждать, что так все и было на самом деле. Кое-что было, а чего-то не было. При этом само его появление не всегда, однако все же иногда годилось для того, чтобы творчески разнообразить многое из того, что нас окружало. Не всю Москву, это уж слишком, но хотя бы небольшую районную часть. Бакалею, трамвайные рельсы, сквер, подворотню. Или вот какие-либо новые уточнения с его стороны. Не по шкафу (его уже почти проехали), а по зажатому и отпущенному дворницкому шлангу, или о возникновении сексуального любопытства в начальный период формирования Александра Петровича как танцора в ближайшем тенистом саду. Он возмужал с тех пор. Стал носить свой пиджак с мелкой искрой на подкладке, и творческие его склонности получили дальнейшее развитие. А когда он стал студентом ВПШа, то тогда кое-что стало подходить и для его будущего блестящего реферата по повседневному коммунизму, обещанного еще в позапрошлом году заведующему кафедрой, профессору Дроцкому.
Этого реферата в его окончательном варианте я никогда не видел, как и в неокончательном. Я и этого профессора тоже никогда не видел. Однако после того, как мы опять накурили полную комнату, и мне о нем рассказал Александр Петрович, возникло у меня подозрение, что это именно он. Тот самый профессор, который с мелкой перхотью на черном пиджаке и с такой любовью докторскую колбасу тонко режет на свежей газете. Он, впрочем, не какой-нибудь заурядный кафедральный коммунист. Зачем держать его за него? Нет, он совсем, совсем, совсем не заурядный, но очень кафедральный. Он знает почти наизусть почти всего Фридриха Энгельса, в связи с чем и есть самый настоящий ученый из всех, какие только имели свойство обнаруживаться в вечерних рассказах моего товарища. Ростом он почти на голову ниже Александра Петровича, а сам Александр Петрович почти на голову выше Дроцкого. Кроме этого, Дроцкий – профессор очень подвижный, выдающийся, рьяный и лет ему примерно за пятьдесят. В бинокулярных очках. И всё в том же духе. Вплоть до «непримиримой критики империализма и его человеконенавистнической идеологии, от которой все у нашего профессора сотрясается вместе с очками на лице и пластмассовой расческой в нагрудном кармане».
Я не представлял, как такое возможно. Как это может быть, чтобы заслуженный доктор наук, заведующий кафедрой малоизвестных страниц марксизма-ленинизма, сотрясался вместе с расческой в нагрудном кармане! Однако понимал, что Александр Петрович профессора Дроцкого уважает примерно так, как я Сергея Львовича, когда тот мне говорит: «Кончайте вы тут рожу мять об промасленные телогрейки!» Парень все-таки по характеру не очень простой; едкий, можно сказать, паренек, спуску никому не давал. Поэтому он, когда у меня не слишком долго засиживался, надевал утром свой «джазовый» пиджак с видавшим виды хлястиком, доезжал в нем до ВПШа на железном трамвае, а затем уверенно входил в тяжелые двери высшего учебного заведения. И после того, как эти тяжелые двери впускали его внутрь, он и оказывался внутри, а затем пешком, в своих больших ботинках прямо по центральной лестнице поднимался на кафедру и там почти ежедневно спорил с профессором по каждому поводу среди кафедральных пыльных вершин.
Он не был во всем убежден. Ни в чем и никогда. То есть, конечно, убежден-то он был почти что во всем и всегда, но не совсем так, как профессор. Тот – горячий сторонник исторического материализма, и нет в нем места ни для какой такой знаменитой блондинки, как, например, Норма Джин Бейкер Мортинсон. А мой товарищ – не менее горячий сторонник своего фантастического субъективизма, и в нем такой знаменитой блондинке, как Норма Джин Бейкер Мортинсон, самое место. Она же ведь, в конце концов, известна всему человечеству как самая печальная в мире Мэрилин Монро на всей трехмерной плоскости мирового киноэкрана. Она по жизни то ли была, то ли не была любовницей Джона Ф.Кеннеди, застреленного, как известно, из оптической винтовки в Далласе в 1963-м. Да и сама она за год до этого скончалась от психотропной передозировки у себя на калифорнийской вилле… И вот как раз на эту очень известную американскую молодую женщину, по образному выражению Александра Петровича, «твердо, как нога табуретки», стоял у него еще в пятом классе средней общеобразовательной школы: особенно сильно на уроках физической географии. Я с этим соглашался, и он меня называл почему-то Миклухо-Маклаем, а потом уточнял, что эту белокурую женщину он не мог не назвать. Образ ее для него как раз именно с 5-го класса средней общеобразовательной школы, с той, единственной в советском прокате, кинокартины про гангстеров, джаз и бутлегеров, настолько свеж и привлекателен, что он, мечтательно глядя в окно на зажигавшийся всеми огнями огромный город, готов подробно описать ее макияж, цвет волос, привычки, верхнюю одежду, нижнюю одежду и особенно заостриться на изогнутом саксофоне, отнеся и его к «изыскам мирового кинематографа», а никак не столичного климата, умеренную континентальность которого он страстно не выносил, но принимал в качестве неизбежности его московской судьбы.
А для того, чтобы хоть что-нибудь из задуманного состоялось, не нужно, в сущности, ничего. Совсем ничего. Кроме, может быть, моей прокуренной комнаты и наших посиделок иногда до рассвета. Вполне достаточно. А если к этому добавить еще и то, чтобы уже сегодня самая свободная свобода взяла верх, то этого уж точно должно на все хватить. «Я, знаешь ли, убежденный сторонник того, чтобы вершиной жизни была именно такая свобода, а особенно творчества. Ради этого она тогда еще, на заре кинематографа, без трусов и выходила из ванной!» Он, бывало, появится в своем распахнутом пальто, в той же шляпе, такой же рослый и умный, как всегда, и что-нибудь подобное скажет. А потом еще раз.
Х.
Были с его стороны и разные другие рассуждения: это ведь я чаще молчал, а он чаще говорил. К примеру, о том, что практически все применимо как на страницах будущей его научно-просветительской работы, так и во всей нашей жизни, в том числе и наш строительный пустырь с носками на теплой казенной трубе. Я тут же как патриот пустыря собирался его поддержать. Всей душой готов был ринуться на поддержку. Но подходящих слов не находил и слышал только гудки на Ярославском перегоне. И тут же – скрип петель двери каптерки, фуражка без звезды, и давнишний полковник, и навязчивая рифма с стороны товарища, вроде «джаз-продаст». Он ее бог весть откуда взял, но как-то раз буквально пропел во втором часу ночи с такой силой и таким вдохновением, что соседям моим не очень понравилось. Ах, какая была запоздалая рифма, дополненная мелодичном треском маракас и хриплым голосом изогнутого саксофона! И легендой о том, как Валерий Чкалов еще до войны в нашем центровом «У летчиков» длинные мучные макароны покупал! Из-за этого даже мой сосед, Арнольд Моисеевич, технолог по специальности, среди ночи у себя в комнате проснулся и сказал: «Ребята еще молодые, а уже так хорошо жизнь знают. Но не пора ли и этим ребятам хотя бы немного поспать?»
Как нельзя лучше в те же осенние дни вспоминалась и наша детская игра в «политого поливальщика», и как мы с ним в ноябрьской утренней темноте встречали краснозведные танки, а потом то ли я ему, то ли он мне иглой от круглого значка «Москва – пяти морей великий порт» проколол воздушный синий шар, с внятным хлопком распавшийся на тонкие ошметки того же цвета.
Были среди наших дружеских тем и снабжение города электричеством, и золотистые шпроты в масле, сколько бы ни было их в плоской жестяной банке, а также медикаментозная передозировка на вилле под Лос-Анджелесом. И «чего-нибудь покурить». И давняя стрельба по президенту Джону Ф. Кеннеди. И стопроцентное неустановление личности того, кто же все-таки стрелял в него из винтовки с оптическим прицелом. Неужели и этот стрелявший тоже был когда-то членом ВКП(б)?! И утром ехал я к нам на пустырь, пытаясь по дороге разобраться: «Товарищ зачем такое сказал при мне на всю комнату и в результате никуда из комнаты не вышел, оставшись у меня ночевать без, слва богу, верхней одежды?»
Намеревался ли Александр Петрович в результате постоянной творческой работы добраться до вершин воображения, вставив рефреном в свой письменный труд эту безымянно помывшуюся в 1895-м году? Собирался ли он показать всю эту давнишнюю купальщицу в ее черно-белом абсурдном величии, мерцании старинных кинокадров, изыске талантливой режиссуры, заветной трескотне несовершенной кинопроекционной установки? Ведь в конце концов могла бы получиться великолепная история об всем, что с нами происходило в преддверии конца ХХ века и начала ХХI. Тем более что, в отличие от профессора, он полагал, что все возможно не только в нашей огромной вечерней Москве, а вообще где бы то ни было. От американских морей до советских полей. От китайских угодий до эстрадных пародий. При этом такая утренняя эрекция, такой силы и энергии, может быть только у него. И такие выразительные сновидения с участием Нормы Джин Бейкер и ее изогнутого саксофона, с которым она, совершенно без всего на голом теле, выходила из ванной комнаты, но уже при более совершенном оборудовании киносъемок. Что существенно отличало ее от той брюнетки из 1895 года, помывшейся при треске старинной кинопроекционной установки.