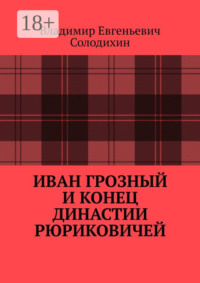Loe raamatut: «Иван Грозный и конец династии Рюриковичей»
© Владимир Евгеньевич Солодихин, 2021
ISBN 978-5-0053-1291-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ИВАН ГРОЗНЫЙ И КОНЕЦ ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТРУДНОЕ ДЕТСТВО ИВАНА ГРОЗНОГО. ПРАВЛЕНИЕ ЕЛЕНЫ ГЛИНСКОЙ.
Детство у Ивана Васильевича (в будущем Грозного) было трудное.
С одной стороны он уже в три года стал великим князем и главой огромной страны, а с другой он с малых лет был окружен людьми, которые его не любили, а многие мечтали о его погибели. В три года у него умер отец, а когда мальчику было семь лет отравили его мать, и он остался круглым сиротой.
Этому отравлению предшествовало ряд событий.
По завещанию Василия Ивановича при трехлетнем наследнике до его совершеннолетия был образован регентский совет из семи человек: двух родных братьев покойного великого князя (Юрия и Андрея), дяди его матери, Михаила Глинского (по ходатайству племянницы его в конце правления Ивана Третьего досрочно выпустили из тюрьмы) и четырех родовитых бояр.
Все это очень не понравилось матери малыша, двадцатипятилетней энергичной и деловой Елене Глинской.
– Я его родила! Мучилась при родах! – жаловалась она своему сердечному другу князю Иване Овчине Телепневу-Оболенскому. – А как я страдала в постели со своим мужем! Ляжет на меня, придавит так, что не вздохнуть, и начинает пыхтеть в ухо! Все равно, что лежать под бегемотом! Неужели после всего
я не заслужила, чтобы стать регентшей при сыне?
– Полностью с тобой согласен, душечка! – галантно целовал ей ручку Иван Овчина. – Помню, как ты страдала, моя бедняжка! Не волнуйся! У нас с тобой есть верные люди, которые отправят регентов на тот свет!
– Я дышать не могла! Задыхалась под ним! – продолжала возмущаться Елена. —И вот теперь, когда я должна была, по воле Господа, получить награду за свой тяжкий труд, приходят наглые мужики и говорят, что они будут править от имени моего сына. Они что тоже спали с моим мужем?
– Главное – это действовать внезапно, моя царица, пока регенты ничего
не подозревают! Перережем их по одному.
– Ты, Ваня, слишком жесток. Убийство – страшный грех перед Господом! – перекрестилась Елена. – Закуем в оковы, посадим в темницу и не будем кормить. Господь милостив, и как ему будет угодно, так пусть и случится!
– Моя милосердная крошка! Так и хочется тебя съесть! – накинулся на нее Иван Овчина, и любовники предались страсти.
Естественным союзником в борьбе Елены против регентов должен был стать ее дядя, Михаил Глинский, однако он был настолько странным человеком, что неожиданно для племянницы занял противоположную сторону.
– Бесстыдница и проститутка! – кричал он. – Тело Василия Ивановича еще не остыло, а ты уже предалась похабной страсти с князем Иваном Овчинной! Ты позоришь наш род, публичная девка! Тебя надо хорошенько высечь, а потом посадить в темницу на хлеб и воду!
– Ты чего, дядя, умом тронулся? – покрутила пальцем у виска Елена. – Ты гуляешь на свободе только потому, что я попросила за тебя перед своим покойным супругом! Кто тебе эти бояре? Они все тебя ненавидят! Ты для них враг и чужак!
Я же предлагаю тебе войти в свою правительство! Соображаешь, старый пердун?
– Может, мне еще третьим в постель к вам лечь, блудница?! – вопил Михаил Глинский. – Я знаю: многие считают Глинского ненормальным! Пусть! Но я не такой дурак, чтобы поддержать публичную девку и развратницу против лучших людей государства! Я посидел в темнице довольно! Теперь ты посиди, греховная девица!
Это были последние слова, сказанные Глинским на свободе. Его схватили и заточили в темницу в гораздо более худшие условия, чем он сидел при Василии Ивановиче. Оскорбленная племянница запретила кормить его, и вскоре бедный дядя умер от голода.
Надо отметить, что переворот Елены Глинской был проведен идеально, как по его организации, так и по исполнению. Иван Овчина показал себя смелым и расторопным путчистом.
Членов регентского совета хватали по одному. Первым был арестован брат покойного великого князя, Юрий Иванович.
– Как вы смеете прикасаться ко мне? Руки прочь! Во мне течет кровь моего отца, Государя Ивана Третьего! – кричал он, когда его вязали люди Овчины.
С другим братом, Андреем, пришлось повозиться. Он жил в удельном княжестве в Старице, где окружил себя войсками и телохранителями,
и ни за что не хотел ехать в Москву. Князь Иван Овчина решил применить военную хитрость. Он направил письмо, в котором среди многочисленных комплиментов и уверений в дружбе писал:
«Маленький наследник очень скучает по вам, Андрей Иванович. Каждый день, едва протерев глаза, он плачет и спрашивает, где его любимый дядя Андрюша?! Он так любит вас, а вы совершенно забросили его!
Как вам только не стыдно, Андрей Иванович.
Сердце мое разрывается, глядя на детские слезы. Я даю вам честное рыцарское слово, что ни один волос не упадет с вашей головы в Москве. Приезжайте!
Р.S. Умоляю, не забудьте порадовать малыша гостинцем».
Дядя Андрей купился и приехал в гости к племяннику, где был тут же схвачен и заточен в темницу.
– Как же ваше честное слово, князь? – уже избитый и закованный в оковы обращался он к Овчине.
– Мое слово крепко и нерушимо! – объявил тот. – Я – рыцарь, и свое слово привык держать! Я его никогда не нарушал и впредь нарушать не намерен!
Вы, Андрей Иванович, схвачены не по моему приказу! Как вы могли подумать такое? Вас арестовали по указанию великой княгини, Елены Глинского. Ее слово, увы, сильнее моего! В этой ситуации я, к сожалению, бессилен и ничем вам помочь не могу!
Оба дяди великого князя по отцу разделили судьбу Михаила Глинского и умерли в тюрьме от голода. В заключение также бросили других менее знатных членов регентского совета.
Елена Глинская, устранив конкурентов, энергично взялась за дела, став одной из немногих русских правительниц, женщин.
Для начала она сразу решила показать, что ничем не отличается от своих предшественников-мужчин и начала (точнее, продолжила) войну с Литвой.
Литовский великий князь и польский король Сигизмунд очень обрадовался кончине Василия. После его похорон он решил, что настала пора действовать и предъявил Елене Глинской ультиматум, требуя вернуть Смоленск и другие земли, захваченные при Василии Ивановиче.
– Прекрасно! – обрадовалась в свою очередь Елена Глинская. – У нас тут некоторые считают, что баба не годится для престола. Я им всем покажу, кто из нас баба!
В 1534 году литовские войска перешли границу, однако не смогли взять ни Смоленск, ни Чернигов. В феврале следующего 1535 году русские войска нанесли ответный контрудар, но не стали возиться с крепостями противника, предпочитая пограбить его обширные сельские территории. Мстя за свои убытки, литовские феодалы летом 1535 года захватили Стародуб, где истребили всех жителей (около тринадцати тысяч человек).
После этих событий Сигизмунд полностью разочаровался в войне.
– Свяжешься с бабой, а потом сам не рад будешь! – ворчал он. – Вместо того, чтобы штурмовать крепости или биться в чистом поле, она тебе
по-тихому будет гадить! Извела мне, зараза, весь урожай! Ограбила моих селян, бесстыжая баба! Бог с ней! Зато я убил всех жителей Стародуба. Считай, мы квиты! Будем мириться!
В феврале 1537 года стороны заключили перемирие.
Как всякая порядочная женщина, Елена Глинская, очень любила деньги. Поэтому самое значительное, что она сделала, это денежная реформа. Фактически именно она впервые ввела в русском государстве единую валюту – «денгу», рубли и копейки (ранее монеты делали во многих уделах и частях страны). Благодаря этому резко активизировалась торговля, что в свою очередь привело к наполнению казны государства. Отметим, что на протяжении многих последующих веков денежная система, созданная Еленой Глинской, претерпевала лишь косметические изменения.
С каждым годом Глинская все больше раскрывала свои таланты и потенциал, и неизвестно каких бы высот достигла мысль этой женщины, если бы ее
не отравили в апреле 1538 года в тридцатилетнем возрасте.
– Сучка борзая у нас завелась! – ворчал князь Василий Шуйский. – Кто она такая? Беженка из Литвы! Голь перекатная, а туда же лезет! Я веду свой род от брата Александра Невского, Андрея Ярославича. Мой род один из первых на Руси будет,
но я никаких денежных реформ не выдумываю! А кто был ее предком? Уверен, что какой-то трубочист!
– Правильно говоришь! Давно пора поставить ее на место! – поддержал его брат Иван Шуйский. – Мы с тобой принцы крови, а нам в голову даже
не пришло вводить единую деньгу! Куда катимся?
На очередном роскошном пиру в Кремле бояре, рассыпаясь в славословии, в знак преданности преподнесли Елене Глинской фаршированную ртутью рыбу, попробовав которую она скончалась.
Иван Овчина сразу понял, что смерть его возлюбленной не лучшим образом отобразится на его собственной судьбе, и решил найти защиту в покоях малолетнего Государя (воспитательница семилетнего Ивана Васильевича, Агриппина Челяднина, была его сестрой). Неделю после смерти Елены он просидел в спальне малыша, играясь с ним и читая веселые книжки, в надежде, что там его не посмеют арестовать. На седьмой день в комнаты юного Государя ворвались вооруженные люди и, несмотря на его детские крики и плач, скрутили и навсегда увели в неизвестном направлении и Ивана Овчину, и Агриппину Челяднину.
На этих событиях закончилось детство Ивана Васильевича, который сразу повзрослел, и в семь лет почувствовал себя одиноким и несчастным маленьким мужчиной.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ИНТРИГИ ПРИ ДВОРЕ. ПРАВЛЕНИЕ ИВАНА ШУЙСКОГО, ЕГО ОПАЛА И ПУТЧ 1542 ГОДА
Тем временем, русские люди с любопытством ожидали узнать, кому была выгодна смерть Елены Глинской, и кто, соответственно, окажется в роли нового правителя государства. Вскоре их любопытство было удовлетворено: новыми властителями стали два брата Шуйских: Василий и Иван.
Они (на первых порах первенство принадлежало Василию) стали повсюду расставлять своих людей и немилосердно грабить казну государства. К соперникам своего клана Шуйские относились без всякого пиетета, пачками арестовывая их
и бросая в темницы.
Вскоре, однако, недоброжелатели из придворной среды в свою очередь отравили Василия Шуйского. Подозрение в этом деле сразу пало на митрополита Даниила и боярина Ивана Бельского, которые еще раньше были замечены в том, что бегали к малолетнему Ивану и жаловались на притеснения
со стороны клана Шуйских.
По приказу Ивана Шуйского митрополита Даниила сослали в монастырь, заставив перед этим отречься от должности, а Ивана Бельского решили уморить в тюрьме.
Надо отметить, что в целом поведение Ивана Шуйского не отличалась логичностью. С одной стороны, он почему-то стал считать себя чуть ли не царем,
а с другой жестоко грабил царскую казну и при всяком удобном случае наносил вред государству.
– Я – главный человек на Руси! – любил говорить он, расположившись рядом с троном и положив на него ноги в сапогах. – Иван Васильевич мал и хлипок здоровьем, того и гляди загнется. Его младший брат, Юрий, ненормальный дурачок. Наш род Шуйских самый знатный на Руси. Поэтому я здесь всем правлю и так будет во веки веков! Даже, если случится, что Иван Васильевич вдруг подрастет, все равно правителем останусь я, ибо финансы государства и армия в моих руках (я об этом позаботился). Без казны никто ему служить не будет! Мое дело в шляпе! Целуйте мои сапоги!
Однако Шуйский был настолько неприятной личностью, что вызывал у окружающих стойкое отвращение. Даже поставленный им новый митрополит Иоасаф неожиданно примкнул к его недоброжелателям и точно так же, как его предшественник, стал ходить к юному государю (митрополиты имели права свободного прохода в его покои) и жаловаться на произвол своего покровителя.
Шуйский, узнав от своих шпионов, что новый митрополит оказался ничем не лучше старого, так расстроился, что перестал участвовать в делах и посещать Боярскую думу.
– Пусть они посмотрят, как жить без меня! Скоро им придется не сладко, и они все во главе с предателем Иоасафом приползут ко мне на коленях! – улыбался он своим мыслям.
Однако в реальности вышло совершенно по-другому.
Бояре в Думе только обрадовались отсутствию Ивана Шуйского, и стали спокойно править без него. Вскоре была проведена широкая политическая амнистия, в том числе из тюрьмы вышел заклятый враг клана Шуйских, Иван Бельский, который тут же занял свое место в Боярской думе. Следом, посыпались наместники Шуйского, которых одного за другим стали уличать во взяточничестве и воровстве (часть наворованного они передавали своему патрону). Специальная боярская комиссия стала расследовать состояние финансов государства. Видя, что дело принимает нешуточный для него оборот, Шуйский перестал улыбаться и поспешил бежать из столицы.
Тогда же в 1540 году Крымский хан Сагиб-Гирей, услышав печальные вести из Москвы про правление Ивана Шуйского, решил воспользоваться моментом. Он дошел до Оки, однако, увидев противостоящее ему огромное русское войско, раздраженно стал вопить на своих московских шпионов:
– Вы уверяли меня, что казнокрад Шуйский так ограбил московскую казну, что у русских нет денег на войско!? А это что такое?
– Шуйский ушел в отставку. Теперь у них за главного Иван Бельский! Честный человек и прекрасный полководец! – грустно доложили шпионы.
– Собираешься, готовишься, едешь к черту на куличики, а оказывается все в пустую! – тяжко вздохнул Сагиб-Гирей и дал приказ к отступлению.
Тем временем, Иван Шуйский лег на дно, но вовсе не думал сдаваться.
– Меня жестоко унизили и оскорбили! – ворчал он. – Уходя в отставку,
я надеялся, что у бояр есть совесть, и они сами приползут ко мне на коленях умолять вернуться! Но люди такие подлецы, что стоит им несколько дней не показываться на глаза, как они сразу забывают о тебе. Ничего! Я им о себе напомню!
Второго января 1542 года в Москвы неожиданно ворвались вооруженные люди и стали захватывать государственные учреждения, казармы и дворцы знати. Все произошло так неожиданно, что путчисты не встретили никакого сопротивления. Одним из первых был убит фактический глава правительства Иван Бельский. Митрополит Иоасаф попытался укрыться в спальне Государя, однако путчисты бесцеремонно вломились туда, избили на глазах изумленного монарха главу церкви, связали его и отправили под конвоем в монастырь.
Иван Шуйский вновь занял свое место в Боярской думе и, как ни в чем не бывало, стал править по-прежнему. Такая наглость шокировало многих.
– Двух митрополитов сверг, честного Бельского убил, расставил повсюду грабителей и воров! – возмущались между собой бояре. – Есть у него совесть или нет?!
В свою очередь Шуйский, ловя на себе ежедневно косые взгляды, тоже
не радовался жизни.
– Никто меня не понимает! – вздыхал он. – Бедный я человек! Ничего! Я им еще покажу! Я таких людей поставлю во главе государства, что все взвоют и приползут ко мне на коленях умолять, чтобы я ими правил!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПРАВЛЕНИЕ ТРЕХ КРОВОПИЙЦ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ВЗРОСЛЕНИЕ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА
Неожиданно для всех вскоре после успеха своего путча Иван Шуйский повторно отрекся от власти и ушел в отставку, передав рычаги управления страной своим ближайшим родственникам: Андрею и Ивану Михайловичам Шуйским и Федору Скопину («трем кровопийцам», как их тут же прозвали в народе). Если их родственник был вором и наглецом, то эта троица по масштабам грабежа государства и по своей наглости превосходила его как минимум втрое.
Особенно наглым был Андрей Михайлович. Он не только вел себя по-хамски, материл всех вокруг, включая дам, но и часто пускал в ход кулаки, не разбирая кто перед ним стоит: простолюдин или аристократ.
Однажды ему чем-то не угодил тогдашний любимец Ивана Васильевича, Федор Воронцов. Андрей Михайлович со своими дружками налетел на него прямо вовремя заседания Боярской думы и на глазах у царя стал жестоко избивать ногами.
– Что вы делаете, господа? – вопил перепуганный Иван Васильевич. —Прекратите зверство! Семеро на одного нечестно! Как вам не стыдно? Господа!!!
– Молчи, сопляк, а то сам огребешь! – войдя в раж, лупил Андрей Михайлович несчастную жертву.
– Остановите же его кто-нибудь! Он же его убьет!!! – тщетно взывал юный монарх.
Однако никто не решился вмешаться в драку.
Прибежав к себе в спальню, Иван Васильевич упал лицом в подушку и горько разрыдался, но вскоре взял себя в руки. Ему было уже тринадцать лет. По меркам средневековья это был вполне себе взрослый возраст, когда приходила пора брать ответственность на себя и начинать самостоятельную жизнь.
На следующий день царь сделал вид, что ничего не произошло, очень любезно поговорил с Андреем Михайловичем, после чего отправился в длительную поездку на богомолье по подмосковным монастырям (сентябрь 1543 года).
– Видали, как он меня зассал! Сразу от страха молиться уехал! – хвастался Андрей Михайлович. – Я же вам говорил, что он – слабак и интеллигент!
Иван Васильевич вернулся с богомолья в конце декабря, весело отпраздновал рождество, после чего пригласил к себе бояр продолжить попойку. Однако вместо угощения вельмож ожидала строгая речь монарха, которую они заслушали
в окружении военных и рвущихся с поводка собак крупных пород (их перед этим несколько дней не кормили).
– Я буду краток! Правили вы, бояре, плохо! Даже очень плохо! Много воровали и обижали народ. Как-нибудь мы с вами поговорим об этом подробнее! Сейчас, извините, я не могу долго распространяться, поскольку мои собачки еще не кушали! Обрадую вас! По христианскому милосердию своему
и доброте душевной, я пока не буду наказывать вас за злодеяния, которые вы совершили, кроме самого наглого – Андрея Шуйского! Он ответит за всех!
Изумленные и испуганные бояре безмолвно смотрели, как их коллегу схватили, выволокли на улицу и отдали на съедение собакам, которые разорвали его на части в несколько секунд, так что он даже не успел удивиться.
– Однако, Иван Васильевич похоже повзрослел! – озабоченно рассуждали бояре, расходясь по домам.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЖЕНИТЬБА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА И ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО. НЕВИДАННЫЕ ПОЖАРЫ И БУНТ В МОСКВЕ.
Зимой 1547 года в жизни семнадцатилетнего Ивана Васильевича произошло сразу два выдающихся события: в январе он венчался на царство, а в феврале женился на Анастасии Романовне Захарьевой-Юрьевой, которую выбрал на очередном конкурсе русских красавиц (в отличии от своего отца он лично проводил туры, давал задания, выставлял оценки и выбирал победительницу).
За всю историю Руси до него на царство был венчан только Дмитрий Иванович, другой внук Ивана Третьего. Однако первый блин вышел комом,
и Дмитрий окончил свою жизнь в темнице в двадцать семь лет (об этом мы рассказали в книге «Создание русского государства»).
Иван Васильевич не испугался судьбы своего предшественника и решил повторить обряд.
Буквально через полгода он чуть было не пожалел об этом.
С апреля в Москве начались невиданно сильные пожары. 21 июня запылал весь центр столицы, и царь с юной женой эвакуировались в подмосковное село Воробьево. 24 июня вспыхнул Кремль. Большая часть города сгорела, в огне погибло около двух тысяч человек. Москвичи, потеряв жилье и бизнес-офисы, бродили по городу, как пришибленные, не зная кому сказать спасибо.
Надо отметить, что после устранения клана Шуйских в большую силу при дворе вошли Глинские, родственники молодого царя по матери (его бабка и дяди). Однако после женитьбы Ивана Васильевичу конкуренцию им составил клан родственников его жены, Захарьевы-Юрьевы (будущие Романовы).
Последние решили воспользоваться ситуацией и через своих людей быстро распространили в народе слух, что город подожгли Глинские. Несмотря на всю нелепость этого слуха, убитые горем москвичи тут же ее подхватили, обрадовавшись, что найдены виновники их бед.
– Бабка царя Анна Глинская и его дядя Юрий сожгли наш любимый город! – негодовали они, сжимая кулаки.
Здравомыслящие люди, которые пытались поинтересоваться, где доказательства их вины, тут же были жестоко избиты.
В это время дядя царя, Юрий Глинский, ничего не подозревая, прогуливался по Кремлевской площади, интересуясь, что сгорело (он владел многочисленными домами и лавками в Москве).
Неожиданно его окружила агрессивная толпа.
– Добрый день, господа! – приподнял шляпу Глинский. – Какой кошмар! Настоящая трагедия! Гибель Помпеи! Чудовищная трагедия!
– Ты Глинский? – строго смотрели на него москвичи.
– А почему вас, собственно, это интересует? Разве мы знакомы?
– Ты еще спрашиваешь? Ты мой дом спалил, нехристь! – завопил один из мужиков.
– Что вы с ним разговариваете? Убейте его! Он моих детей сжег заживо! – завизжала какая-то женщина.
– Я?! – открыл рот от изумления Глинский. – Вы с ума сошли? Я – дядя нашего царя! Какой дом? У меня у самого три шикарных дома сгорело и семнадцать лавок, оформленных на подставных лиц!
– Смерть ему! Смерть олигарху! – орала разъяренная толпа.
– Смотрите! – Глинский показал куда-то вдаль рукой и, воспользовавшись секундным замешательством, бросился бежать.
Догнали его только в церкви Успения, где и забили до смерти. После этого москвичи пошли грабить поместья Глинских, убивая всех на своем пути.
Услышав о гибели дяди и московских погромах молодой царь пришел в замешательство.
– Нет ничего ужасней неуправляемой толпы! Самые страшные вещи в мире происходит от людских мятежей и народной демократии! – держался он за голову.
Однако Захарьевы-Юрьевы, устранив Глинских и напугав царя, рано праздновали победу. Совершенно неожиданно в игру вмешалась третья сила.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЗНАКОМСТВО ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА С ПОПОМ СИЛЬВЕСТРОМ.
Бедный ничем не примечательный новгородский священник Сильвестр, находясь в это время в Москве, смекнул, что настал его час, взял посох и отправился пешком в царскую резиденцию в село Воробьево.
Иван Васильевич с тоской смотрел на дорогу, ожидая с минуты на минуту появление разъяренной толпы, как вдруг увидел бредущего седого длинноволосого священника, который одной рукой опирался на посох, а другую поднял указательным перстом вверх.
– Пророк какой-то идет! – струхнул царь. – Похоже, все-таки наступил конец света!
– Опомнись, царь! Ты прекрасен умом, но слишком легкомысленный! – закричал, едва увидев его священник. – Ты попадешь в великую беду, если не будешь слушаться меня! Московские пожары – это тебе знак, что терпение Господа на исходе!
– Ты кто такой, старец? – с некоторым испугом закричал в ответ Иван Васильевич. Он был в то время очень религиозен и вид священника, появившегося еще при таких грозных обстоятельствах, произвел на него глубокое впечатление.
– Я поп Сильвестр! Огонь небесный испепелил Москву за наши грехи!
Я пришел спасти твое царство!
– Слава Господу! Это еще не конец света! – облегченно перекрестился царь и велел охране пустить к себе нового знакомого.
Иван Васильевич и поп Сильвестр уединились вдвоем в покоях государя
и не выходили несколько часов. Придворные и бояре не знали, что и подумать. Некоторые из них, опасаясь за жизнь царя, предлагали даже ворваться в его спальню, однако большинство настояло на том, чтобы терпеливо ждать развязки.
Вышли царь и поп к людям вместе, держась за руки, как самые близкие люди. Все боярские кланы были в шоке, а особенно Захарьины-Юрьевы (будущие Романовы).
– Я старался, поджигал, рисковал жизнью и свободой, а тут приходит какой-то никому неизвестный поп и прямо из-под носа уводит у меня царя! – переживал шурин царя Никита Романович Захарьин-Юрьев. – Есть справедливость на этом свете?!
Вскоре под окнами резиденции действительно появились погромщики, однако, увидев Государя, повалились на колени. Иван Васильевич в свою очередь объявил им милость, обещав за свой счет восстановить сгоревшие дома и торговые лавки. Бунтовщики угомонились и отправились в обратный путь, громко славя царя (впоследствии все зачинщики бунта были вычислены и арестованы).
После такого счастливого окончания восстания, Иван Васильевич проникся уважением и доверием к Сильвестру, который все это тревожное время не отходил от него ни на шаг, громко молясь и призывая Господа в защиту.
Новый фаворит царя стал его духовником и особо приближенным лицом. Вокруг него сформировалась команда, куда вошли: бедный костромской дворянин Алексей Адашев, князь Андрей Курбский и митрополит Макарий. Последний раньше был особо доверенным человеком Ивана Шуйского, которого тот поставил на должность, однако после падения своего шефа не только избежал опалы,
но, моментально переобувшись в воздухе, стал активным членом нового правительства.
Целые дни царь и его любимый поп Сильвестр проводили вместе, обсуждая, как государственные вопросы, так и личные проблемы Ивана Васильевича.
Однажды между ними произошел очередной судьбоносный разговор.
– Как думаешь, поп Сильвестр, что мне следует сделать, чтобы не допускать восстаний и других эксцессов в будущем? Очень уж мне эти народные мятежи не по нутру! Пугают своей непредсказуемостью.
– Ты Иван Васильевич, как я тебе не раз говорил, очень умный человек! – перекрестил его поп. – У тебя прекрасная душа, которая стремится познать Господа, и великое добродетельное сердце. Но ты слишком легкомыслен, зачастую суетлив и, уж извини, но, как я успел заметить, очень любишь приложиться к алкогольным напиткам. Сейчас только десять утра, а от тебя уже пахнет водкой.
А помнишь, как ты вчера напился и стал тащить меня на медвежью охоту? Как ты себе это представлял? Я уже немолодой человек в рясе и тоже не вполне трезвый буду бегать ночью по лесу искать медведей? А позавчера ты, женатый мужчина, пытался вызвать к нам блудниц, и мне пришлось на коленях умолять тебя не делать этого и несколько раз пить с тобой на брудершафт!
– Я не знаю, почему я такой! – тяжко вздыхал Иван Васильевич. – Во мне будто живут два разных человека. Один стремится познать божественные истины, ненавидит грешить, обожает свою жену, хочет делать людям добро, мечтает защитить бедных и посвятить себя строительству великой русской православной державы – божьего царствования на Земле. Другой же человек каждую минуту требует блуда и пьянства, а мечтает только об одном: убить как можно больше людей!
– Понимаю тебя, сын мой! Ты – человек талантливый, а талантливого человека много разных мыслей в голове, как хороших, так, увы, дурных. Да и дьявол не дремлет и более всего хочет соблазнить лучших из людей!
– Что же мне делать? Я ведь так реально могу поубивать кучу народа!
– Все это происходит от твоей неорганизованности и отсутствия надлежащего руководства! Я составлю тебе расписание дня, которое ты должен строго выполнять. Поверь, пройдет несколько лет, и ты думать забудешь о блуде, попойках и убийствах! Лет через десять ты сам себе будешь удивляться, что когда-то тянулся к бутылке!
– Прекрасно! – обрадовался Иван Васильевич. – Составляй расписание.
– Первые дни тебе придется очень тяжело! – предупредил Сильвестр. – Ты
привык долго валяться по утрам в постели, а день начинать с крепкой дозы алкоголя и продолжать его в том же духе. Зато, когда ты свыкнешься со здоровым образом жизни, ты другого уже не пожелаешь. Скоро ты увидишь, как твоя душа очистится от скверны, а тело нальется силой! Ты будешь не царь, а супер-царь! Могучий телом, добрый сердцем, великий умом, с миром в душе, обожаемый своими подданными и ужасающий врагов, которые будут трепетать от одного имени твоего! Хочешь?
– Конечно, хочу! Еще спрашиваешь! Мне уже не терпится жить по твоему расписанию!
– Тогда помолимся за успех нашего дела! – Сильвестр и Иван Васильевич упали на колени и приступили к молитве.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАСПИСАНИЕ ДНЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА. ЗЕМСКОЙ И СТОГЛАВЫЙ СОБОРЫ. ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАЗАНИ И АСТРАХАНИ
Скоро на стол царя лег документ, составленный Сильвестром, и Иван Васильевич приступил к его реализации. Вот он:
РАСПИСАНИЕ ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, СОСТАВЛЕННОЕ ЕГО ДУХОВНИКОМ ПОПОМ СИЛЬВЕСТРОМ
– 05.00. – подъем;
– 05.05—05.15 – умывание;
– О5.20 – 06.20 – зарядка и поднятие тяжестей;
– 06.25—07.25 – утренняя молитва;
– 07.30.-07.55 – завтрак (три вареных яйца или творог с киселем);
– 08.00.-10.00. – поучения отца Сильвестра;
– 10.05.-10.55. – пробежка вокруг Кремля с Алексеем Адашевым (в плохую погоду допускается бег внутри Кремля);
– 11.00.-12.30. – работа с государственными документами и прием должностных лиц;
– 12.35.-13.00. – обед (щи или суп, мясо или рыба с кашей, безалкогольные напитки, сладкое). Во время поста – каша на воде;
– 13.10.-14.30 – заседание Боярской думы или принятие чужестранных послов;
– 14.40.-15.40. – занятия спортом (летом – плавание в Москве-реке, зимой – кросс на лыжах);
– 15.45.– 16.15. – дневная молитва;
– 16.20.-17.20. – чтение душеспасительных книг с отцом Сильвестром;
– 17.25.-18.25. – свободное время (прогулка на свежем воздухе);
– 18.30.-18.40. – полдник (сладкая булочка и стакан молока);
– 18.45.– 19.45. – лекция отца Сильвестра о международном положении;
– 19.50.-20.40 – подвижные игры (по средам и субботам баня);
– 20.45.-21.05. – ужин (вареная рыба без специй или гречневая каша или манная каша или пшенная каша);
– 21.10.-22.00. – проповедь отца Сильвестра о спасении души;
– 22.05.-22.35. (или 22.45. в зависимости от обстоятельств) – общение с женой (секс);
– 22.40.– 23.10. – вечерняя молитва;
– 23.15.-23.55. – исповедь в грехах, совершенных за день, перед отцом Сильвестром (при наложении епитимьи отец Сильвестр может в качестве наказания отменить на определенный промежуток времени подвижные игры, баню (пункт 17) и (или) общение с женой (пункт 20);
– 24.00. – отход ко сну.
К великому удивлению бояр и всех, кто знал Ивана Васильевича раньше, царь с этого времени совершенно переменился. Он перестал пить, блудить, занялся физкультурой и самообразованием. По нему теперь москвичи могли сверять часы. Если царь бежит вокруг Кремля – это одиннадцатый час утра, если плавает в реке, значит где-то около трех дня, а если пошел в баню, то это среда или суббота ровно без десяти восемь вечера. Любой алкоголик, потерявшись во времени, первым делом бежал к Кремлю и ждал там появление государя.
Переменился царь и внешне. Из хрупкого интеллигентного подростка он превратился в накаченного мускулистого мужчину.
Сразу после перемены царем образа жизни пошли в гору государственные дела.
В феврале 1549 года Иван Васильевич собрал в Москве первый Земской собор, вошедший в историю, как собор примирения. Выступая на нем, царь в яркой речи заявил об окончании с этого момента воровства и взяточничества чиновников, заявил о решимости соблюдать законность и правопорядок. Чтобы его слова
Tasuta katkend on lõppenud.