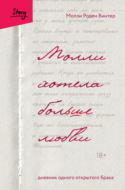Loe raamatut: «Сундучок, полный любви История о хрупкости жизни и силе бескрайней любви»
Кристине, Питеру и Джейми.
И всем тем, кто помогал нашей семье выживать.

Genevieve Kingston
Did I Ever Tell You?: A Memoir
Copyright © 2024 by Genevieve Kingston
Перевод с английского Э. Мельник

© Мельник Э., перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Когда мне было три года, моя мать узнала, что у нее агрессивная форма рака груди. Каждый день она часами сидела за обеденным столом, стянув темные волосы в хвост, окруженная стопками бумажных листов, покрытых плотными параграфами сухого научного текста. Я наблюдала, подкравшись к кухонному порогу, как она изучала все доступные виды лечения: конвенциональное, альтернативное, молитвенное…
Следующие четыре года мама консультировалась с терапевтами, специалистами, гомеопатами и целителями. Хирург удалил раковую опухоль из ее тела. Она придерживалась строгих диет и глотала горы таблеток, накачивала тело химиотерапией и морковным соком. Она всегда искала способ выжить.
Когда мне было семь, натюрморт на обеденном столе начал меняться. Оберточная бумага и ленты заняли место страниц с выделенными маркером словами, а мамины руки упорно трудились под низко склоненным темным ежиком ее коротко стриженной головы. Ножницы с хрустом бороздили подарочную обертку. Бумага складывалась под ее пальцами. Лента нужной длины отхватывалась одним щелчком. С тихим скрипом завязывались узлы. Хруст, сминание, щелчок, скрип. Мама начала собирать два сундучка подарков: один для моего старшего брата Джейми, а другой для меня.
Туда укладывались подарки и письма к тем серьезным событийным вехам нашей жизни, которые ей суждено было пропустить: получение водительских лицензий, вручение дипломов, каждый из наших дней рождения вплоть до тридцатилетия. Когда сундучки заполнились доверху, отец отнес их в наши комнаты.
Каждый раз, открывая его, я могла жить в нашей общей реальности, той, которую она вообразила для нас много лет назад. Словно полузабытый аромат или первые ноты знакомой песни – каждый раз крохотный проблеск ее присутствия.
Многие годы после ее смерти розовый картонный сундучок стоял на полу моей детской спальни. Я открывала его крышку, чтобы провести пальцами по рядам аккуратно упакованных свертков, каждый – с подвешенной к нему на тонкой, завивающейся серпантином ленточке открыткой. Конверты, распухшие от печатных страниц, были четко подписаны красивым маминым почерком – приглашения, завернутые в предостережение: ни один не следовало вскрывать до обозначенного времени. В те времена сундучок был таким тяжелым, что я не могла его поднять.
За последние двадцать лет он пропутешествовал со мной по всему континенту, переезжая из штата в штат, из квартиры в квартиру, неизменно оставаясь первой вещью, для которой я находила место, когда от порога отъезжал грузовик компании-перевозчика. Он жил под кроватями и у задних стенок шкафов; я всегда инстинктивно старалась защитить его. Припрятать. Каждый год этот сундучок становился чуть легче.
Теперь внутри остались только три предмета.
Часть первая
То, чего я всегда страшилась, случилось вечером в среду. Я смотрела, как Джейми играет в «Варкрафт». Мне нравилось наблюдать, как брат играет в компьютерные игры; так мое присутствие меньше всего его напрягало. Я могла долго быть рядом, смотреть на сосредоточенно наклоненную темноволосую голову, ощущать его концентрацию, подобную лазерному лучу, обонять успокаивающий мальчишеский запах, и он не гнал меня прочь. Он сражался с бандой орков, вооруженных широкими мечами, в то время как корявенько прорисованные цифровые овечки наблюдали за битвой с краев экрана. Джейми веселил меня, кликая по овечке, чтобы заставить ее проговорить «Баа-ран ты!». Потом еще раз кликал по ней, чтобы она взорвалась. Отец зашел в комнату и сказал, что мы должны подняться на второй этаж.
У Джейми был несохраненный опыт, и он не хотел прекращать игру.
– Еще минутку, – ответил он, замахиваясь на очередного пиксельного орка.
Отец мягко взял его за руку.
– Идем, – повторил он, произнося плавные, округлые гласные со своим британским акцентом, несколько поистершимся после более чем двадцати лет жизни в Калифорнии.
– Да подожди же ты!.. – и Джейми вывернулся, дернув плечом.
После того как брат сохранил игру, мы пошли вслед за отцом вверх по застеленной серым ковролином лестнице в мамину спальню. Я не сразу осознала увиденное, хотя представляла это много раз.
Она лежала все там же, где лежала не один месяц, на больничной койке, которую мы установили в ее комнате. Дождь барабанил в окна. Я медленно вытянула вперед руку. Я не испугалась, но более подходящего слова, чем испуг, не подберу. Прикоснуться к ней сейчас значило прикоснуться к тайне. Она еще не была холодной, хотя источник тепла исчез. Оставшееся было эхом, отзвуком. Словно воспоминание об ожоге. Я посмотрела на Джейми, и меня словно ударили под дых. Он опустился на колени перед койкой и, протянув руки, стал касаться разных частей ее тела – ноги́, руки́, щеки́ – словно что-то искал. Потом мягко оттянул кверху одно ее веко.
– Ты пытаешься сделать что-то, чтобы она выглядела более живой? – спросила я.
Брат покачал головой, прижался щекой к ее животу и зарыдал. Я не плакала. Я делала это не один год, а теперь, казалось, иссохла изнутри. Какая-то часть меня ощущала облегчение. Я так устала бояться!
Отец поднял тело матери и на руках отнес в свою спальню, ту, которая раньше была их общей, чтобы в этой убрать капельницы и другое медицинское оборудование. Я поразилась его физической силе: никогда не видела, чтобы он носил ее на руках, пока она была жива. Теперь женщины из нашей семьи омоют и оденут тело. Мама рассказывала, как это будет. Это ритуал, который она исполнила для своей матери и просила впоследствии исполнить для нее. Сестра мамы, Антуанетта, кузина Сэнди и их подруга Собонфу позвали меня в комнату. Так в свои одиннадцать лет, включенная в их круг, я узнала, что я женщина.
Мы сняли с мамы просторную футболку с прорезью на спине. К этому времени она носила только такие – их легко натягивать и снимать, не садясь. На этой была картинка: утка, приклеенная к стене клейкой лентой, и надпись: Дактейп1. Она лежала на постели, обнаженная, похожая не столько на мою мать, сколько на летопись того, что с ней делали. Левая грудь была изуродовала длинным горизонтальным шрамом, сосок отсутствовал. Еще один длинный шрам спускался вдоль позвоночника – след хирургической операции для восстановления сломанной спины. Пластиковый медицинский порт выпирал маленьким холмиком под кожей грудной клетки. Лицо и тело отекли от стероидов. Волосы были короткими – результат последнего раунда химиотерапии, – и едва заметные шрамики виднелись на лбу, где некогда в череп ввинчивался металлический обод для лечения рака, который распространился в ее мозг. Как дорожная карта, подумалось мне. Только я не знала место назначения.
Кто-то наполнил водой таз. Мы макали в него тряпки и обтирали ее кожу. Теперь она стала холоднее, теряя тепло с каждой минутой. Я поборола импульсивное желание прикрыть ее, лечь сверху, – хоть ненадолго сохранить это тепло. Время мчалось стремительно. Оно утекало между пальцами, точно вода, как бы я ни старалась растянуть секунды.
Я заметила на ее груди родинку и постаралась точно запомнить форму и расположение. Заметила легкие растяжки, наметившиеся вокруг грудей и живота, оставшиеся на память от двух беременностей. Заметила легкую ребристость ногтей и глубокие линии на ладонях – и пожалела, что не умею их читать. Может, они рассказывали историю с другим концом. Светящийся зеленый дисплей цифрового будильника зацепился за мой взгляд: было десять вечера среды. Мы в это время должны были смотреть «Звездный путь».
Мать была худощавой темноволосой девочкой-подростком, когда по телевизору впервые показывали оригинальный сериал «Звездный путь». Мне представляется, что, как и многие девочки ее возраста, она была слегка влюблена в капитана Кирка, которого играл молодой Уильям Шетнер. Когда в конце восьмидесятых на экраны вышел сиквел сериала, «Следующее поколение», наша семья смотрела его с прямо-таки религиозным рвением. Сколько я себя помню, мы вчетвером усаживались на потертый коричневый диван из искусственной кожи, когда слова «космос, последняя граница», произносимые шекспировским баритоном Патрика Стюарта, рокотали из черного валуна нашего телевизора. Эти слова подавали сигнал, что весь следующий час я буду благополучно окружена своей семьей. Моим любимым персонажем сериала была корабельный советник Дианна Трой, и я мечтала, что однажды моя прямая грязновато-русая челка трансформируется в ее великолепную копну полуночно-черных кудрей.
Этот сериал открыл мне и новую концепцию времени. В «Звездном пути» время было тем, что можно изменять, переделывать, придавать форму. Если бы «Энтерпрайз» взорвался, знала я, кому-то пришлось бы вернуться назад во времени, чтобы починить его. Тысячу раз в воображении я проникала сквозь наслоения времени в тот момент, когда в мамином теле зародился рак, и выдирала его раньше, чем он успевал пустить корни.
После того как на экраны вышла последняя серия «Следующего поколения», мама начала позволять мне поздно ложиться спать по средам, чтобы я могла смотреть с ней «Звездный путь: Вояджер». Обожание, которое я питала к капитану звездолета «Вояджер» Кэтрин Джейнвэй, затмило все чувства, что вызывала Дианна Трой. Звездолет Джейнвэй затерялся в далеком квадранте галактики, забросив ее команду за тысячи световых лет от дома. «Вояджер» был сагой о ностальгии, а я испытывала ностальгию столько, сколько себя помнила, и не просто по какому-то месту или человеку, а по миру, в котором моя мать не собиралась умирать. И у капитана Джейнвэй были прямые грязновато-русые волосы.
Среду за средой мы смотрели, как команда звездолета блистает мастерством в квадранте Дельта и преодолевает очередное препятствие в путешествии, которое должно было занять больше семидесяти лет. Поначалу мы с мамой смотрели сериал, сидя вместе на диване. Потом сидя бок о бок на ее больничной койке. И, наконец, когда она уже больше не приходила в сознание, я смотрела его, сидя рядом и держа ее за руку. Она не дожила трех месяцев до заключительной серии.
Так что в десять вечера в среду, 7 февраля 2001 года, я обмывала тело матери и жалела, что не могу включить «Звездный путь». Я заглядывала в лица других женщин и понимала, что никогда не смогу объяснить, почему хочу включить телевизор. Почему хочу еще раз посидеть с мамой в тот момент, когда начальные титры освещают огнями сверхновых звезд и варп-двигателей наши лица. Почему мне в этот момент особенно необходимо знать, что некоторые вещи остаются неизменными. Почему я жажду другого понимания времени. Я никогда не смогла бы объяснить, что все мы – и я, и моя мать, и капитан Джейнвэй, и «Вояджер» – были вместе много лет в этом возвращении домой, которое, как мы знали, может продлиться всю жизнь.
Десять дней спустя мне исполнилось двенадцать.
Я проснулась в доме, где царствовала тишина, и, как все предыдущие десять раз по утрам, засомневалась, не привиделось ли мне это все. Может, если я открою дверь и дойду по застланному серым ковролином коридору до соседней комнаты, то увижу ее, лежащую там, с капающими капельницами, с гудящими механизмами, с дыханием, шевелящим воздух вокруг нее, спящей. В то утро, как и все последние десять утр, я лежала в постели, пока сомнения не исчезли. Это реальность. Это останется реальностью до конца моей жизни. Это будет реальностью и после того, как я умру.
Я выпростала из постели голые ноги. На мне была одна из ночных рубашек, которые сшила для меня мама. Каждое лето она шила по три рубашки: две с длинным рукавом, одну с коротким – две хлопковые, одну фланелевую. Каждый год делала их на размер больше, тщательно выкраивая передние карманы так, чтобы те идеально попадали в узор. Эта рубашка была мне мала, поскольку последние два года мама недостаточно хорошо видела, чтобы шить, и не могла сидеть, чтобы пользоваться машинкой. Проймы врезались в подмышки.
Мы с мамой родились в один день, и в любой другой год я пробежала бы по коридору и забралась бы к ней в постель. Отец принес бы нам горячий шоколад или букет цветов и назвал нас «новорожденными». Мать тискала бы меня и говорила, как каждый год: «Ты – лучший подарок на день рождения за всю мою жизнь». Вместо этого я осталась в своей спальне, старательно оттягивая момент, когда придется открыть дверь и обнаружить, что ее нет.
Месяцами картонный сундучок стоял на полу спальни, и я старалась не обращать на него внимания. В те месяцы он символизировал будущее, которое, я надеялась, никогда не наступит. Теперь же я медленно слезла с кровати и опустилась перед ним на колени. По одной открыла защелки, продлевая мгновение. Первым, что я увидела, откинув крышку, был большой черный альбом для рисования на спирали с двумя красными грушами на обложке. Дыхание участилось, когда я вынула его и открыла на первой странице.
Дорогая моя Гвенни!
Перед тобой опись писем и памятных подарков, отложенных для празднования твоих значимых жизненных событий. Я составила ее на случай, если что-то произойдет с самими письмами и подарками. Ручку, которой я составляла опись, тоже дарю тебе, и пусть она доставит тебе удовольствие.
С любовью, мама
К переплету альбома была прикреплена зеленая с золотом перьевая ручка, та, в которую заливают жидкие чернила. Я высвободила ее, ощутив в ладони неожиданную увесистость. От слез слова на странице передо мной расплывались. Мама показывала этот альбом несколько лет назад, и, как сундучок, я задвинула его на задворки сознания: еще один инструмент, которым не хотелось учиться пользоваться. Я измерила его толщину пальцами и обняла, прижав к ребрам, желая слов, которые были обещаны внутри.
Содержимое, до этого прикрытое альбомом, доходило почти до самого верха. Коробки и футляры разных форм и размеров складывались в трехмерную головоломку. Прикрепленный внутри сводчатой крышки тонкий лист миллиметровой бумаги перечислял полное содержимое сундучка. Я провела пальцем по списку. Дни рождения сменялись вручением аттестата и диплома, свадьбой, рождением детей. Галочка рядом с каждым пунктом показывала, что подарок присутствует и учтен.
Я перебирала верхний слой свертков, пока не нашла тот, на котором была пометка «Двенадцатилетие Гвенни». Картонная коробочка с узором из морских раковин, перевязанная розовой волнистой ленточкой. Держа ее в руке, я ощутила первый острый укол любопытства: захотелось увидеть, что выбрала для меня мама. Я развязала ленточку и открыла коробку.
Внутри нашла медное колечко в форме цветка с крохотным аметистом в середине. Это был наш с ней камень. На обороте открытки было написано: «С днем рождения, милая девочка! Стр. 8». Я пролистала сливочно-белые страницы альбома до нужного места. В верхней части восьмой страницы была фотография кольца, а под ней несколько предложений.
Дорогая Гвенни!
Это мое второе кольцо с камнем-талисманом. Я всегда хотела такое, когда была маленькой, и просила бабушку Лиз купить его. Наконец она сжалилась, и мы выбрали хорошенькое маленькое колечко в местном ювелирном магазине. Как я его любила – и описать нельзя! Однажды, придя поплавать на Террас-Пландж, я завернула его в полотенце, чтобы не потерялось. Когда вышла из воды, оно пропало. Я была безутешна. Мы с бабушкой Лиз нашли замену в магазине «Кост-Плас» в Сан-Франциско. Надеюсь, тебе оно тоже понравится.
Целую, обнимаю,
мама
Кольцо пришлось впору на указательный палец правой руки. Я надела его и попыталась представить, как мама в первый раз надевает то же кольцо на свой палец. Постаралась запечатлеть ее в сознании такой – маленькой девочкой, ощущающей вину из-за потери прежнего кольца, благодарной за новое. Больше трех десятилетий отделяли тот момент от этого. Я родилась в то утро, когда маме исполнилось тридцать семь. В этот день ей исполнилось бы сорок девять. Я держала раскрытый альбом на коленях и водила пальцами по следам, оставленным ее ручкой. Слова, написанные, чтобы перекрыть пропасть между нами, прорывались сквозь пространство и время. Я перечитывала их снова и снова.
Не помню, как узнала, что мама больна. Память переключается на какой-то другой день после того, когда она вернулась от врача, узнав, что уплотнение в груди – не закупоренный молочный проток, оставшийся после того, как она кормила меня грудью. Я не помню бело-голубого дома, где мы жили, когда это случилось, лишь смутные очертания занозистых деревянных детских «лазалок» и обоев в спальне с уточками по верхнему краю. Где-то в этом доме должен был быть крохотный черно-белый щенок, бордер-колли с сильным пастушьим инстинктом и разноцветными глазами. Но Типпи вспоминается мне лишь полностью взрослой собакой: белая полоска на ее носу испачкана землей, в пасти резиновый шланг, оторванный от папиной системы дождевания, хвост виляет из стороны в сторону. Тот щенок, как и первый диагноз, затерялся в первичном бульоне «до того, как».
Дом, который я помню, был светло-серым, двухэтажным, прятавшим фасад за занавесом из лиловой глицинии. У него была обширная веранда, обставленная белой плетеной мебелью, и латунный почтовый ящик рядом с входной дверью. Через несколько домов слева стоял величественный особняк, где в 1960 году снимали фильм «Поллианна», где моя бабушка играла в массовке. Когда мы поселились в этом доме, бабушка Лиз еще жила в полутора кварталах дальше по улице. Моя мать, подобно морской черепахе, вернулась в места, где выросла, чтобы растить собственную семью. Наш новый дом был намного больше того, из которого мы уехали, с четырьмя спальнями, гаражом на две машины и плавательным бассейном на заднем дворе, а купили его на наследство, незадолго до того полученное от родственницы по материнской линии. Мы въехали туда вскоре после маминого ракового диагноза, на третье в моей жизни Четвертое июля.
Мама перекрасила все четыре спальни в оттенок акварельного неба. Я в то время переживала «фазу принцессы», и пришла в восторг, когда отец натянул тент из полупрозрачной москитной сетки над моей кроватью из полированного дерева, – я чувствовала себя точь-в-точь диснеевской Жасмин, только без тигра.
У нас с братом были общая ванная и одна стена. Комната Джейми стала вместилищем внушительной коллекции «Лего» и стеллажей, заставленных миниатюрами из «Подземелий и драконов» на разных этапах раскраски. Я завидовала его воображаемым мирам. Он мог проводить наедине с ними часы, огражденный от тревог о здоровье матери, которые уже делились и множились внутри дома. Мои собственные воображаемые игры были бессистемными, расплывчатыми вариациями на тему «моя кровать – пиратский корабль» или «приготовление волшебных зелий из грязи». Время от времени мне предоставлялся доступ в его утонченную мультивселенную. Брат не возражал, если я наблюдала, как он раскрашивал или читал, при условии, что я буду помалкивать. Я жаждала его внимания, как воздуха, и одного-единственного слова или неохотно брошенного взгляда было достаточно, чтобы питать меня один блаженный час за другим. Он называл меня Гвенни – в честь королевы Гвиневры из его любимого фильма «Камелот». Хотя в метрике я была Женевьевой, прозвище закрепилось.
Улица перед домом представляла собой широкую аллею, вдоль которой выстроились магнолии, клены и гинкго. Один ее конец выводил на главную улицу – она вела к центру Санта-Розы; другой – к местному кладбищу. Каждое Четвертое июля родители – пока жили там вместе – устраивали для всего квартала вечеринку на улице перед нашим домом. Отец, англичанин-экспат, обожал американский День независимости, но помимо звездно-полосатого всегда поднимал на флагшток «Юнион Джек».
Тогда было еще законно запускать собственные фейерверки, и по всей улице люди семьями рассаживались на дороге, устраивая крохотные яркие взрывы. Воздух пах резко и крепко, как спичечная головка. Дядя Джонатан (которого все звали дядюшкой Кью) был младшим из троих братьев моей матери. Он всегда приезжал еще засветло, привозя с собой сумки с самодельной пиротехникой. Сам худой как спичка, он сохранял гильзы от прошлогодних фейерверков и набивал их взрывчаткой от шутих «Пикколо Пит», чтобы те взрывались, как артиллерийский залп, когда этого меньше всего ожидаешь. Дядюшка Кью всегда питал слабость к взрывчатым веществам. Будучи подростком, он, по рассказам, подрывал почтовые ящики петардами на той же самой улице.
Я представляю, как наша собака Типпи, взбудораженная фейерверком, лежит, необычно притихшая, вытянутой черно-белой полосой на земле. Когда садилось солнце, Джейми и моим старшим кузенам разрешали зажечь по одному бенгальскому огню. Они бегали, кружились и выписывали в воздухе свои имена, выжигая яркие мимолетные росчерки в сгущавшейся тьме. Бабушка Лиз, пройдя две сотни шагов по улице от своего дома, садилась с прямой спиной на складной стул, клетчатый плед покрывал ее колени, и пара огромных очков (она называла их «окулярами») протыкала изогнутыми дужками ее короткие, подернутые сединой волосы. Неподалеку садилась сестра мамы, Антуанетта.
Отец, в неизменных шортах хаки и высоких белых носках, разводил огонь в мангале: дымящаяся башня из газетной бумаги скорчивалась, обрушиваясь пеплом на угли, ряд куриных тушек, порезанных четвертинками, выстраивался на прожарку. Мать загодя готовила садовый шланг на случай, если барбекю или самодельные франкенштейновские фейерверки выйдут из-под контроля. Она была настороженной, напряженной, как Типпи, позволяя нам, всем остальным, развлекаться, в то же время готовясь – всегда – к катастрофе.
Первыми шагами в лечении мамы были одиночная мастэктомия для удаления всей правой груди вместе с опухолью и реконструкция, чтобы заполнить оставшуюся после операции пустоту. Длинный розовый шрам появился на месте соска, точно рот со втянутыми внутрь губами, запечатав, как мы надеялись, угрозу внутри. Поначалу родители говорили только, что мама больна. Потом объяснили, что, несмотря на тщательность хирургов, мамин возраст (всего сорок лет) и агрессивность рака означали, что он с большой вероятностью вернется. Врачи рекомендовали радиологическое лечение, потом химиотерапию.
Несколько недель после ее возвращения домой из больницы я не отходила ни на шаг. Таскалась за ней по пятам из комнаты в комнату, даже в ванную, боясь, что она может исчезнуть: я моргну – а мамы уже нет. В эти недели я наблюдала, как длинный овал нашего обеденного стола постепенно скрывался под стопками бумаги. Каждый день она часами сидела за ним, выделяя маркером журнальные статьи и листая стопки печатных страниц.
– Это было одно из самых трудных решений в моей жизни, – говорила она пару лет спустя, глядя в объектив камеры, записывая видеосообщение для нас с братом, – что делать для борьбы с раком. Шесть недель я читала, исследовала, разговаривала и молилась. Я приняла решение сделать операцию, но не проходить конвенциональное лечение, которое рекомендовали. Мне казалось, я не вынесу его токсичности. Казалось, от него мне будет слишком плохо, и я не переживу. Не знаю, правда то была или нет; интуиция подсказала, что так правильно.
Вместо этого мама выбрала частную программу альтернативного лечения, известную под названием «протокол Гонсалеса».
Доктор Гонсалес сказал ей, что исцеление возможно, только если не будет никакого внешнего клинического вмешательства: ни анализов, ни рентгена. Любые другие врачи, которых она посещает, должны будут работать в пределах заданных им параметров. Вступив в его программу, она следовала строгой вегетарианской диете, принимала по сотне таблеток ежедневно и дважды в день делала себе кофейную клизму. Кроме того, она купила соковыжималку «Чемпион» фирмы «Дженерал Электрик», здоровенную штуковину из бежевого пластика и эмали, которая занимала всю столешницу кухонного разделочного стола. Она каждый день пропускала через «Чемпион» по целому мешку моркови и полными стаканами пила пенистую оранжевую взвесь.
– Это антикарциноген.
Я спросила, что это значит.
– Он предотвращает рак, – объяснила она, – а каротин к тому же помогает видеть в темноте.
Я попробовала сделать пару глотков оранжевой вязкой жидкости. На мой взгляд, вкус был как у древесной коры. Вечером я вышла во двор, чтобы проверить свое ночное зрение, но, как мне показалось, ничего не изменилось. Я заподозрила, что это очередная хитрость взрослых, чтобы навязывать детям побольше овощей.
Мать пила морковный сок, пока ее руки и лицо не приобрели оранжевый цвет. На следующий год в детском саду, когда мы рисовали родителей, все остальные белые дети захотели использовать для раскрашивания кожи оранжевый карандаш.
– Ведь моя мама на самом деле оранжевая, – заявила я, – значит, это реалистично.
Шли девяностые годы, родители истово веровали в гомеопатию и природные средства. Им принадлежала небольшая компания по производству безалкогольных напитков, – одна из первопроходцев в применении пищевых добавок. Компания называлась «Миссис Уигглс Рокет Джус», девиз был «Питание для вашей миссии». Мы с Джейми вместе с дочерями дядюшки Кью, Джесси и Тори, частенько тусили на большом складе, где смешивались, разливались, снабжались этикетками и паковались сокосодержащие напитки вроде «Гинкго Синк» и «Спирулина Смузи». Мы вчетвером устраивали состязания, проверяя, кто дольше высидит в огромном холодильнике, стуча зубами и синея кончиками пальцев. Там была чудесная комната, полная плотных картонных коробок, составленных в огромные горы, по которым мы лазили до самого верха или переставляли их, выстраивая затейливые крепости. На складе компании по производству соков пахло, как в тропическом лесу: чем-то влажным, сладким и живым. В кабинете отца на стене висела длинная доска со всеми этикетками «ракетного сока», который они когда-либо производили. В рисунке любой этикетки пряталась крохотная ракета, и я разглядывала их, пока не находила каждую.
Дома на кухне все было органическим. Мы не закупались продуктами в «Сейфуэй», как родители моих друзей. Вместо этого мы с Джейми сопровождали мать по узким рядам «Комьюнити Маркет» – местного независимого магазина здорового питания, – где оптом торговали продуктами типа чечевицы и пахло свечами из пчелиного воска и витаминным порошком. В случае легких недомоганий обращались к врачам-гомеопатам, получая бутылочки коричневого стекла с мышьяком и опиумом, разведенными и упакованными в крохотные белые сахарные шарики, которые полагалось рассасывать под языком. В нашей семье никто не пил, не курил и не ел прошедшие фабричную обработку продукты. Мы занимались спортом. Мы чистили зубы флоссом. Мы были образцовой семьей с плаката о здоровом образе жизни; только одна из нас была тяжело больна.
Закрывая глаза, я до сих пор вижу маму: она сидит за нашим обеденным столом, опустив глаза, и рядом с ней стоит чашка исходящего паром чая из лемонграсса. Она опирается на загорелые, веснушчатые руки, читая результаты клинических исследований, вырезая статьи из журналов. Больше всего на свете мне хочется обхватить руками женщину за столом и прошептать ей на ухо то, что я знаю о будущем: у доктора Гонсалеса нет ответов, которых она ищет. И несмотря на весь свой интеллект, старания, интуицию, она доверяет не тому человеку.
Когда мне было четыре года, мы купили длиннохвостого попугая по кличке Дейви, желто-зеленого, с маленькими голубыми пятнышками на щечках. У него была белая сводчатая клетка с меловым панцирем каракатицы и колокольчиком, подвешенным на нитке из пряжи. Еще у Дейви было зеркальце, но пришлось убрать его, когда он начал вызывать свое отражение на соревнования по хлопанью крыльями, от которых трясся стол. Его маховые перья были коротко подстрижены, поэтому я оставляла дверцу клетки распахнутой, и он мог порхать по дому, приземляясь на наши пальцы, плечи, головы.
Дейви разговаривал на языке, состоявшем из тихих попискиваний, чириканья и наклонов головы. Я научилась точно подражать им, так что могла повторять за Дейви то, что он говорил. Он говорил, а я повторяла, снова и снова – он учил меня, а не наоборот. Я не понимала, о чем мы говорим, но была уверена: это что-то тайное и прекрасное. Он нежно брал в клюв мой палец и поворачивал голову, чтобы поглядеть на меня глазками, которые размером и цветом были один в один черные кунжутные семечки. Время от времени Дейви прерывал наши разговоры радостной фразой «чурик, чурик, вот ты дурик!» – а потом снова куда-то упархивал.
В полдень, когда обе стрелки указывали на артишок в верхней части наших кухонных часов (на циферблате вместо цифр были нарисованы овощи), я врывалась домой, вернувшись из детского сада, и Дейви встречал меня приветственной песенкой. Его чириканье сигнализировало, что я пережила еще одно утро вне дома. Пять раз в неделю мать привозила меня в Первый пресвитерианский детский сад в полутора кварталах от нас, и каждое утро я вопила, рыдала и умоляла ее не оставлять меня там. Я цеплялась за нее руками, ногами и зубами.
– Пожалуйста! – визжала я, спеленатая сильными руками воспитательницы, после того как мать отступала. – Пожалуйста, вернись!
Отделяться от матери было все равно что ходить без кожи. Я знала, что ее жизнь в опасности, и перспектива провести хотя бы пару часов вне дома приводила меня в ужас. А если она умрет, пока меня не будет? Я не доверяла ее безопасность никому другому.
В детском саду я бродила из комнаты в комнату, временами играя, но в основном глядя на большие черные часы, висевшие над каждой дверью. Когда день в саду заканчивался, я торопливо выбегала наружу, забиралась на самый верх «лазалок» и смотрела поверх ограды в сторону наших ворот, сосредоточивая всю энергию на желании, чтобы из них появилась мама.
Однажды летом у Дейви на лапке выросла опухоль, и мы повезли его к ветеринару, чтобы удалить ее.
– Ему нужно сделать операцию, – сказал в машине папа.
Мама пошутила:
– Думаешь, ему на клюв наденут крошечную маску для анестезии?
Я представила Дейви в больничной рубашке, под седацией на крохотном операционном столе, где над ним нагнулись фигуры в масках с зубочистками и пинцетами. Он вернулся домой без опухоли, но рак уже проник внутрь его полых косточек.
Дейви всегда спал в моей комнате, но после операции мать перенесла его в свою, потому что я иногда забывала по утрам снимать с его клетки банное полотенце, оставляя его в обстановке вечной ночи. Ему внезапно потребовались вещи, которые я не могла дать, – лекарства и сочувствие. Я знала, что следует печалиться из-за больных косточек моей птички, однако они были невидимыми, поэтому никак не удавалось что-либо почувствовать. Как и мама, Дейви не выглядел больным. Он сохранил все свои яркие перышки и тот же испытующий взгляд кунжутных глазок. Он по-прежнему приземлялся на мою макушку, гадил и улетал, издавая звуки, напоминавшие тоненький свистящий смех.