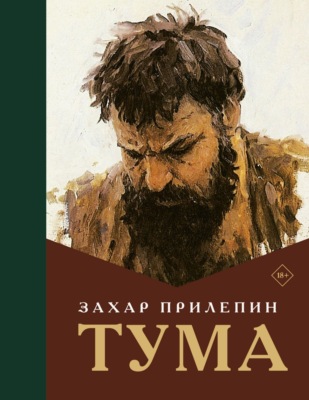Loe raamatut: «Вкус жизни и свободы. Сборник рассказов»
Лешана абаа
От ледяного дождя и ливня снега деревья и люди сошли с ума, и только Москва-река тупо текла подо льдом, огибая Синагогальную горку Китай-города.
Горку еще называют Субботней – по субботам здесь собирались отказники.
– Огонька не найдется? – Лазарь Хейфец, стайер и очкарик, середняк в росте и годах, потянулся к Иосифу, тоже очкарику, изгнанному из «почтового ящика», как только он подал документы в Израиль.
Иосиф Бегун вздрогнул и протянул зажженную сигарету. Где-то эту рожу Иосиф уже видел. Определенно рожа знакомая. В автобусе, магазине, метро. Что-то часто встречался с пыжиковой шапкой…
С тех пор, как коммунальная квартира Иосифа стала клубом для каббалистов, его телефон был на прослушке. Дистанционное обучение? Но топтуны? Это что-то новое. Может, это из-за дружбы его с диссидентами с Пушкинской – они передавали для распространения «Хронику текущих событий», «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, статьи Сахарова, стихи Галича. У Иосифа под кроватью скопился филиал библиотеки на Лубянке.
А Лазарь хотел прикурить. Нервничал. Поднялся в синагогу, ввалился в кабинет раввина Фишмана.
– Готыню! Я сойду с ума!
Размахивал конвертом перед сонным Фишманом.
– Вус махт а-ид? – безобразно зевая, сверкнул стальной челюстью старик.
– Зол зей бренен!
– Шо трапылось?
– Вызов из Израиля.
– Ну.
– Вот моя фамилия, мой адрес.
– Мазлтов.
– Что-о!? Я же на службе, я член партии! Вызов действующему лейтенанту КГБ!
– Вызов на всех?
– В том-то и дело.
– И на жену?
– И на Суру, чтоб она сдохла! И на дочь, и даже на тещу, чтоб она сгорела. Во-о подлянка,
это Сура… я знаю – она меня ревнует к бабам. Но не до такой же степени! Оторву голову.
– Или теща, – подсказал раввин.
– Та она слепая, глухая и на костылях. Ну, кто?
– Дочь замужем?
– Она студентка, ей-то чего не хватает? Выгоню к чертовой матери. Отца позорит!
– Я же не сказал, что она, – развел руками Фишман. – А ты кого пасешь?
– Бегуна пасу. Думаешь, он? Упеку его за Магадан. Ну, Бегун, ну, зараза! Я его уничтожу. Ребе, что делать?
– Кто-то тебе мстит. Может, КГБ это сделало?
– Мне три года осталось до пенсии.
– Сэкономить хотят на тебе.
– Ты мне это брось, Фишман. КГБ – это святое! Понял, хрен бородатый!? Дай пистолет, застрелюсь.
– Только не в субботу, – раввин достал начатую бутылку водки, открытую баночку шпрот и ломтики черного хлеба.
В кабинет вошел подслеповатый служка.
– Ребе, пришли гости, американцы.
– Шо? Ве-ейзмир! Меня нет.
– Шо? – переспросил Лазарь.
– Американцы пришли, ребе.
– Меня здесь нет, понял?
– Чего они хотят? – завелся лейтенант.
– Чтобы ребе подписал обращение к Брежневу по поводу отказников. С американцами пришли наши бабы.
– Кто? – у лейтенанта глаза загорелись.
– Их вейс?! – засмеялся служка.
– Меня нет, – твердо сказал ребе.
– И меня, – кивнул Лазарь.
– А я так завсегда есть, – с обидой в голосе сказал служка, глядя на бутылку и шпроты.
– Ну!
– Вы хотя бы свет погасили.
Как только служка вышел, Лазарь закрыл кабинет.
– Давай выпьем еще по одной и погасим свет.
Теперь они сидели в темноте.
« А с другой стороны, можно познакомиться с миллионерами», – сказал Лазарь.
– Ты что-о, в Америку собрался?
– Типун тебе на язык, ребе. Я просто так.
– Так-так. Лазарь. Ты бутылку видишь? А меня?
– Вижу.
– Давай бутылку. Так ты меня видишь?
– Ребе, главное, чтобы нас никто не видел.
Лазарь подошел к окну, откуда вся Горка как на ладони.
– Ребе, а кто это под дубом агитирует толпу?
– Они мне все на одно лицо.
– Так не сотрудничают. Вот переизберем тебя.
– Это только после моей смерти.
Тем временем у дуба выступал долговязый Володя Альбрехт, математик и местный правозащитник, автор инструкции «Как себя вести на допросе»
Альбрехт зачитывал заявление Иосифа Бегуна:
– «Прошу взять с меня налоги за преподавание иврит», а вот ответ Иосифу: «Черемушкинский райфинотдел сообщает, что преподавание языка «иврит» в программе Министерства высшего, среднего и специального образования СССР не предусмотрено, а поэтому райфинотдел предлагает Вам преподавание указанного языка прекратить». Это приговор. Как только у них освободится место в Бутырке, тебя загребут как тунеядца. Ау-у, люди или как там вас, господа! Это касается всех вас. Я вынужден говорить в таком бедламе. Иосиф, дорогой, бесплатно преподавать иврит – еще куда ни шло.
– Я преподаю бесплатно.
– Иосиф бесплатно преподает иврит, который для властей не существует. Иосиф прикрылся справкой, что он ассистент профессора Лернера, платит пять рублей налог и все шито-крыто. Верят ему или нет – вопрос времени. Важно: он обманывает. Но, господа. Отказник должен быть чист как слеза.
– Я только женщин обманываю.
– Не забывайте, господа: окружение не только враждебно, но и агрессивно. И в один черный день они накажут за то, что вы живете нахлебниками их врагов. Помощь из-за границы предназначена для голодающих. Но при этом нельзя ничего делать. Иначе слово «помощь» заменится на слово «финансирование».
– А любовницу содержать можно.
– Но только одну.
– В еврейской традиции помогать друг другу, – сказал молодой раввин Эссас. – Мы работаем на нас.
– Ты прав, – кивнул Альбрехт. – Но когда вас спрашивают: «На что вы живете?», вы почему-то краснеете и молчите. Та самая работа «на нас» – это шоу. Самиздатовские журналы «Евреи в СССР», «Тарбут» в этой толпе никто не видел. Американцы в библиотеках читают. Самиздат возник у демократов и был предназначен для внутренних нужд. Они ведь не собираются уезжать. Как можно возрождать национальную культуру с чемоданами в руках?
– Демократы слиняют, но попозже.
– Я вам верю, – засмеялся Альбрехт. – Но тем не менее, все что можно делать с чемоданами в руках, так это уносить ноги. Тут все зависит от темперамента. Русским это хорошо понятно. А вот как преподавать иврит на вечной мерзлоте? Фокусы хороши в цирке.
– Володя, ты еврей?
– Я немец. Это моя слабость перед вами. Но я тоже отказник.
Между тем у железных ворот синагоги американцы раздавали талиты, тфилин, сидуры.
Маленький хасид Розенштейн столкнулся с Аней Эссас.
– А-Аня-а.
– Ну не вздыхай так. Я замужняя женщина. Ты моего Илью не видел?
– А ты откуда такая загорелая?
– Из Сухуми. Там лето.
– По Илье не сказать.
– Он не загорал. Он стал датишник.
На Горку поднялись Слепак – весь в дыму – курчавая голова и кольца дыма из неизменной трубки, лысый Щаранский и долговязый Престин.
Американцы тотчас окружили их фотографироваться.
«–Мы в понедельник пойдем в Приемную Президиума Верховного Совета и передадим вот это письмо», – сказал Щаранский американцам.
«…евреи СССР, устремившиеся на Родину, мы обращаемся сегодня к руководству страны, полные недоумения и горечи…»
– Я предлагаю всем подписать Заявление, чтобы американцы его взяли с собой.
– Но сегодня суббота, – развел руки Илья Эсасс. – Разве нет другого дня?
– Другого дня нет, Илья. «Не хуже меня знаешь», – сказал Слепак. – Пусть ортодоксы не подписывают. Ждите своего мессию.
– А кто в понедельник примет нас в Президиуме?
– Если нас не примут, мы устроим скандал, – заявила маленькая чернявая Ида Нудель. – И пригласим зарубежных корреспондентов.
– Престин, что скажешь?
– Можно прямо в Лефортово устроить скандал, а можно погулять по Москве перед посадкой, но ведь сыро и холодно.
– Здравствуй, жопа, Новый год! – Слепак выбил табак из трубки. – Греться будешь в Хайфе, и будет море впечатлений. А в понедельник идем скандалить, кровь из носа. С плакатом «Шеллах эт ами»! Гриша Розенштейн напишет плакат. Напишешь, Гриша?
– Уже было, Володя.
– Да, после Моисея никто лучше не придумал.
– Теплые вещи брать с собой?
– А ты что-о, голый пойдешь?
« Мы идем на посадку», – сказал Щаранский. – Так что приготовьтесь.
– Не могу привыкнуть к арестам, – вздохнул Престин.
– Это как к новой любовнице, – засмеялся Бегун. – Никогда не знаешь, чем это для тебя закончится.
– Так что, господа, шаббат шалом.
В кабинете ребе Лазарь легкомысленно жевал бутерброд.
– А как будет по-еврейски имя Андропова?
– Иуда Бен Зеев.
– Кошмар. Никому это больше не говори. Понял? А Ленина?
– Зеев Бен Элиягу.
– Брежнев?
– Арье Бен Элиягу.
– Элиягу-Элиягу. Ужас. Я тебя, Фишман, должен арестовать. Или расстрелять.
– А ты и по-русски Лазарь и по-еврейски Лазарь. И вызов у тебя уже есть, капитан.
– Лейтенант, но обещают повышение. Давай выпьем.
Понедельник. Ноябрь семьдесят шестого года. У лужи подьезда президиума Верховного Совета СССР остановилась белая «Волга» Семена Липавского.
Выпустил из машины двух коротышек: старого академика Лернера и его молодого товарища Щаранского.
Липавскому демарш в Верховный Совет казался бессмысленным.
– Я предатель, – повторял он самому себе. – Я предатель.
Он сотрудничал с КГБ четыре года ради спасения своего отца, которого пять лет назад суд Ташкента… богатого и солнечного Ташкента, где им бы жить и жить, приговорили к расстрелу. Отец Семена возглавлял строительный трест, пока его не обвинили в хищениях. Приговор отца к расстрелу – это все равно, что приговорили и Семена.
Талантливый молодой хирург был согласен на все, чтобы спасти отца… и он согласился сотрудничать с КГБ. Это было его жертвоприношение, так он думал.
А год назад отец умер в Магаданском лагере. Подлая жизнь, подлая-подлая.
Евреи-москвичи радовались Семену, его щедрости и смелости, а он был холоден как зеркало.
В приемной Президиума новоприбывших встретила толпа отказников с авоськами теплых вещей.
– А где Розенштейн с плакатом?
– Его привезет американский корреспондент Патрик.
– Будем ждать.
Тем временем у лужи столкнулись физики Азбель и Брайловский.
Они дружили со студенческой скамьи.
– Прошвырнемся? – Азбель взял под руку друга. – Очень ранний снегопад в этом году.
– Обещали ливневый снег. Я даже зонтик взял. Подарок капиталистов.
И он достал из портфеля складной зонт. Щелк – и зонт весело распахнулся над ними.
– Витя, что же мы мокли до сих пор!
– Но все мокли, Марк.
– Ты демократ, Витя. Когда евреи соглашаются жить по законам других народов, они непроизвольно относятся к этим законам по-своему.
– Кого ты конкретно имеешь в виду, датишников с их чадами?
В это мгновение сверкнула молния, над Манежем раздался оглушительный гром. Снег и град обрушились на зонт и тротуар.
– Артобстрел, – засмеялся Азбель. – Надо быть поосторожнее с критикой Господа.
– Он же нам послал зонтик.
– Хочешь сказать, что это всего лишь учения? Я, Витя, не имел в виду датишников. Они-то как раз остаются самими собой.
Навстречу физикам хлюпал по лужам Илья Эссас.
– Уже все закончилось? – обрадовался Илья; на кончике носа дрожала капля дождя, как серьга.
– Тебя встречаем. Долго молитесь, ребе.
– Сколько положено.
– И это гарантирует успех?
– Смотря что понимать под этим, – тонкие губы Ильи уползли в красную бороду.
Корреспондент «Рейтер» Патрик привез на своем желтом «Опеле» Розенштейна с плакатом «Шелах эт ами». Гриша написал его тушью на ватмане, плакат был спрятан в полиэтиленовый чехол.
– Эй, хаверим! – позвал он троицу.
Азбель, Брайловский и Эссас уже готовы стать под плакат, но Гриша захотел, чтобы вышли из Приемной отказники. Это опасно, а вдруг не впустят обратно? Вышли лишь несколько человек. Развернули плакат. Сфотографировались и уже гурьбой ввалились в Приемную.
Лазарь, мокрая курица, докладывал из телефонной будки.
– Хасида Розенштейна проморгали, развернул плакат «Шелах эт ами».
– «Аллах»?
– Господь с тобою, «шеллах».
– Лазарь, говори по-русски и выплюнь жвачку, сука!
Капица, помощник Подгорного, повел отказников за собой в холл, где в молчании сохли другие «ходоки». И вдруг стало шумно, многоголосо и тесно.
« Ну вот», – сказал Капица корреспонденту «Рейтер» Патрику. – По мне так хоть сейчас забирайте их всех в Израиль. Эти люди нам не нужны.
– Так вы их отпускаете?
– По крайней мере, из Приемной.
Слепак вручил Капице письмо.
– Для Председателя.
– Не для меня же, – усмехнулся Капица.
– Когда будет ответ?
– По закону у нас есть тридцать дней.
– Сейчас. Мы обьявляем голодовку.
– Я вызову охрану. Голодать можете в тюрьме.
Отказникам выходить под ливневый снег не хотелось. Они запели:
О-осе шалом бимромав
– Что делать, господа евреи? – спосил Слепак.
– Мы никуда не уйдем, пока не получим ответ, – упорствовала Нудель. – Такая прекрасная возможность нагадить им.
– Мать, почему ты за всех говоришь? Давай проголосуем.
«Через пять минут я вызываю охрану», – сказал Капица.
Иду Нудель поддержали Щаранский, Бегун и Розенштейн.
Через час отказники покинули Приемную.
Сквозь снежный ливень едва проглядывал Манеж.
– Тебе обидно? – приставал Азбель к Брайловскому.
– Что не арестовали?
– Что все труды наших предков за двести лет в России пошли прахом.
– Оставайся и трудись дальше.
– Зря мы ушли, – Бегун догнал их. – Надо было устроить скандал.
«Невозможно препятствовать садиться в тюрьму тем, кто этого хочет», – сказал Азбель, – но не следует создавать ситуацию, при которой попадут в тюрьму те, кто этого не желает.
Василий и Марина
В рождественский мороз Николина гора дымилась трубами – у дыма заячьи бока.
Василий бежал на лыжах вдоль пруда, засыпанного снегом, так дети танцуют вокруг маминого пирога. Небо взрывалось фейерверками, криками.
Отца его, чекиста, не уберегли врачи. Его семья неплохо жила. Василий был бессилен перед памятью отца – мертвым уже не нужно. Все так, но танцевать на лыжах вдруг расхотелось.
Притихший сад, заснеженные парапеты окон – за ними светло и жарко, сестры, тетки, племянники и гости, кого собрала хлебосольная обрусевшая Майя Давыдовна – мать Василия.
Из соседнего двора его окликнула Аня Брод.
– Ва-ася! Пойдем на пруд кататься.
– Ань, я только оттуда.
– Ва-ась! Я одна боюсь. Два круга.
– Два круга? – захохотал, обрадовался ей.
Ее отец, нейрохирург, был репрессирован (реабилитирован потом) вот в такой же морозный день, а над заснеженной Москвой стыли змеями фонари и лили желтый свет, как яд.
Василию и сокурснице по инязу Ане Брод легко давались языки чужие.
На пятом курсе они улетели в Дели как переводчики. А уже там однажды проснулись в ее кровати как влюбленные. Родилась Юля.
И вдруг на взлете карьерного роста Василия за шутку над горбачевскими переменами отозвали в Москву, где в загоне столпились тысячи «отказников» алии – их вдохновляла любая быль, окутанная дымкой древности иудаизма, и нескончаемые разговоры об Израиле, Западе, свободе… Работу в МИДе он потерял и перебивался уроками английского, переводами туристов, кто валил валом в горбачевскую Москву.
«Б-г шел перед ними днем в столпе облачном, указывал дорогу и ночью огнем светил им; и шли они днем и ночью».
Перемена в жизни отказников рождала современный иудаизм – он вырывался из прорв судеб, сокращал ортодоксальные повторы, смирял гордыню и собирал людей. Бог был для них манящей гармонией, они не ставили под сомнения Его волю, но оставляли право другим идти к нему разными путями, ибо это устраняло предрассудки. Этот иудаизм объединял души, жаждущие инакости. Она уравняла всех.
Красная Пахра. Лес мутило воздухом и тишиной. Сентябрь осыпался. Василий и его новый клиент, реформист Лева Чернобельский, шли рядом. Они посмеивались над седобородым Слепаком – проспал выступление внезапно приезжего главного раввина Англии об абортах. Осень втайне разрабатывала их для ареста.
На ржавом скошенном поле стога построились цепью.
Отчаянные парни развернули флаг Израиля. На поляне танцевали хору.
– Будешь трубить в шофар? – спросил Василий Льва.
– Рог короткий, но протрубить можно. Бог услышит.
– Так он самодельный?
– А в «Гинейни» и молитвенник сшит из старого: сократил, добавил перевод на русский и транслитерацию. Ну, потому что засыпает народ после работы. А коротко молиться – милое дело.
– И в «Гинейни» все евреи?
– Евреи – все. Не все об этом знают.
Они расхохотались.
– Я приду к тебе.
– Это 14-й этаж. Лифт часто не работает.
Стал Василий сталкером «Гинейни». Когда автомобили толкались на проспекте как близнецы в утробе, в пятницу вечером на кабалат шабат он приводил в «Гинейни» иностранцев – это как восхождение на Синай. В прихожей свалены пальто, сапоги; в комнате – столпотворение прихожан.
Однажды привел американсуих раввинов – Дик и Йоэль.
– Да вы же реформисты, – воскликнул Дик и вручил Леве тоненький молитвенник для встречи субботы Бэтти Голомб.
Они предложили Василию сопровождать их в Ленинград. Он становился профессионалом.
Налетевший балтийский бриз оживил толпу у Маринки – балет «Ромео и Джульета»: свидание, как первая любовь.
Марина узнала по телефонному описанию Йоэля и Дика, ну и конечно, она узнала в красной рубахе Василия. Еще не бык, но далеко пойдет. В иудаизме красный бык не очищает от греха, только красная корова, но сначала ее сожгут со всеми потрохами. Поди найди ее и главное – поверь.
Америкосы-миссионеры аборигенов соблазняют к реформизму. И эта питерская студентка, такая талия – почти Италия.
Как долго и красиво умирала Джульетта в белом шелке, и Ромео торопился уйти за ней…
В июне север не прячется от солнца; день-ночь, ложь-истина, мертвый– живой неразличимы у мастера Шекспира. Север опасен сентиментальным душам и сегодня без дуэлей – танцев. Зато всю ночь открыты рестораны – шампанское с клубникой. Василий отвезет ее домой. Ну что ж, это работа профессионалов – пить, не пьянея, влюбляясь не любить.
– Василий, откуда у тебя такой английский? – спросил Йоэль.
– Мы пять лет в Нью-Йорке жили. Отец мой работал в Торгпредстве.
– Хотел бы ты у нас работать в Иерусалиме?
– Почему бы нет.
– Нужно подать документы на выезд.
– Давайте за это выпьем, – предложил Дик.
Смертельно зацелуют ангелы.
В такси Василий искал, где продают цветы для Марины.
– Я не Джульетта, – покраснела девушка.
– Я тоже не Ромео. Я женат, дочь, и куча родни, и сотни друзей. Но если мне с тобой, Марина, незаслуженно хорошо, что делать?!
Он громко, искренне смеялся, чтоб окончательно не «утонуть».
Они договорились – вечером поедут в синагогу.
Безлюдная синагога казалась вокзалом. Службу вел долговязый хасид Яков, о котором говорили, что он упрям и не дурак выпить. Дурак – не дурак, но свое дело он знал.
– Господин раввин, у вас канторский голос. В Израиле это тяжелое бабло, – перевела Марина Дика.
– А я и есть кантор. Пока, – ответил Яков и засмеялся белозубо и вызывающе. – Марина.
Его черная широкополая шляпа бесцеремонно закрыла ее от гостей.
А она вдруг вспомнила слова Василия «Я тоже не Ромео. Я женат, дочь есть, и куча родни, и сотни друзей». О Боже, ну почему те, кто ей нравятся, уже женаты – когда они успевают? А ей что делать?
– Они реформистские раввины, – прошептала Марина.
– Могу поспорить, они иврит не знают, – зубоскалил хасид Яков.
– Они живут в Иерусалиме. Иврит они знают лучше тебя, – Василий захохотал, как в колокол ударил.
Она мне тоже очень нравится, как бы отвечал Василий. Яков замотал шеей, сдвинул шляпу на затылок.
В звенящей тишине Дик вспомнил Лос-Анджелес, родную ешиву, где обучалось студентов больше, чем евреев во всем Питере. Он всех всегда сдавал, с тех пор, как его предали дома. Что он здесь делает, в России?
– Йоэль, давай выйдем на свежий воздух. Эти парни запали на девчонку, но нам нужно найти лидера, – предложил Дик.
– Алекс?
– Алекс не музыкальный парень, нет харизмы. А нам нужна изюминка, чтоб забродила в бутыле пейсеховка.
– Да, но где таких возьмешь? – Йоэль закрыл лицо ладонью.
Как ему Дик осточертел, как не хотел он отправляться с ним в Россию. Ну, ладно бы до бегства молодежи из России приехали сюда вербовать реформистов, но сейчас, когда последние бегут, что им здесь делать?
Йоэль щурился ночному солнцу. Все же непривычны белые ночи.
Чем ярче окрас, тем ядовитей особь.
Шальной октябрьский ливень хлестал облезлые бока питерской синагоги; бесновались струи на куполе, словно черти в цирке, а потом дъявольски клокотали в водосточной трубе.
– Теряю былую легкость, – Яков с раскрытым зонтом поднялся по лестнице в синагогу.
«Гишмей браха (благословенные дожди)», – сказал он и бросил взгляд на собравшихся в классе учеников иврит, среди них была Марина.
Дождь остервенело барабанил подоконники. Дождь грозил наводнением, а вот сорвать платный урок – нет.
– Где ты на шабат? – неожиданно поинтересовался Яков у Марины. – Я приглашаю ко мне домой. Это приглашение моих родителей.
– Ни в коем случае, это неудобно.
Яков заметил колебания ее.
– Не стесняйся. Помочь еврейке кошерно провести шабат – большая мицва.
– Где мы встретимся?
– Я за тобой заеду в половине восьмого вечера. Поедем на вечернюю молитву, а потом к нам. Мы живем рядом с синагогой.
– У кого ты учил иврит?
– В ешиве. И по молитвеннику «Кол Исроэль».
– А где учил английский?
– Би-Би-Си.
Они рассмеялись.
– Ты ведь математик.
– Я преподавал в школе.
– Ты мог бы преподавать в религиозной школе в Израиле.
– Почему бы нет.
Рассмеялись.
– Что нужно сделать?
– Сделать хупу с хорошенькой еврейкой.
Еврейка только по отцу, Марина чувствовала отчужденность ортодоксов.
– Я полукровка. У меня русская мать.
– Я кстати, женскую группу набираю для подготовки, чтоб пройти гиюр. Для тебя – бесплатно.
Вся женская группа была влюблена в Якова, но он выделял Марину.
К гиюру ее готовил Яков.
– А вам уж замуж невтерпеж?
– А то ж!
Они хмельны от вина и страсти – так хотелось уложить друг друга в постель.
Лечь в постель ночью с другим легко, а утром проснуться с ним ужасно. Потом опять наступает ночь Якова и Марины. Кто ж знал, что она разбудит в этом хасиде любовника-маньяка, солдат ее любви, готовый на все.
Не будите, бабы, в мужике маньяка.
– Дик предлагает мне в Израиле работу, – позвонил ей Василий. – Кординатором программ реформизма в СССР.
– При Горбачеве? – съехидничала Марина.
– Работа в Иерусалиме, – он на усмешки отвечал по-детски прямолинейно. – С зарплатой 2000 баксов.
Голодуха. Предчувствие беды. Бежать.
Проект «Алия реформиста Василия Кутузова» должен был стать американским фандрейзингом.
Один за другим прилетали реформистские раввины, и Василий – переводчик на их выступлениях в общине, на встречах с известными отказниками, диссидентами, гид по Москве.
Лучший парень идет в реформисты (он говорил по-английски, другие даже промычать не могли) и его жена, и дочь англоязычные, и даже старая и толстая Майя Давыдовна смешно и трогательно говорила американскому толстяку и бородачу оператору «гуд монинг».
Для семьи Василия сняли квартиру в Тель-Авиве.
Василий вместе с Йоэлем мотались по городам Советского Союза в поисках лидеров для реформистских общин.
Зачем все это, если евреи уезжали из своих городов?
В понедельник, после Симхат Торы, раввины синагоги приняли гиюр у Марины и двух других молодых женщин. Но только в четверг бейт-дин утвердил «экзамены»; на радостях Яков купил в магазинчике при синагоге коробку израильских конфет и поехал в дачный поселок «Балтийский» к Марине. Он здесь уже был, и даже несколько раз ночевал у нее, но как же непривычно городскому парню здесь ориентироваться – сплошь высокие одинаковые зеленые заборы. Ориентир – три голубые ели. Вот и считай. Но он решил сегодня обрадовать ее.
– Яша, я вчера была у врача. Я беременна.
– О!
– Ты не рад?
Прошло минуты три, прежде чем Яков оправился от удивления.
Она была чуть выше его, держала себя с гордым осознанием своей красоты. Ее прекрасное широкое лицо улыбалось.
– И какие же новости ты мне принес из синагоги? – спросила она.
– Ну, по сравнению с твоими новостями какие мои новости, – улыбнулся он. – Гиюр твой утвердили, ты теперь еврейка и можем сделать хупу.
Вдруг Яков ощутил свинцовое молчание.
– Наверняка ты голоден, ты непременно должен пойти со мной, чтобы пообедать.
– Ты уверена?
– Не трусь, твоя будущая теща на работе, – засмеялась Марина.
Он поймал блеск в ее глазах.
– Теперь я еще больше буду беспокоиться о тебе. Сразу после хупы мы подадим документы в Израиль, чтобы ты родила уже там. Там медицина лучше.
– Никогда не беспокойся обо мне, – ответила Марина.
Он ел яблоко медленно, словно не хотел сказать лишнего. Он с детства никогда не знал, кто его друг, а кто враг.
Он выходил из калитки дачи, равнодушно глядя на темную пустынную дачную улицу. И только тогда он заметил, что карман его пиджака отвисает. Он засунул руку в карман и обнаружил там надкусанное им яблоко.
Марина родила близнецов в иерусалимской больнице «Хадаса эйн-карем». Она лежала между ними, и материнское тепло соединяло их, передавало жизненные силы. О, Господи, никогда она так счастлива не была.
В субботу, на шахарит, Яков пришел в больничную синагогу – провозгласить имена мальчиков с бимы у Торы. Ну что ж, традиция сабров – свята. В молельном зале полторы сотни прихожан – шумно как на базаре. Ох, до чего же они разные, хасиды разных дворов – одни во всем черном, другие в белом, в штраймелах, шляпах, в желтых шелковых халатах, черных лапсердаках; литваки в галстуках и жилетках, сефарды подражали ашкеназскому прикиду со шляпами, сдвинутыми на затылок: очкастые американские реформисты; бородатые поселенцы в майках и шлепанцах на босу ногу; в проходах больные в колясках. Это странное смешение молельни, больницы, роддома – храм с распахнутыми дверьми в прошлое и будущее, врата между смертью и жизнью. Здесь вызывали отцов новорожденных.
Поднялся на биму к Торе и Яков, и он громко назвал имена своих мальчиков:
– Давид бен Яков, Элиягу бен Яков!
Свершилось!
Вся жизнь Марины была в мальчиках ее – двух белокурых ангелах ее смысла жизни. В коляске-паровозике она гуляла с ними в крошечном саду, и до трех лет они были неразлучны, пока Яков не увел их в детский сад – учить иврит и Танах. Для нее Израиль – страна, где в песок зарывают мечты.
Иерусалим – крепость из белого камня, древних фантазий и традиций.
А вот Анне, жене Василия, тесниной стала крепость, где сегодняшний день был такой же бессмысленный, как вчерашний. Но тогда зачем завтра?
Аня устроиться на работу не смогла. День заговаривал ее, мертвели камни. Аня не умела коротать время – оно ее убивало. В хамсин душа ее отделялась и билась в углу, как бьется нечаянно залетевший в комнату птенец.
Здесь она была обречена.
Перед разрывом (Василий не знал об этом) они собирались поехать к Мертвому морю.
– Юля, – он обнял дочь. – Там горы Моава.
– Мы туда поедем? – это что-то от ее мечты.
Но Аня с дочерью улетели в Брюссель навсегда.
Василий страшно переживал разлуку с дочерью. Он запил, как только может запить русский человек. Переехал в общежитие колледжа – в белую камеру с двухъярусными нарами: стол, табуретки.
У входа в офис, где рыли котлован под реформистскую синагогу, где пыль и солнце пространство превратили в ад, Василий ожидал Марину. Горло пересохло, как сдохнувший колодец. И когда, наконец, сквозь марево пыли он увидел ее, это было словно чудо Господне. Василий вскинул руки – так утопающий молит о спасении.
– Марина!
Ее прекрасное бледное лицо улыбалось.
– Я знала, что ты…
Во внутреннем дворике было открыто крошечное кафе – бутылки кока-колы в холодильнике, в витрине – марципаны, осыпанные сахарной пудрой, неожиданно теплые и свежие.
Марина ела медленно, и снова он тонул во взгляде ее синих глаз. Кончилось долгое одиночество в космосе. Ему было без нее одиноко.
– Всякий раз, когда я покидал тебя…
– Василий, я замужем…у меня два мальчика, близнецы…Мы с тобой совершаем грех…
– Ты будешь редактором газеты «Родник».
Марина пожала плечами.
– Нужно как-то жить. Василий, солнце мое. Яков ходит в ешиву … нищенская стипендия … кажется, конца этому не будет.
– Я рад, что мы снова вместе. Я люблю тебя.
Василий смирился было, что потерял Марину. Его любит самая красивая женщина из всех на земле.
Он стал одаривать ее цветами и подарками, деньгами. Они начали встречаться в тель-авивском отеле. Марина входила, сбрасывала платье, как роща сбрасывает листья. Без единого слова. Для нее мокли в вазе пурпурные розы.
– …Не покидай меня…не выходи.
И он был счастлив в ней. Такая химия. Они уже не могли быть друг без друга.
Позже, когда они начали вместе работать, оставались в общаге или прямо в офисе, на полу, он вжимался в нее и забывал обо всем. Она помогала ему в этом, она вознаграждала его за одиночество, словно хотела поцелуями заткнуть дыры прошлого. Они ощущали радость, глядя друг другу в глаза как в зеркало. И это так крепко привязывало их друг к другу.
От солнца серый камень Иерусалима раскалялся добела. Город не для пешеходов. Лучи прожигали тело и душу.
Муж Марины Яков носил под черной широкополой шляпой бархатную кипу, а под сюртуком шерстяной талит. После рождения близнецов он перебивался проститутками. А Марину словно отправил в монастырь. Он ее боялся, боялся бедности и солнца, как язычник.
Василий не был богобоязненным. Желание обладать Мариной в нем вытеснило страх. По ночам в одиночестве особенно. Он знал: без него ей невозможно пережить «нечто прекрасное», просто-напросто невозможно. Марина и Василий заигрались в счастье. На Кипр летали – день, не больше. Вокруг кто по-немецки, кто по-английски, и только им, влюбленным, говорить не нужно: они друг друга любили руками, взглядом.
Каждый раз они по-новому влюблялись. В самолете на высоте 10 000 метров над землей – бесплатная страховка от катастрофы.
Иногда он один улетал на конференции, любовь открывалась по-новому – надо крупно расстаться.
В пятницу Марина возвращалась домой пораньше: прибиралась, готовила сразу на два дня. Яков забирал из детского сада близнецов, и к полудню семья была в сборе.
– Глад кошер? – Даня жонглировал персиками.
– Шлимазл! – засмеялся Яков. – Это же дерево. Фрукты всегда глад кошер.
– Мама, а ты их мыла?
– Я их мыла и в них нет червей.
– Папа, ты слышал? А если не кошерная вода?
– Вода всегда кошерная.
– Почему?
– Потому что на нее нет брахот.
– Тогда отмените брахот, – засмеялась Марина, – и все станет кошерным.
– О-о, глупая! – захохотали близнецы.
Она чувствовала, что потеряла не только мужа, но и сыновей. Может быть, потому что разучилась жизнь воспринимать как очевидность.
Она не переносила запахи Якова. А он, как и раньше, запыхавшись, взбегал на третий этаж, целовал ее и благодарил за ужин, пил вино после благословения, а когда вино кончалось, засыпал за столом. Она уходила в спальню, спрашивала себя, как дела, а потом почему-то плакала. Она хотела смириться, но как оказалось, не смогла. Невозможно смириться с отсутствием того, что требовала твоя суть, и все время отказываться от того, чего ты жаждешь.
Встреча с Василием открыла, как сильно она может любить – дыхание перехватывало. Порой она мечтала, чтобы Василий бросил ее. Но он ее не бросит, у него есть только она.
В метельном феврале девяностого года Василий сопровождал в Москву Йоэля. «Гинейни» размножилась в пятидесяти городах Союза. Василий остановился у матери.