Предсказание
Tekst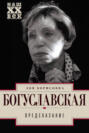


Mine üle audioraamatule
- Maht: 920 lk. 16 illustratsiooni
- Žanr: Biograafiad ja memuaarid, Mitteilukirjandus, Kaasaegne Vene kirjandus
Как в этих условиях театр выпускал премьеры, как (лишь с некоторыми сбоями) наращивал мускулы, усложняя и обогащая замыслы, – непостижимо. Театр стремительно набирал высоту, подбираясь к пику своей славы, влияние на умы и души современников все возрастало. Настало время Любимова! За кулисами перед выпуском каждого из спектаклей царил хаос, порой абсолютное неверие, что удастся протащить постановку сквозь «приемную комиссию». Но вся эта атмосфера на грани истерики, неразбериха и крик в грим-уборных за несколько дней до премьеры выстраивались в то, что впоследствии становилось новой вехой в истории театра. И если бывала преодолена бюрократическая возня, торговля с цензурой оканчивалась победой, спектакль выпускался, публика валила валом – в течение десятилетия Театр на Таганке был самым посещаемым в стране. От тех времен на стенах кабинета главного режиссера остались автографы и рисунки самых известных людей века: Петра Капицы, Артура Миллера, Сахарова, Солженицына, Генриха Бёлля, Луиджи Ноно и др., уж не говоря о всей московской элите.
Замыслы постановщика усложнялись.
В спектаклях «Гамлет», «Борис Годунов», «Галилей» почти ушли плакатность, скороговорка, здесь режиссура Любимова достигала философского звучания. Позднее Любимов определил три остальных направления, в которых работал театр: поэтическое, балаган и классика. Периферия пыталась перенимать кое-что созданное режиссером совместно с художником Давидом Боровским. В других театрах появляются шерстяные занавесы из «Гамлета», захлопывающиеся двери из «Преступления и наказания», высовывающиеся из окошек персонажи из «Тартюфа», частокол берез из «Живаго», поднимающийся деревянный помост, на который всходил Пугачев, световые занавесы, проекции теней на задник и многое другое, что сопровождало становление Любимова как серьезного художника, мимо чьих открытий в искусстве уже нельзя будет пройти.
Многими забыто, что поиски нового репертуара, нужной тональности порой кончались неудачей. Таким был спектакль о Лермонтове. Золотухин – Грушницкий, Губенко – Печорин. Недовольство собой Любимова, охлаждение публики. И, как каждому художественному организму, театру понадобились манифест, программа. Валерий Золотухин вспоминал, как Любимов метался по кабинету: «Нам нужна новая пьеса, нужен скандал. Сегодня Лермонтов не вызывает взрыва в зале. Сегодняшний Лермонтов – Вознесенский. Найдите Вознесенского!»
Вознесенский, автор поэмы «Мастера», стихотворений «Антимиры», «Бьют женщину» и «Осень в Сигулде», овладевал сознанием поколения. У Любимова родилась идея вечера «Поэт и театр». Приехав с завлитом Эллой Левиной на Красносельскую, на квартиру тридцатилетнего поэта, он предложил: в первом отделении стихи читает сам поэт, во втором – артисты театра.
Спектакль «Антимиры» на Таганке играли рекордное количество раз (по подсчетам Бориса Хмельницкого – около двух тысяч раз). На первых гастролях театра в Ленинграде (1965) спектакли «Десять дней, которые потрясли мир» и «Антимиры» имели сумасшедший успех, публика Северной столицы атаковала Любимова, Вознесенского, Высоцкого и других участников спектакля.
Эти гастроли стали нашим свадебным путешествием, Любимов поселил нас с Вознесенским в одном номере гостиницы «Октябрьская», объявив законной парой. В эти дни мне впервые довелось наблюдать Любимова так близко. А наблюдать за ним было наслаждением. Он сам был – театр одного актера. Оживал, когда был хотя бы один зритель, перевоплощаясь в легко угадываемые политические персонажи. Он неиссякаемо фонтанировал, его гостиничный номер был забит посетителями. Если бы тогда существовала скрытая камера, из историй и пародий Любимова можно было бы смонтировать фильм не менее увлекательный, чем его спектакли. В те времена невозможно было представить себе его впавшим в депрессию, хотя к успеху театр продирался сквозь запреты, усечения текста, повседневные цензурные искажения. Но Ю. П. упрямо шел непроторенным путем. Цикл по этических спектаклей (не имевших аналогов в российской истории) – «Павшие и живые» на стихи поэтов – участников войны, «Пугачев» по Есенину, «Послушайте!» по Маяковскому, «Товарищ, верь…» по Пушкину, а дальше – на стихи Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко – завершил «Реквием» по Высоцкому, быть может самая трагическая и высокая нота его творчества, на которой обрывается первая половина российской жизни режиссера. Он еще успевает выпустить «Бориса Годунова» – последнюю постановку перед отъездом. Полагаю, что именно в «Борисе Годунове» Любимов реализовал на полную мощность все три направления. Поэтический текст, соединенный с глубинным симфонизмом Альфреда Шнитке, появление хора, непривычная концепция воплощения «самого трудного, не сценичного» творения Пушкина вызвали волну дискуссий, нового интереса к режиссеру «Таганки».
Ушли в прошлое клише прессы о театре политического плаката, о режиссере, который будоражил современников «фигами в кармане», на повестке дня стоял серьезный анализ творческой природы мастера, который не только способствовал разрушению официальной нравственности, благолепия (процесс, начатый спектаклями «Современника»), но и создавал новые формы в искусстве.
И все же он уехал. Версий и высказываний было много. Но кое-что пропало из поля зрения.
Репутация творца новых сценических форм помогла Любимову пересечь океан, опровергнув мнение, что, лишенный «питательной среды» российских перебранок, он потускнеет на Западе, как и многие другие, не сумевшие вписаться в иные условия игры и законы. С Любимовым этого не случилось. За границей судьба режиссера складывалась трудно, но все же за короткое время он одерживает победу. «После долгого перерыва, – пишет в своей книге Соломон Волков, – первым знаменитым русским режиссером на Западе стал именно Любимов». А сам мастер спустя короткое время заметит: «Я здесь, на Западе, фантастически много сделал. Бывало, одновременно работал над шестью вещами». Заграничные маршруты, которыми прошел режиссер, удивительны. Вашингтон и Париж, Милан и Карлсруэ, Иерусалим и Будапешт – трудно найти другого художника, который за такой рекордно короткий срок оставил бы свои творения в разных концах Земли.
Но уезжал он в сильнейшем стрессе.
После запрета «Реквиема» по Высоцкому и «Бориса Годунова» он чувствовал особую горечь. Он переживал нервную истощенность, когда художник любой ценой хочет переменить окружение, вырваться на свободу. И все же причина глубже хорошо известной схемы событий. Напоминаю, чиновник из посольства во время репетиций «Преступления и наказания» в Лондоне (театр «Арена Стейдж») вторгся в театр, потребовав, чтобы Любимов явился в посольство. Тот отказался. Чиновник повторил приказ и после неподчинения сказал: «Ну что ж, преступление налицо. Будет и наказание». Свидетели этого разговора подтверждают, что угроза была реальной, заявление Любимова об отказе вернуться обоснованно. Что оставлял Любимов за плечами, что ждало его впереди, когда обстоятельства подтолкнули его к решению уехать?
Можно догадаться о том отчаянии, которое охватывало Любимова при мысли о театре, оставленном им с кастрированным репертуаром, об актерах, брошенных на произвол гонителей. Но момент его исхода был выбран судьбой не случайно. Основной круг людей, с которыми нерасторжимо был связан Любимов, поредел до прозрачности. Уже не было на свете П. Капицы, Н. Эрдмана, Ю. Трифонова, Ф. Абрамова, выдворен был из страны А. Солженицын, вынуждены были уехать на Запад А. Шнитке, Э. Денисов, регулярно покидали театр для съемок и участия в других спектаклях некоторые ведущие актеры. Но главным, смертельным ударом, на мой взгляд, была гибель Высоцкого и запрещение спектакля его памяти. Этот шок утраты остался незаживающей раной и незаполнимой пустотой на долгие годы, провалом, образовавшимся в жизни Ю. П. после смерти человека и артиста (фактически уже ушедшего из труппы и лишь игравшего по контракту свои главные роли), – да, это была дыра, как в гамлетовском занавесе Любимова, которую некому было залатать.
Отъезд Любимова, как уход Л. Толстого, был не только освобождением от гонителей, запретов, но и уходом от самого себя.
А дальше все было совсем не просто.
Василий Аксенов как-то сказал, что Юрий Петрович перед каждым выпуском спектакля провоцировал скандалы. Так было в Москве, так было и в Вашингтоне, когда в 1989 году, перед премьерой «Преступления и наказания», был пущен сенсационный слух, что Любимов возвращается в Москву, что ему вернут гражданство и руководство театром. Скандал как форма борьбы с компромиссом и приспособлением ко лжи – существенная сторона его художественной личности – на Западе эффекта не произвел. Слухи подтвердились, горбачевское время вернуло Любимова на родину.
Как Москва встречала Юрия Петровича в 1989 году! Тогда и представить себе было невозможно, что его возвращение обернется не меньшими сложностями, чем те, от которых он бежал, тогда было – одно ликование: «Папа приехал», «Он опять с нами», «Это значит – «Таганка» всем еще покажет!», «В его голове тысячи планов». Его не судили, не перешептывались: могли не уезжать, была ли опасность столь велика, что нравственнее – довести сопротивление власти до конца или остаться с теми, «которых приручил» и которых не бросают?
Он жил тогда у Николая Губенко, ведущего актера театра, человека сильного, волевого, воспринимаемого всюду как лидер, автора щемящих фильмов «Подранки» и «И жизнь, и слезы, и любовь». При всеобщем одобрении именно он возглавил труппу в отсутствие мэтра и сразу же вернул эту должность истинному владельцу, когда тот оказался в России. Чета Губенко-Болотова добросовестно ухаживала за гостем, стремясь создать иллюзию собственного дома, угадывая его привычки и желания. Готовили любимые блюда, звали людей, приятных Любимову, в горячих спорах обсуждали, что делать дальше. Помню застолье в честь приезда Юрия Петровича, устроенное Жанной и Николаем, куда слетелись, помимо театральных, и все друзья Юрия Петровича, все, кто ждал этого момента. Помню эти запредельные по искренности речи и тосты и многое другое. Тогда мы знали, что возвращение Юрия Петровича произошло усилиями многих «связных» (Дупак, Смехов, письма деятелей культуры), но главным курьером «туда и обратно», ходатаем по делам в министерстве и выше был хозяин квартиры. Любимов вернулся, были возвращены гражданство, квартира, пост главы театра.
Куда все делось? «Куда исчезают утки, когда озеро замерзает?» Можно ли было предвидеть эту невероятную трансформацию крупного актера в мелкого политического деятеля? Как могли истрепаться и истлеть слова о свободе выбирать способ жизни и способ мысли? Неужто и вправду: «Он сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжег»? Сегодня Любимов не желает (не может) говорить на болезненную тему раскола труппы, противоестественного деления на своих и чужих (может сказать об одном из своих лучших актеров, прикованном к постели, что он и имени его слышать не хочет). А ни от кого другого ответа тоже не услышишь. Нет ответа на вопрос, что происходит с людьми на переломе эпох. Откуда эта необъяснимая агрессия, замещение созидательной энергии пустопорожней борьбой, уход от вечных истин в сиюминутные компроматы? Трудно воспринимать эти метаморфозы.
Эйфория возвращения спала очень быстро. Другим вернулся Юрий Петрович, обретя опыт работы со многими зарубежными мастерами, привыкнув к ритму постановок и выпусков спектаклей, иными стали актеры, отвыкшие работать с ним. Но все-таки театр существовал, держался. Хотя его взлеты – уже с одним крылом, что не может не нарушить целостности художественного организма. Раздел помещения, зарубежные гастроли вместо регулярных репетиций и репертуарных планов. Любимов ставит «Электру» и «Медею», «Живаго» и «Пир во время чумы» и много чего другого. В ту пору мы встречались с ним редко. Но составляющие этой уникальной личности неизменны, как группа крови. Мне мешает моя постоянная горячая приверженность к нему как к художнику, то ожидание чуда, с которым я приходила в театр. Поэтому я часто путаю процесс с результатом.
Но вот, как всегда непредсказуемо, наступает третий, совершенно иной виток в художественной биографии художника, теперь, когда ему за восемьдесят. Спектакль «Марат/Сад», страстный, молодой, стал праздником театральности, словно ожили «Турандот» и «Добрый человек из Сезуана». Сегодняшний Любимов соединил свой опыт встречи с мировым театром и традиции русской театральной культуры. Он ищет особую отточенность слова, обогащенного музыкой, движениями (когда танец граничит с акробатикой), современными ритмами. Он добивается взлета нового интереса к театру, завоевывает новую публику и впервые удостаивается признания властей. Нынче он живет в Москве в почете и достатке. Но поразительно, почти неправдоподобно, что Любимов, в сущности, совсем не изменился. Тот же блеск в глазах, желание возражать и противостоять, та же нетерпимость к неряшливой игре актера, тот же саркастический окрик. Получая независимую премию «Триумф» – награду за высшие достижения в искусстве – вместе с А. Германом, Г. Канчели, Ф. Искандером и В. Красовской, он будет куражиться и острить, никого ни за что не благодаря, а услышав два года спустя о награждении его призом «Золотая маска» (за честь и достоинство), покинет зал, полагая, что достоин награды как режиссер спектакля… Сейчас он поставил «Хроники» Шекспира, выпускает пушкинского «Онегина», репетирует «Театральный роман» Булгакова, он полон новых замыслов, планирует далекие гастроли. Спектакль «Марат/Сад» приглашен на Авиньонский фестиваль. Оставим его в момент высшего признания… Но кто знает, что предстоит еще пережить Мастеру и каков будет следующий аккорд в партитуре, которая пишется уже не нами, – а там, где «дышит почва и судьба»?
1997
«Самый-самый…»
Олег Меньшиков
Прилетевшая на Московский кинофестиваль мировая знаменитость Ванесса Редгрейв спросила организаторов, удастся ли ей повидаться с Олегом Меньшиковым. «Это самый крупный бриллиант вашей кинематографии. Самый-самый», – сказала она, напомнив, что артист получил премию Лоуренса Оливье в Англии, сыграв Есенина в их совместном спектакле «Как она танцевала».
«Самый-самый» – этот хор сопровождал каждое появление российского артиста в пространстве наших предпочтений. Вполне ходовое: самый загадочный и непредсказуемый, культовый, гениальный, в английской прессе – «маниакально завораживающий талант», «играет так, что сойдешь с ума» – о роли Есенина. После выбора фирмой «Лонжин» в качестве лица крупнейшей часовой фирмы Швейцарии – еще и «самый элегантный и интеллигентный русский». Потом начался спад, он вышел из парадной обоймы всеобщего восхищения, перестав быть звездой молодежного поколения. И, как часто бывает, возникли разборки: «Это не удалось», «Что-то мало играет», – поток недоброжелательства сметал все.
Как живется самому-самому в условиях преследования любовью и неприязнью? Когда возрастанию популярности сопутствует желтый PR, попытки препарировать талант сквозь щель собственных представлений о предмете?
…Я познакомилась с Олегом Меньшиковым после премьеры «Утомленных солнцем» в «Пушкинском». Пела Гурченко, разносили шампанское, аппетитные канапе. На фуршете был представлен бомонд политики, бизнеса, кумиры сцены и экрана. Постановщик Никита Михалков сиял от обвала комплиментов, фильм имел оглушительный успех.
Я подошла поздравить главного исполнителя. Молодой артист, который стоял, помахивая розовой гвоздикой, не выглядел «титулованным» – загорелый, статный, с привлекательным нервным лицом и скованными движениями. Официальный галстук. Парадный черный костюм, казалось, сидел на нем отдельно и непривычно. Удивляла и странная неловкость в общении с незнакомым человеком, полное отсутствие самодовольства. Неужто, подумалось, это он только что на экране был столь мстительно беспощаден и так трагически несчастлив? Гипнотическая сила таланта, сметая мои собственные чувства и размышления об увиденном, делала экранную историю абсолютно достоверной.
Прошел год. Мы перезванивались. Я наблюдала феерический взлет карьеры Меньшикова: вручение ему премии «Триумф», награждение несколькими Государственными премиями, «Никой» за лучшую мужскую роль; он был отмечен на фестивалях в Каннах, Торонто, на «Кинотавре», на «Балтийской жемчужине». Никита Михалков за «Утомленные солнцем» был удостоен «Оскара». Мы редко, но регулярно встречались с О. М., я бывала на его премьерах, он участвовал в наших триумфовских фестивалях в Москве, Тольятти, Париже. Одно его присутствие в фильме или спектакле гарантировало «повышенный спрос». Казалось, к этому баловню судьбы слава сама плывет в руки.
Уже тогда за всенародную любовь Олег Евгеньевич Меньшиков платил сполна. Сумасшедшая поклонница из газового пистолета в подъезде прыснула ему в лицо. Теряя сознание, почти ослепленный, он чудом дополз до дверей соседей. Известен эпизод в дагестанском ауле, когда О. М. с группой «Кавказского пленника» взяли в заложники, требуя выкупа.
О том, чего стоит профессия, может, и рассказывать не стоит? Сегодня мы уже видели уйму докадров с бесчисленными синяками на теле актрис, которых избивали и насиловали как бы понарошку, актеров, прыгающих с грузовика или идущего поезда, со сломанными ногами, выбитыми ребрами. Довольно регулярны и нервные срывы, когда съемки прекращаются, пережидая кризисное состояние исполнителя. Спектакль «Нижинский» (один из шедевров отечественной театральной антрепризы) предполагалось показать, кажется, сорок раз в Москве, столько же – в Питере. Он шел недолго. Меньшиков слег с воспалением легких, затем открылось язвенное кровотечение. Посреди съемок у Сергея Бодрова-старшего в «Кавказском пленнике» О. М. скрывает приступы болей в желудке, участвуя в тяжелейших силовых эпизодах. Кризисы прерывали и репетиции «Горя от ума», съемки фильмов «Восток-Запад» в Париже и «Сибирского цирюльника» в Москве и т. д. и т. п. До предела обнажая «мильон терзаний» своих героев, О. М. достигает вершин трагедийности за счет сбоев нервной системы. Говорят, актер много пьет. Во время работы Меньшиков не пьет никогда, в паузах может загулять, и как! Пара фоток папарацци на празднике жизни – и вот уже возникает аккомпанемент компромата СМИ, которым не дает покоя личная жизнь артиста.
Несколько лет назад Меньшиков сменил квартиру, номера телефонов, появилась охрана. Недаром на вопрос: «Что более всего не любите?» – шутит: «Телефонные звонки».
Так и живется…
Интересуюсь, есть ли люди, которые ему противопоказаны. Один вид которых вызывает желание ускользнуть. «Порой возникает острая необходимость перемены, – говорит Меньшиков, – просто не устраивает предсказуемость ситуаций. Когда наперед знаешь, чего от человека ждать в следующую минуту. И все же, – добавляет, – больнее всего для меня – потеря близких. В прямом и переносном смысле. Людей, к которым привык, с кем дружил, кому абсолютно доверял. Хотя вряд ли это обо мне думают».
Меньшиков позволяет себе роскошь жить так, как ему интересно. В кругу артистов, своих близких упоенно весел, безоглядно щедр и легок. Будет до изнеможения играть на рояле, аккомпанируя себе и гостям, хулиганить, петь все песни подряд, при особом настрое – Вертинского. Память на тексты – русские, французские, английские – феноменальная. Но в будничной повседневности может быть мрачен, оскорбительно резок, высокомерен. Как-то сказал: «Я могу быть очень жесток с самыми близкими мне людьми». Тех, кто клеится без повода, может отшить не задумываясь. Меньшиков не «пасет» своих поклонников, на престижных тусовках отмалчивается. Востребованный, перегруженный, в какие-то отрезки жизни он любит часами бродить один. В Москве, Лондоне, Париже… О. М. – человек свободный. Внутренне свободный.
У Меньшикова особый талант творить праздник. После каждой премьеры, встречи Нового года, дня рождения он непременно позовет человек пятьдесят, а то и больше, придумает вокруг себя что-то красочное, необычно нарядное и будет гулять до утра. Уйдет с последними гостями, с каждым поговорит, одарит тостом. Не помню, чтобы он кому-нибудь испортил веселье своим плохим настроением.
Меньшиков необычайно привязан к родителям. Во время одного из празднеств после премьеры, перехватив его взгляд, спросила: «Что-то случилось?» И он, продолжая держать бокал, с улыбкой на публику кивнул: «Никто же не знает, у нас два дня назад умерла бабушка. Представляете состояние мамы, как я играл спектакли все эти дни и какого труда мне стоило притащить ее сюда!»
Если вы пригласите его на концерт или просмотр: «Вам два билета?» – он смущенно попросит четыре. Потом в зале окажется человек восемь его друзей. Для новогоднего бала в Большом театре (Миллениума) дирекция подарила для жюри «Триумфа» несколько столиков. 2000-й мы с А. Вознесенским встретили с И. Чуриковой, Г. Панфиловым, Н. Ананиашвили, Г. Вашадзе, В. Васильевым и Е. Максимовой, Р. Хамдамовым и Р. Литвиновой, Ю. Башметом, М. Жванецким, А. Демидовой, В. Абдрашитовым, Ю. Давыдовым (ныне, увы, покойным) и др. – всего нас было пар пятнадцать. За нашим столиком оказались Олег Меньшиков и его спутница, милая, изящно сложенная, в длинном белом платье с глубоким вырезом. Часа через полтора начались танцы, все разбрелись по театру. И тут я увидела Меньшикова. В одной из лож первого яруса он свешивался через перила, обвитый пестрым серпантином, размахивая воздушными шарами. Он бурно веселился в компании своих друзей.
О необязательности О. М. ходят легенды. Не позвонил, не пришел, начал репетировать, потом сбежал. Договариваться с О. М. на неделю вперед бессмысленно. Можно – накануне вечером, а лучше в тот же день, часов этак в двенадцать дня. Похоже, что твердая договоренность для него – та же несвобода.
Он может месяцами отказываться от интервью, не общаться, не отвечать на заманчивые, почти обговоренные предложения будущих режиссеров или продюсеров. Видела, как в жесткой форме отшил двух молоденьких корреспонденток влиятельных газет, приехавших издалека, чтобы написать о нем.
На показ в Париже картины «Кавказский пленник» (в рамках фестиваля «Триумфа» в кинотеатре «Бальзак» на Елисейских Полях) к нам пришли Режис Варнье и Анни Жирардо, специально чтобы посмотреть фильм с О. М. После моего краткого сообщения оба выступили, чтобы предупредить публику, какого великого актера предстоит ей увидеть. Меньшиков переминался с ноги на ногу, затем промямлил несколько дежурных фраз, явно торопясь перейти к показу. После просмотра спрашиваю Варнье:
– А сценарий вашего фильма «Восток-Запад» уже готов? Когда приступаете к съемкам?
– Готов-то готов… Но, если откровенно, я до сих пор не могу понять, хочет Олег сниматься или нет.
– Как это?! Уже все газеты написали, что роль врача-эмигранта Алексея Головина играет Меньшиков.
– Да, написали. А я не могу поручиться. Вот уже сколько времени он вообще не отвечает на звонки, прячется.
И в то же время… После съемок «Полетов во сне и наяву» на пресс-конференции Роман Балаян, смеясь, рассказывал:
– Уж так меня запугивали Меньшиковым, так запугивали… Мол, он такой трудный, неточный, с капризным характером, с ним все нервы истреплешь. Полный бред! Я никогда не встречал такого дисциплинированного актера. Ни разу не опоздал, не манкировал. Если бы все были такие!
Вторит ему и Сергей Бодров-старший:
– Олег – поразительный актер. Он выполняет всю черную работу, иногда более самоотверженно, чем все. От него трудно добиться согласия, но если он решил – все будет в порядке.
Как-то пообещал мне приехать в Тольятти. Уговорила его дать творческий вечер перед показом фильма «Утомленные солнцем» – никогда его зритель не видел целый вечер одного на сцене. Да и вообще, вряд ли в жизнеустройстве О. М. существует понятие «творческий вечер». И все же он не отказался. Честно говоря, я плохо представляла, чем ему удастся заполнить эти полтора часа. Ситуация к моменту показа создалась тупиковая: назначенная дата застала О. М. в дагестанском ауле, съемки «Кавказского пленника» дошли до середины. Вырваться оттуда казалось практически невозможным, рядом – война.
Накануне далекий голос, словно из шахты: «Зоя Борисовна, в котором часу я должен быть?» – «В шестнадцать вы уже на сцене».
Он добирался тремя видами транспорта. В три – о, чудо! – уже пробовал рояль.
В тот вечер на сцене появился едва узнаваемый Меньшиков, усатый, со слипшимися, всклоченными волосами – дикий горец. А через минуту он преобразился. В пушкинских стихах боль, ревность, ирония. «Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный…»…Потом он лихо отстукивал чечетку, пел романсы под рояль. И еще минут сорок отвечал на записки. Жаль, что не записали на пленку, – в тот вечер О. М. превзошел сам себя. Но, видно, без ложки дегтя не может обойтись ни один его успех.
После выступления О. М. во время показа картины произошло событие, выбившее всех нас из колеи. Фильм и выступление Меньшикова заканчивались по плану к семи вечера. Уже в 19.30 начинался концерт Евгения Колобова с оркестром. Обожаемый маэстро всегда притягивал фанатов самой элитной категории. И надо же такому случиться, что Меньшикова держали на сцене дольше минут на сорок, оркестр Колобова прибыл, когда показ «Утомленных» подошел к кульминационной точке. Колобовские музыканты устроили «бунт», пригрозив, что, если их немедленно (то есть вовремя) не выпустят на сцену, они развернутся и уедут из Тольятти. Директор коллектива Лена Опоркова вбежала бледная в зал и зашептала мне горячечно: «Зоя Борисовна, надо останавливать картину, оркестр ничего не хочет принимать во внимание». «Это исключено!» – ужаснулась я. Но Лена, перепуганная грядущим скандалом со своим коллективом, самовольно включила свет в зале и объявила публике, что фильм прерывается по техническим причинам, показ будет возобновлен завтра. Публика сидела не шелохнувшись, зал не освобождали, зритель терпеливо ждал устранения технической поломки. Что творилось!
За кулисами народ отчаянно переругался, администраторы сваливали вину друг на друга, «пострадавший» Меньшиков не шумел вовсе. Он бросил мне на ходу: «Зоя Борисовна, не волнуйтесь, они этого не сделают». Сделали.
Утром участники фестиваля толпились в вестибюле, поджидая Меньшикова, он улетал обратно в Дагестан. Я прийти не рискнула, мне стыдно было за вчерашнее, казавшееся неслыханным кощунством.
Он постучался в номер, улыбающийся, гладко выбритый, с зачесанными назад мокрыми волосами, в руках бумажный кулек.
– Зашел попрощаться. Вот, пробежался до рынка, орехи купил. Угощайтесь… – Уже в дверях обернулся: – Да не расстраивайтесь вы так! Что ж теперь, всю жизнь будем про это вспоминать? Ну случилось, ну бывает… Да, кстати, по программе сегодня Башмет? Жаль, что отбываю. Поклон ему.
Отбыл как ни в чем не бывало. Что это, маска, железная самодисциплина? Не может же Олег Евгеньевич забыть, как оборвали «по техническим причинам» показ фильма в момент, когда его герой присутствует при избиении в машине легендарного комдива Котова! Может, это характер. Позже он так же простит Колобову, что его дирекция, пообещав труппе «814» репетиционный зал, откажется предоставить его перед самой премьерой. Он забудет обиду, посчитает случившееся сутки назад далеко ушедшим. Он выбросит из своего сознания невезучий день, несостоявшийся проект, даже обман. Для него вчерашнего не существует.
А две обиженные корреспондентки, прибывшие в Тольятти, которым О. М. наотрез отказал, все же опубликовали не взятые ими интервью. Они скалькировали его ответы со сцены на записки зрителей.
Что ж, обязательный и необязательный, высокомерный и доступный – кому как повезет с Меньшиковым.
«Что быть должно, то быть должно», – полагает Александр Блок. О. М. – фаталист. Уверяет, что ждет счастливого случая, который развернет его жизнь в новом направлении. Мол, каждый замысел ждет своего часа…
Случайностям Олег Евгеньевич действительно обязан многим в жизни.
Грибоедов давно будоражил воображение Меньшикова. К моменту выбора «Горя от ума» своей первой режиссерской работой он знал наизусть весь текст. «Не образумлюсь, виноват…» Во мне сразу что-то начинало вибрировать, – признается. – А когда читал монолог Чацкого, шевелились волосы, ничего не мог поделать, не мог остановить слез». Когда-то был разговор и о роли самого Грибоедова в биографическом фильме, задуманном Никитой Михалковым. Не состоялось, быть может, отложилось…
Отдыхая в Португалии, Меньшиков натыкается в журнале «Другие берега» на полный текст «Горя от ума» и мгновенно заболевает пьесой. Однако судьба режиссерского дебюта Меньшикова была драматична. Рижская премьера, а затем челябинская сопровождались шквальным успехом, я была тому свидетелем. Переулок, в котором помещался латвийский Русский театр, закидали цветами, после спектакля занавес поднимался несчетное количество раз… В тот вечер вместе со зрителями Риги я наблюдала, быть может, один из самых счастливых дней Олега Меньшикова. Опьяненные, веселились до утра, с сумасшедшим куражом объяснялись в вечной верности, вспыхивали романы, невероятные замыслы.
А через несколько недель в Москве грянул гром. Без единой репетиции, на необжитой сцене, с плохо пригнанными декорациями и с заболевшим актером спектакль «Горе от ума» провалился. На сцене Театра имени Моссовета он прошел со многими непростительными накладками и был встречен прессой враждебно: «Вяло, беспомощно», «Прославленный Меньшиков повторяется», «Пусть не лезет в режиссуру». В кулуарах шептались, что новоявленному постановщику еще и мстили: проигнорировал показ для прессы, дал рецензентам плохие места.
Не пройдет и месяца, как многие из тех критиков, вновь посмотрев «Горе…», скажут: «Неужто это тот же спектакль? Здорово же он его переработал». А были всего лишь дополнительные прогоны, уточнения мизансцен. Появились и похвалы «классиков» – С. Юрского, М. Ульянова, М. Козакова, Г. Волчек, П. Фоменко и др.
О своем новом амплуа Меньшиков говорит: «Это, безусловно, этап. Самый важный этап в моей творческой жизни. По всем статьям. Ведь я попробовал себя в другой профессии, которую уже, смею сказать, полюбил и с которой не собираюсь прощаться… Видно, эта профессия режиссерская давно во мне сидела, надо было взять и рвануть себя в это. Новое качество – ответственность за других людей, эта тяжелая ноша оказалась для меня очень радостной. Ты же не просто там имеешь дело с артистами разного возраста, характеров, судьбы. Понимаете, я же претендую на вторжение во внутренний мир человека, с которым работаю. Я не просто претендую, я, так сказать, лезу в этот мир… Сейчас я могу сказать, – добавляет он, – что «Товарищество» – уже коллектив. Не знаю, будет ли он завтра, но он есть. Я не ставил задачи сохранения этого коллектива, новую кровь вливать надо обязательно, это должен быть постоянный процесс. А когда мы начинали, общности не было. Несколько друзей и знакомых: Павел Каплевич, Галя Дубовская, Сережа Мигицко, Таня Рудина, Саша Сирин, конечно, Игорь Охлупин, остальные – сплошь чужие люди. Их надо было приручить… Самое главное – было заставить их всех, весь актерский состав, поверить в меня».
