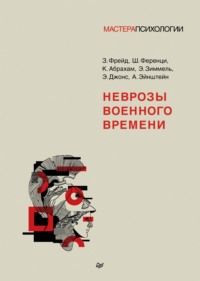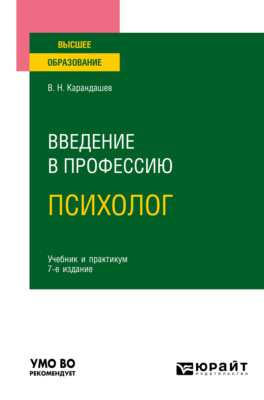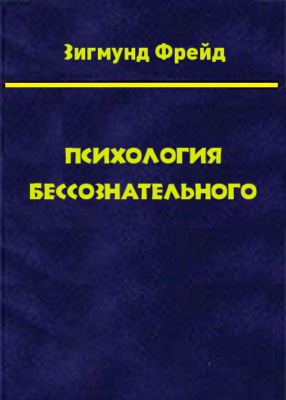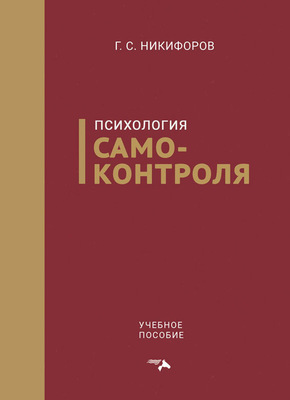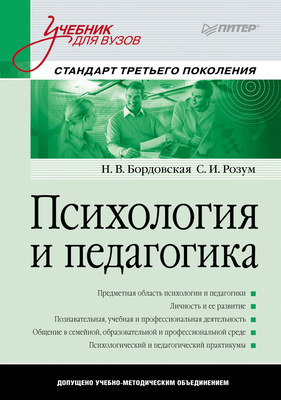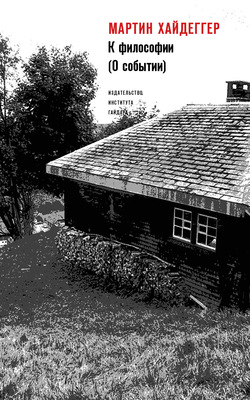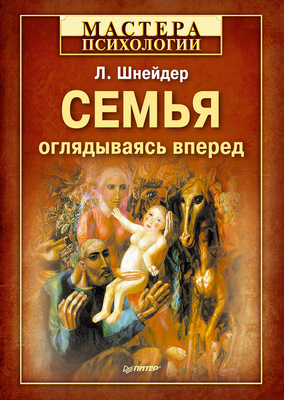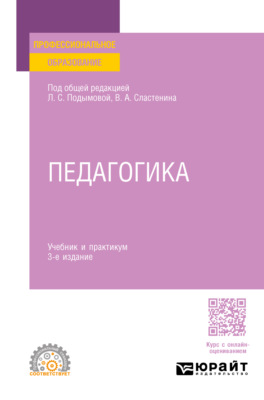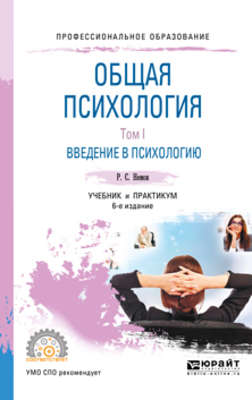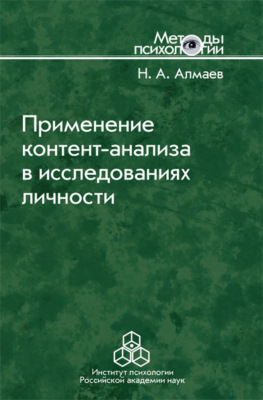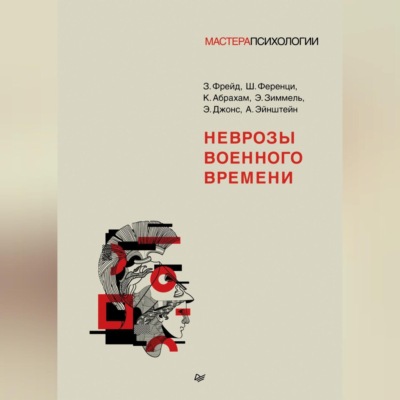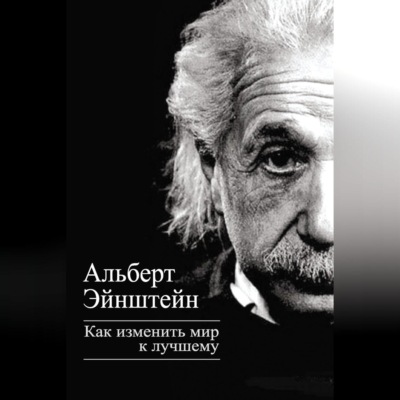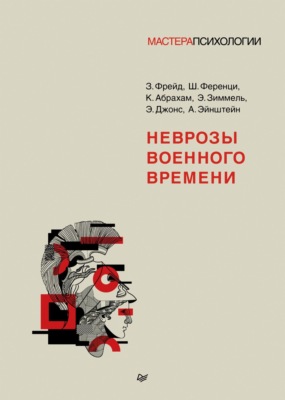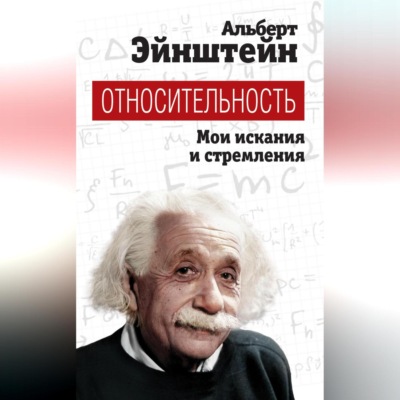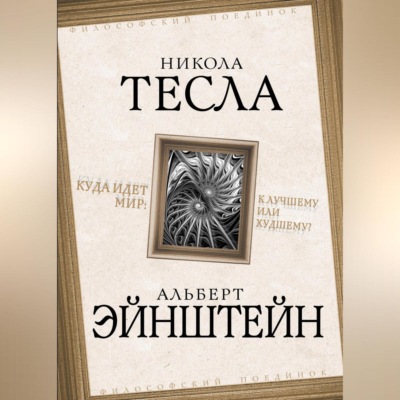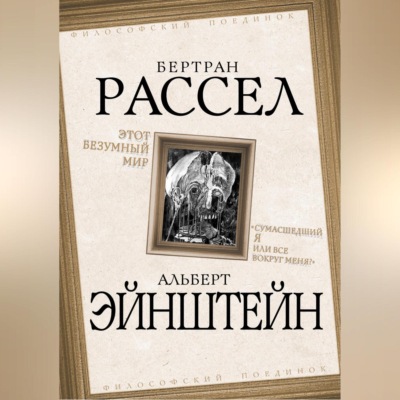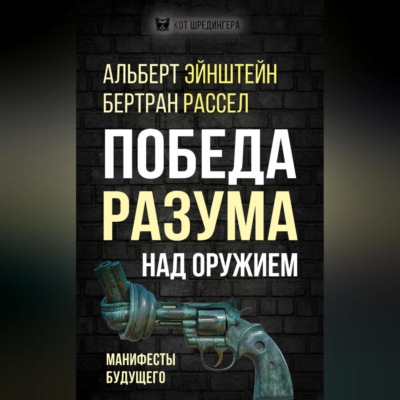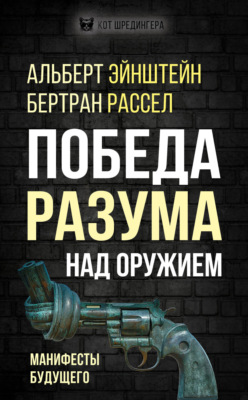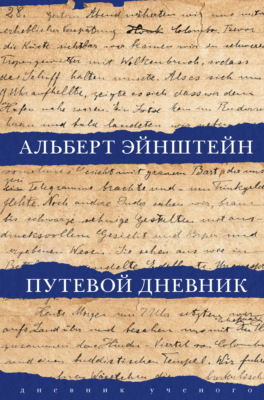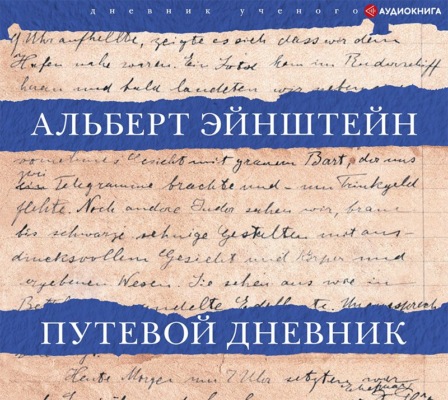Loe raamatut: «Неврозы военного времени», lehekülg 2
Одним из первых, кто высказался против чисто органически-механического понимания военных неврозов, был Штрюмпель, который, кстати, давно указывал на определенные психические моменты в причинности травматических неврозов. Он сделал правильное наблюдение, что во время железнодорожных катастроф тяжелыми формами невроза заболевают в большинстве случаев лица, заинтересованные в возможности доказательства причиненного травмой ущерба, например застрахованные от несчастных случаев и желающие получить большую пенсию или предъявившие иск о возмещении ущерба железнодорожной компании. Однако такие же или гораздо более сильные потрясения оставались без долгосрочных последствий для нервной системы, если несчастный случай произошел во время занятий спортом, по собственной неосторожности и вообще при обстоятельствах, с самого начала исключающих надежду на возмещение ущерба, так что пациент был заинтересован не остаться таковым, а поскорее выздороветь. Штрюмпель утверждал, что вызванные потрясением неврозы всегда вторичны, чисто психогенны и развиваются из представлений о наживе. Он дал врачам добрый совет не принимать всерьез жалобы таких больных, как поступал Оппенгейм, а как можно скорее вернуть их к жизни и работе путем установления как можно более меньшего размера пенсии или ее лишения. Рассуждения Штрюмпеля произвели большое впечатление на медицинский мир еще в мирное время, появилось понятие истерии борьбы за получение пенсии, но к страдающим ей относились ненамного лучше, чем к симулянтам. Теперь Штрюмпель считает, что военный невроз также является неврозом наживы, служащим намерению пациента сбежать из армии с максимально возможной пенсией. Соответственно, он призывает к строгой оценке и освидетельствованию неврозов у военнослужащих. Содержанием патогенных представлений всегда является желание (материальной компенсации, избегания заражения и опасности), и путем аутосуггестии это желание обусловливает устойчивость симптомов, сохранение болезненных ощущений и нарушений двигательной иннервации.
Такой ход мыслей Штрюмпеля с самого начала кажется психоаналитику весьма вероятным. По опыту ему известно, что невротические симптомы вообще представляют собой исполнение желаний, он также знаком с устойчивостью неприятных душевных переживаний и их патогенностью, но все же ему придется упрекнуть Штрюмпеля в однобокости мыслей, выражающейся, к примеру, в неуместном подчеркивании патогенного представления и пренебрежении аффективностью, а также в полном игнорировании бессознательных психических процессов, в чем, впрочем, его уже успели упрекнуть Курт Зингер, Шустер и Гаупп. Штрюмпель предвидит, что такие клинические картины неврозов можно прояснить лишь исследованием психики, но не сообщает нам своей рабочей методики в данном вопросе. Вероятно, он понимает под таким исследованием просто подробный расспрос травмированного о его материальном положении и мотивах стремления к получению пенсии. Однако нам придется возразить против называния им такого исследования «разновидностью индивидуального психоанализа». На это название имеет право только способ, строго следующий точно указанной методике психоанализа.
Аргументом в пользу психогении военных неврозов является тот поразительный факт, что, как сообщают Мёрхен, Бонхёффер и другие, травматические неврозы почти никогда не наблюдаются у военнопленных. Они не заинтересованы в долгой болезни в плену и не могут рассчитывать на чужбине на компенсацию, пенсию и сочувствие окружающих. В плену они чувствуют себя временно защищенными от опасностей войны. Теория механического потрясения никогда не сможет объяснить нам эту разницу в поведении наших собственных солдат и военнопленных.
Доказательства психогении быстро накапливались. Шустер и многие другие наблюдатели указывали на несоответствие между травмой и ее последствиями для нервной системы. Тяжелые неврозы развиваются после минимальных потрясений, тогда как тяжелые ранения, связанные как раз таки с сильным потрясением, обычно остаются без последствий. Еще резче подчеркивает несоответствие между травмой и неврозом Курт Зингер. Он даже пытается объяснить это обстоятельство с психологической точки зрения: «При молниеносной психической травме, испуге, парализующем ужасе речь идет о затруднении или невозможности приспособления к раздражителю». При серьезном ранении облегчение от внезапного роста напряжения наступает легко, но без наличия серьезного внешнего повреждения сверхсильный аффект находит разрешение «путем внезапной абреакции в телесных проявлениях». Как показывает введенное Фрейдом понятие абреакции, при разработке данной теории автор, должно быть, мысленно представлял себе психоанализ. Она напоминает воссоздание теории конверсии Брейера – Фрейда. Однако вскоре выясняется, что Зингер слишком рационалистически представляет себе такой процесс; он считает симптоматику травматического невроза лишь результатом усилия больного найти понятное объяснение смутному осознанию своей болезни. Таким образом, работы этого автора еще далеки от психодинамического подхода, как его понимает психоанализ.
Затем Гауптман, Шмидт и другие обратили внимание на отношение к времени при развитии симптомов военного невроза. При механическом повреждении самый сильный эффект должен наблюдаться непосредственно после силового воздействия. Вместо этого можно заметить, что непосредственно после травмы пострадавшие зачастую предпринимают соответствующие меры для своего спасения: отправляются в перевязочный пункт и так далее и только после попадания в безопасное место теряют сознание, а затем развиваются симптомы. У отдельных личностей симптомы появляются только тогда, когда им приходится возвращаться на передовую после восстановления. Шмидт справедливо отсылает такое поведение больного к психическим моментам. Он считает, что невротические симптомы развиваются только после того, как состояние временного помрачения сознания прошло и пострадавший заново переживает опасную ситуацию в своей памяти. Мы бы сказали, что такой раненый ведет себя подобно матери, которая хладнокровно и с презрением к смерти спасает свое дитя от надвигающейся смертельной опасности, но теряет сознание после совершения такого поступка. Обстоятельство, что спасенным здесь выступает не кто-то чужой, а собственная драгоценная личность, не важно для оценки психологической ситуации.
Из тех авторов, которые особо подчеркивали психогению травматических неврозов на войне, я в первую очередь процитирую Нонна. Не только потому, что он неизменно считал симптомы вызванных потрясением военных неврозов истерическими, но и потому, что он также был способен с помощью гипноза и суггестии заставить на мгновение исчезнуть тяжелейшие симптомы военного невроза и вызвать их снова. Таким образом исключалась возможность даже только «молекулярного» нарушения в нервной ткани; расстройство, которое могло быть устранено воздействием на психику, не могло быть никаким, кроме как психическим.
Данный терапевтический аргумент произвел очень сильное воздействие. Страсти в механистическом лагере постепенно поутихли, и предпринималось немало попыток интерпретировать свои прежние утверждения с позиции психогенетики. С этого момента спор продолжился среди представителей отдельных психологических подходов.
Как представить себе способ действия психических моментов и психогенное развитие клинических картин, настолько тяжелых, что они проявляются на физическом плане?
Здесь вспоминается прежний взгляд Шарко, что испуг и воспоминание о нем могут вызывать у человека физические симптомы, подобно состоянию гипноза или аутогипноза, когда их намеренно вызывает постгипнотическая команда гипнотизера.
Это повторное обращение к Шарко означает не что иное, как прекращение бесплодных спекуляций и возвращение к первоисточнику, из которого в конечном итоге появился психоанализ, ведь нам известно, что первые исследования психического механизма истерических феноменов Брейером и Фрейдом начались непосредственно под влиянием клинического и экспериментального опыта Шарко и Жане. Истерики страдают от реминисценций: это первое основное положение зарождающегося психоанализа фактически является продолжением, углублением и обобщением концепции вызванного потрясением невроза Шарко. Общей у обоих авторов является идея о длительном действии внезапного аффекта, о постоянной связи его определенных проявлений с воспоминанием о пережитом.
Сравним теперь взгляды германских неврологов на генезис военного невроза. Гольдшейдер говорит: «Внезапные и пугающие впечатления могут оставлять после себя аффекты непосредственно и с помощью ассоциаций представляемой жизни, такой картине воспоминаний соответствуют повышающие и понижающие возбудимость последствия. Таким образом, именно эмоция, испуг придают травме такое распределение и фиксацию последствий нервного раздражения, которых никогда не имел чисто соматический раздражитель». Нетрудно заметить, что это описание заимствовано из теории травмы Шарко и теории конверсии Фрейда.
Ему вторит Гаупп: «Несмотря на все усилия современной экспериментальной психологии, на все углубленные и уточненные методы неврологического и психиатрического обследования остается далеко немалая часть, в которой мы достигаем диагностической цели еще не путем такого точного неврологически-психиатрического обследования имеющегося состояния, а лишь его соединением с тщательным сбором анамнеза, с кропотливым исследованием патогенеза выявленного состояния». Гаупп даже явно принимает гипотезу Фрейда, описывая военный невроз как бегство от психических конфликтов в болезнь, и с намеком на психоанализ заявляет: «Все же гораздо лучше постулат о влиянии бессознательного на сознание и телесность, чем психологическая теория, которая с помощью цитат из анатомии и физиологии пытается завуалировать тот факт, что путь от телесного к душевному и обратно нам совершенно неведом». А в другом месте он идет еще дальше и ставит психоаналитический постулат бессознательного в центр всей проблемы: «Стоит только допустить, что в теле происходят душевные процессы, даже если они не находятся в поле зрения сознания, как большинство предполагаемых трудностей исчезает». Здесь следует упомянуть и Гауптмана, который понимает травматический невроз как психогенно переработанное душевное заболевание, запускаемое эмоциональными моментами, а его симптомы – как «дальнейшую бессознательную обработку эмоциональных моментов в смысле открытых путей».
Бонхёффер, по-видимому, полностью принял комплексный психологический опыт психоанализа: травматические симптомы он считает «психоневротическими фиксациями, проявлениями расстройства сознания, которые позволяют отделить аффект от содержания представления под влиянием тяжелейших эмоций».
В своем превосходном сводном докладе по литературе о травматических неврозах Бирнбаум констатирует, что во многих объяснениях этих неврозов (например, в теории наживы Штрюмпеля) психогения желания подпадает под истерию, и говорит: «Но если психогения желания, фиксация желания и так далее является существенной частью истерии, то она непременно относится к описанию болезни». Однако этому требованию уже давно отвечает психоанализ: как известно, он вообще рассматривает невротические симптомы как выражения бессознательных желаний или реакции на такие желания.
Фогт также ссылается на «знаменитую фразу Фрейда», согласно которой угнетенная душа совершает бегство в болезнь, и признает, что «возникающее вследствие этого принуждение часто бывает скорее бессознательным, чем сознательным». Липманн разделяет симптомы травматического невроза на непосредственные последствия психической травмы и на «ориентированные на цель психические механизмы». Шустер говорит о симптомах, вызванных «подсознательными процессами».
Дамы и господа, таким образом, вы видите, что опыт изучения военных невротиков мало-помалу завел дальше открытия души – он почти привел неврологов к открытию психоанализа. Слыша о ставших столь привычными в новейшей литературе по этому предмету понятиях и взглядах – об абреакции, бессознательном, психических механизмах, отделении аффекта от его представления и т. д., – мы мним себя принадлежащими кругу психоаналитиков, и все же ни одному из этих исследователей не пришел в голову вопрос, нельзя ли после всего этого опыта военных неврозов использовать психоаналитический подход и для объяснения обычных неврозов и психозов, известных нам по мирному времени. Специфичность военной травмы единодушно отрицается; повсюду говорится, что военные неврозы не содержат в себе ничего, что добавило бы что-то новое в известную до сих пор симптоматологию неврозов, и вообще Мюнхенская конференция германских невропатологов официально потребовала отмены слова и понятия «военный невроз». Но если неврозы мирного и военного времени по существу идентичны, то невропатологи не смогут избежать применения всех этих представлений об эмоциональном потрясении, устойчивости патогенных воспоминаний и их продолжающемся действии из бессознательного и так далее также при объяснении обычной истерии, невроза навязчивых состояний и психозов. Вы будете удивлены, насколько легко вам будет следовать проторенному Фрейдом пути, и пожалеете, что так упорно сопротивлялись его наставлениям.
На вопрос о диспозиции к заболеванию военным неврозом авторы давали противоречивые ответы. Большинство придерживается взглядов Гауппа, Лауденгеймера и др., согласно которым большинство военных невротиков изначально являются невропатами и психопатами, а потрясение играет лишь роль спускового крючка. Бонхёффер прямо говорит: «Психогенный запуск психопатологического состояния является критерием предрасположенности к дегенеративным заболеваниям». Такого же мнения придерживаются Фёрстер и Ендрассик. С другой стороны, Нонн считает решающим фактором в развитии военного невроза не столько конституцию человека, сколько вид вредоносного воздействия. В этом вопросе психоанализ занимает посредническую позицию, которую часто и четко уточнял Фрейд. В ней говорится об «этиологическом ряде», в котором предрасположенность и причина травмы взаимообусловлены. Легкая предрасположенность и сильное потрясение могут иметь те же последствия, что и незначительная травма с сильной диспозицией. Однако психоанализ не удовлетворяется теоретической ссылкой на такую взаимосвязь, а пытается – с успехом – разложить сложное понятие диспозиции на более простые элементы и установить конституциональные факторы, обусловливающие выбор невроза (особую склонность к заболеванию тем или иным видом невроза). Я еще вернусь к вопросу о том, где именно психоанализ ищет особую диспозицию к заболеванию травматическим неврозом.
Литературу по симптоматологии военных неврозов практически невозможно объять. Например, о симптомах истерии Гаупп делает следующие замечания: «Приступы от легких до тяжелейших, вплоть до длящегося часами выгибания дугой, иногда с эпилептической частотой и непредсказуемым течением, астазией-абазией, опорно-двигательными аномалиями вплоть до ходьбы на четвереньках, всех вариантов тика и дрожательного тремора, параличей и контрактур моноплегического, гемиплегического и параплегического типа, глухоты и глухонемоты, заикания и косноязычия, афонии и ритмичного лающего кашля, слепоты с присутствием блефароспазма и без такового, нарушений чувствительности всех видов, затем прежде всего сумеречных состояний в никогда невиданном количестве и в сочетании с физическим раздражением и симптомами раздражения и выпадения». Вы видите, что это напоминает музей кричащих картин истерических симптомов, и любой, кто наблюдал такое, категорически отвергнет мнение Оппенгейма о том, что чисто невротические картины редко встречаются при травматических военных неврозах. Шустер обращает внимание на многочисленные вазомоторно-трофические явления, по его мнению, они больше не являются психогенными. Тем не менее психоанализ согласится с теми, кто допускает возникновение и этих симптомов – подобно вызванным гипнозом изменениям тела – отчасти посредством психики. И наконец, все авторы указывают на изменение настроения, апатию, повышенную возбудимость и так далее после травмы.