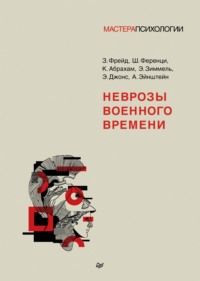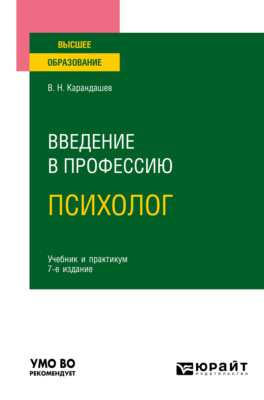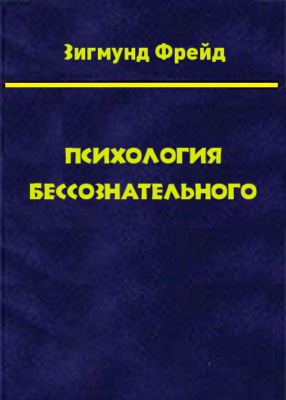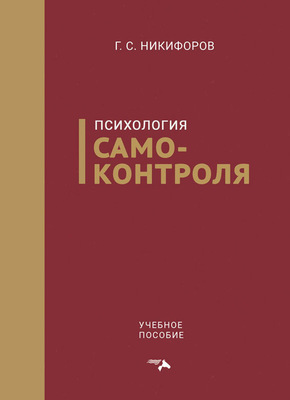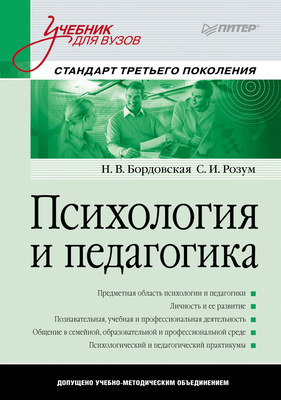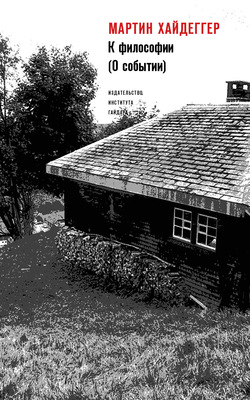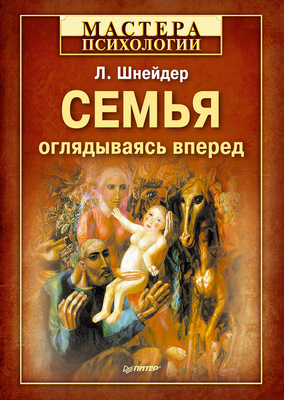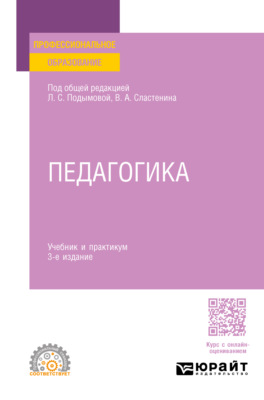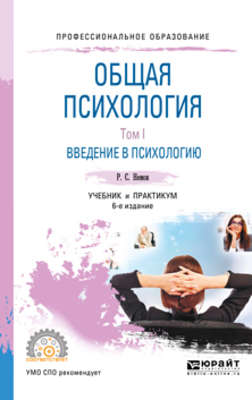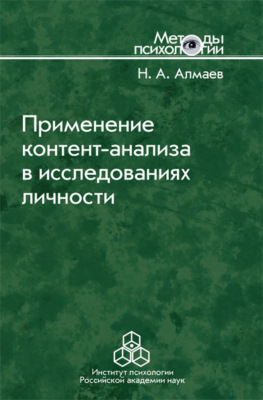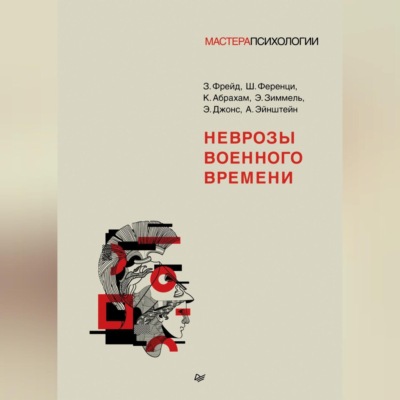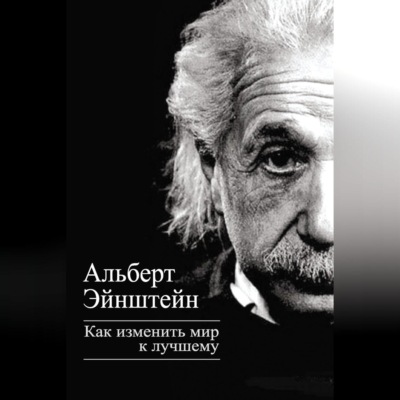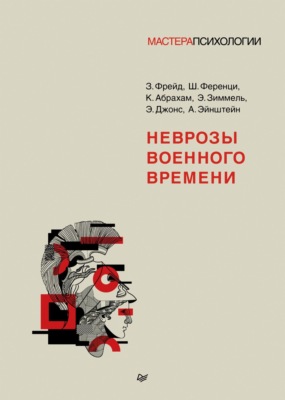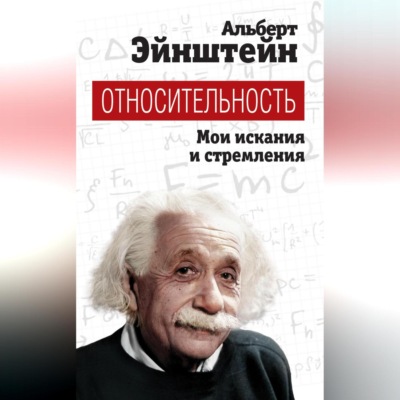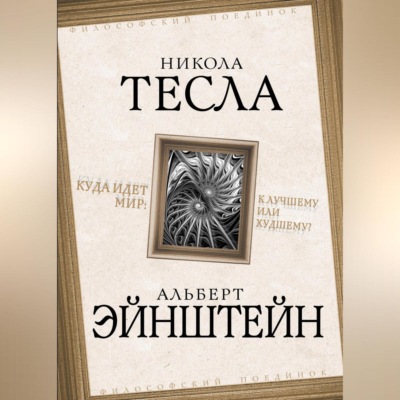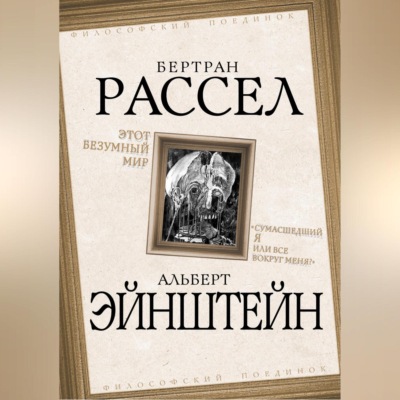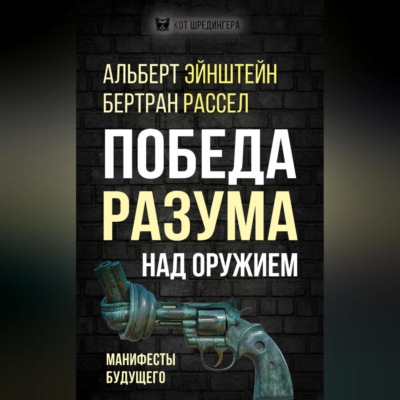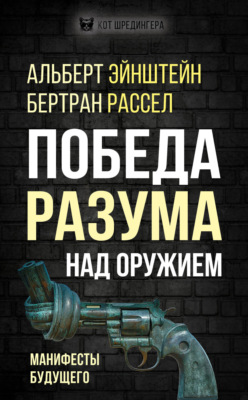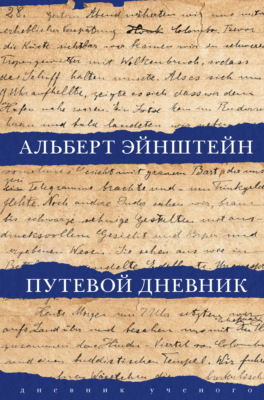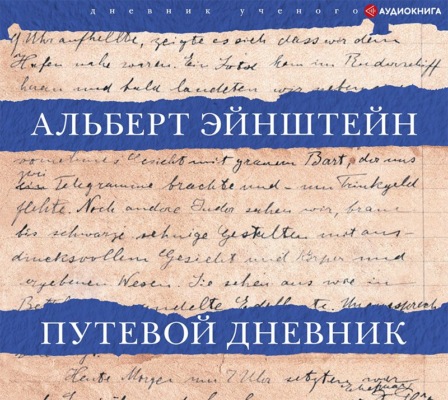Loe raamatut: «Неврозы военного времени», lehekülg 3
Из этого хаоса картин симптомов своей частотой и заметностью выделяется дрожательный невроз. Всем вам знакомы ковыляющие по улицам и вызывающие жалость люди с трясущимися коленями, шаткой походкой и своеобразными двигательными нарушениями. Они производят впечатление беспомощных, неизлечимых инвалидов, тем не менее опыт показывает, что и такая клиническая картина травмы имеет чисто психогенный характер. Единственной суггестивной электризации, нескольких сеансов гипноза часто бывает достаточно, чтобы сделать таких людей вполне дееспособными, пусть даже временно и условно. Эти расстройства иннервации наиболее точно исследовал Эрбен. Он обнаружил, что нарушения появляются или усиливаются только тогда, когда соответствующие группы мышц выполняют или намереваются выполнить какое-то действие. Его объяснение заключается в том, что «импульс воли прокладывает путь спазму», однако оно является лишь физиологизирующим перефразированием сути дела. Психоанализ подозревает здесь психическую мотивацию: активизацию бессознательной встречной воли, противодействующей сознательным намерениям. Заметнее всего она, по-видимому, у тех пациентов Эрбена, которые не могут идти вперед из-за сильных конвульсий, но способны выполнять гораздо более сложную задачу – идти назад без всякого тремора конечностей. Эрбен и здесь держит наготове сложное физиологическое объяснение, забывая, что движение назад, которое как раз отдаляет пациента от опасных целей и в конечном счете от линии фронта, не нуждается в противодействии какой-то встречной воли. Сходная интерпретация требуется и для прочих типов нарушений ходьбы, в частности для напоминающего пропульсию при дрожательном параличе неконтролируемого быстрого шага многих военных невротиков. Эти люди не оправились от воздействия испуга и до сих пор бегут от опасностей, которым когда-то подверглись.
Такие и прочие подобные наблюдения привели затем нескольких исследователей, в том числе и не психоаналитиков, к предположению, что эти нарушения являются не прямыми следствиями травмы, а психическими реакциями на нее и служат тенденции к защите от повторения неприятного переживания. Ведь нам известно, что и нормальный организм имеет в своем распоряжении такие меры защиты. Симптомы испуга (застывание на месте, дрожь, запинки в речи) кажутся полезными автоматизмами, напоминая некоторых симулирующих смерть при угрозе жизни животных. И если Бонхёффер понимает такие травматические нарушения как фиксацию средств выражения пережитой пугающей эмоции, то Нонн идет дальше, обнаруживая, что «истерические симптомы отчасти представляют собой реминисценцию врожденных защитных механизмов, подавление которых происходит не в обычной степени или вообще не происходит как раз у тех индивидуумов, которых мы называем истериками». Согласно Гамбургеру, наиболее часто встречающийся тип нарушения стояния, ходьбы и речи в сочетании с дрожательным тремором являет собой «комплекс представлений о телесной и душевной слабости, несостоятельности и эмоциональном истощении», а Гаупп считает те же симптомы впадением в инфантилизм и пуэрилизм, то есть в состояние очевидной беспомощности. Некоторые авторы прямо говорят о «пригвождении» в положении тела и иннервации при травме.
Ни от одного знатока психоанализа не ускользнет, насколько авторы, сами не сознавая того, близки здесь к психоанализу. Описываемые ими «фиксации выразительных движений тела» являются, по существу, просто перефразированием истерической конверсии Брейера Фрейда, а впадение в атавистические и инфантильные способы реакции означает не что иное, как подчеркнутый Фрейдом регрессивный характер невротических симптомов, все из которых, по его мнению, означают лишь возврат к уже преодоленным этапам развития онто- и филогенеза. В любом случае мы решительно заявляем, что теперь неврологи решили толковать определенные картины нервных симптомов, то есть соотносить их с бессознательным психическим содержанием, что до появления психоанализа никому не приходило в голову.
Теперь обращусь к тем немногим авторам, которые занимаются военными неврозами с позиций психоанализа.
Штерн опубликовал работу о психоаналитическом лечении военных неврозов в военных лазаретах. Я не смог ознакомиться с оригиналом работы, но из докладов вижу, что автор исходит из позиции вытеснения и находит ситуацию с воюющим солдатом особенно подходящей для вызова неврозов вследствие требуемого по службе подавления аффектов. Шустер признает, что исследования Фрейда, «что бы о них там ни думали», пролили свет на психогенез неврозов; они помогли обнаружить скрытую, трудноуловимую, но тем не менее имеющуюся связь между симптомом и психическим содержанием. Мор лечит военные неврозы катартическим методом Брейера и Фрейда, заставляя больных повторно переживать критические ситуации вместе с абреакцией аффектов посредством вызова пугающей эмоции. Единственным, кто до сих пор методично занимался психокатарсисом военных неврозов, был Зиммель, который сам сообщит конгрессу о своем опыте. В заключение упомяну о собственных исследованиях психологии военных неврозов, в которых я пытался распределить клинические картины травм по категориям психоанализа.
В этом контексте я хотел бы сослаться на весьма оживленную дискуссию, развернутую среди авторов по вопросу о том, может ли силовое воздействие носить психогенный характер, если пострадавшее лицо сразу же впало в бессознательное состояние. Гольдшейдер и многие другие до сих пор считают, что воздействие на психику в таком случае невозможно, а Ашаффенбург настаивает, что бессознательное состояние защищает от заболевания неврозом. Нонн справедливо возражает против такого взгляда, указывая на бессознательные душевные потоки, которые могут оказывать воздействие на психику, несмотря на нахождение в бессознательном состоянии. Л. Манн даже придерживается мнения – по-видимому, основываясь на теории гипноза Брейера, что бессознательное состояние не предохраняет от заболевания, а предрасполагает к неврозу, препятствуя разрядке аффектов. Наиболее разумный взгляд на этот спорный вопрос выражает Орловский, указывающий на возможность того, что обморок сам по себе может быть психогенным симптомом, бегством в бессознательное состояние, имеющим целью избавить пострадавшего от сознательного переживания неприятной ситуации и ощущений.
Для нас, психоаналитиков, вполне понятна возможность образования психогенных симптомов даже в обморочном состоянии. Данную проблему могли поднять лишь авторы, представляющие преодоленную психоанализом точку зрения, отождествляющую душевное с сознательным.
Не знаю, дамы и господа, сложилось ли и у вас из этого ряда цитат и ссылок (представляющих собой лишь выборки из литературы) впечатление, что среди авторитетных неврологов в отношении к учениям о психоанализе началось сближение, пусть даже и непризнанное. К слову, недостатка в открытом признании тоже нет, вспомню, например, высказывание Нонна, согласно которому опыт Фрейда по обработке в бессознательном получил интересное освещение и подтверждение благодаря войне.
Но в той же фразе признания содержится уничижительный приговор психоанализу: Нонн утверждает, что мнение Фрейда о почти исключительно сексуальной основе истерии потерпело окончательное поражение благодаря войне. Мы больше не можем оставлять без ответа пусть даже частичный отказ от психоанализа, мы также считаем это утверждение весьма голословным. Согласно теории психоанализа, военные неврозы относятся к группе неврозов, при которых подвергается воздействию не только генитальная сексуальность, как при обычной истерии, но и предшествующая стадия, так называемый нарциссизм, любовь к себе, как и в случае раннего слабоумия и паранойи. Теперь следует признать, что сексуальная основа этих так называемых нарциссических неврозов не так очевидна, особенно для тех, кто отождествляет сексуальность с генитальностью и разучился использовать слово «сексуальный» в старом платоновском понимании эроса. Но психоанализ возвращается к этой древней точке зрения, частично исследуя в разделе «эротики» или «сексуальности» все нежные и чувственные отношения человека к другому и к собственному полу, эмоциональные переживания в отношении друзей, родственников и ближних вообще и даже аффективное отношение к собственному «я» и телу. Нельзя отрицать, что те, кому чужд такой подход, не так легко могут убедиться в правильности сексуально-теоретического предположения Фрейда именно в отношении нарциссического невроза (например, травматического). Мы хотели бы посоветовать им пристальнее взглянуть на обычную (нетравматическую) истерию и невроз навязчивых состояний и строго придерживаться предложенного Фрейдом метода свободных ассоциаций, толкования сновидений и симптомов. Так им будет гораздо легче убедиться в правильности сексуальной теории неврозов; тогда понимание сексуальной подоплеки военных неврозов придет само собой. В любом случае торжествовать над ниспровержением теории сексуальности несколько преждевременно.
К слову, в пользу участия сексуальных факторов в формировании симптоматики, даже при травматическом неврозе, говорит также сделанное мной наблюдение, что у травматических невротиков генитальное либидо и потенция преимущественно сильно нарушены, а во многих случаях могут даже полностью пропасть на долгое время. Пожалуй, одного этого положительного заключения достаточно для демонстрации поспешности вывода Нонна4.
Дамы и господа! Вышесказанным я мог бы выполнить основную задачу моего доклада по критическому рассмотрению литературы о военных неврозах с точки зрения психоанализа. Тем не менее я воспользуюсь столь редкой возможностью, чтобы поделиться с вами некоторым личным опытом и раскрыть аспекты, помогающие объяснить эти состояния с позиции психоанализа.
В психической сфере травматическо-невротического царят ипохондрическая депрессия, пугливость, тревожность и сильная раздражительность со склонностью к вспышкам гнева. Большинство этих симптомов можно отнести к повышенной чувствительности «я» (особенно ипохондрию и неспособность выносить физическое или душевное нежелание). Такая сверхчувствительность связана с возвратом интереса и либидо пациента от объектов к «я» вследствие пережитого однажды или неоднократно потрясения. Это приводит к застою либидо в «я», выражающемуся как раз в таких анормальных, ипохондрических органических ощущениях и сверхчувствительности. Нередко такая возросшая любовь к «я» приводит к своего рода инфантильному нарциссизму: больным хочется, чтобы их, подобно детям, баловали, окружали заботой и жалели. Таким образом, можно говорить о возврате к стадии детского эгоизма. Такое возрастание соответствует уменьшению объектной любви, а зачастую и половой потенции. Разумеется, изначально склонный к нарциссизму человек с большей вероятностью заболеет травматическим неврозом, но никто не застрахован от него полностью, поскольку стадия нарциссизма образует важную точку фиксации в развитии либидо каждого человека. Часто встречается сочетание с другими нарциссическими неврозами, особенно с паранойей и деменцией.
Симптом тревожности является признаком вызванной травмой потери уверенности в себе. Он наиболее выражен у людей, которые во время взрыва были опрокинуты на землю, отброшены ударной волной или контужены, надолго потеряв вследствие этого уверенность в себе. Характерные нарушения ходьбы (астазия-абазия с тремором) являются защитными реакциями против повторения страха, то есть фобиями, в понимании Фрейда. Случаи с преобладанием этих симптомов классифицируются как истерии страха. С другой стороны, симптомы, которые просто фиксируют ситуацию (иннервация, положение тела) в момент взрыва и т. д., являются с точки зрения психоанализа истерически-конверсионными. Естественно, при тревожности также присутствует диспозиционная готовность к отклику: легче заболевают люди, которые, несмотря на свойственную им трусость, из честолюбия принудили себя к совершению подвигов. Нарушение ходьбы вследствие истерии страха одновременно является возвратом к инфантильной стадии неспособности к хождению или обучения ему.
Склонность к вспышкам гнева и ярости также является в высшей степени примитивным способом реагирования на непреодолимое насилие. Такие вспышки могут усиливаться до уровня эпилептических припадков и представляют собой наблюдаемые в младенчестве более или менее Heскоординированные аффективные разряды. Более мягкой разновидностью такой несдержанности является недисциплинированность, присутствующая практически у каждого больного травматическим неврозом. Такая повышенная раздражительность также обусловливает чрезмерную потребность в любви и нарциссизм.
Так что общий портрет большинства травмированных соответствует личности запуганного вследствие пережитого ужаса, избалованного, несдержанного, плохого ребенка. К этому образу относится и чрезмерное внимание к хорошей еде, свойственное почти всем травмированным людям. Плохое обслуживание в этом отношении способно вызвать у них сильнейшие аффективные вспышки вплоть до припадков. Большинство не хочет работать, а желает, чтобы их содержали и кормили, словно детей.
Так что дело здесь не только в том, чтобы, как считал Штрюмпель, придумывать себе болезни ради сиюминутной выгоды (пенсии, возмещения ущерба, дезертирства с фронта), это лишь вторичные выгоды от болезни; первичным мотивом является само удовольствие от пребывания в безопасной гавани когда-то неохотно покинутой детской ситуации.
Как нарциссические, так и тревожные проявления болезни имеют свою атавистическую модель, возможно даже, что невроз иногда вызывает способы реакции, не играющие никакой роли в индивидуальном развитии (танатоз, традиционные способы передвижения и защиты детенышей у животных). Это как если бы слишком сильный аффект больше не мог уравновешиваться нормальным путем, а должен был регрессировать к уже изжившим себя, но виртуально присутствующим механизмам реакции. Я не сомневаюсь, что многие другие патологические реакции окажутся повторениями изжитых способов адаптации.
Среди еще не до конца изученных симптомов травматических неврозов отмечу сверхчувствительность всех органов чувств (светобоязнь, гиперакузию, сильную боязнь щекотки) и страшные сновидения. В таких снах снова и снова переживаются реально пережитые (или напоминающие их) страшные вещи. Я следую предложению Фрейда интерпретировать эти кошмарные и страшные сны, а также пугливость больных днем как самопроизвольные попытки исцеления. Они шаг за шагом доводят в своей совокупности невыносимый, непонятный, а потому превращающийся в симптомы испуг до сознательной абреакции, способствуя тем самым восстановлению нарушенного равновесия в психике.
Эти несколько моих собственных замечаний могут послужить вам, дамы и господа, доказательством того, что психоаналитический подход по-прежнему открывает новые грани там, где остальная неврология нам помочь не в силах.
Однако от методического психоанализа многих случаев можно ожидать полного объяснения и, возможно, даже радикального излечения данных патологических состояний.
* * *
Пока данный доклад готовился к печати, я прочитал интересную работу профессора Э. Моро, гейдельбергского педиатра, о «первом триместре», то есть особенностях первых трех месяцев жизни ребенка: «Если положить недавно рожденного младенца на пеленальный столик, – сказано там, – и хлопнуть по подушке руками с обеих сторон, вызывается своеобразный двигательный рефлекс, выражающийся приблизительно так: обе слегка напряженные руки симметрично разводятся в стороны, а затем снова почти полностью смыкаются по дуге. Подобное двигательное поведение одновременно демонстрируют и обе ноги». Мы бы сказали, что Моро искусственно вызвал легкий невроз испуга (или травматический невроз). Примечательно здесь то, что данный рефлекс испуга младенца (младше трех месяцев) содержит намек на естественный рефлекс обхватывания, характерный для «переносимых младенцев», то есть детенышей животных (обезьян), вынужденных с помощью выраженного рефлекса обхватывания крепко держаться пальцами за мех лазающей по деревьям матери (см. рисунок). Мы бы назвали это атавистическим возвратом способа реакции на внезапный испуг5.
Tasuta katkend on lõppenud.