По воле случая в этом году в рамках ДП мне снова досталась книга о малоизученном заболевании и изолированных пациентах. Первой была "Пробуждения" Оливера Сакса, повествующая о поисках лечения паркинсонизма. Шилин же, не сложно догадаться, написал про проказу. Двадцатые и, вероятно, немножко тридцатые годы прошлого века. Советский лепрозорий, затерянный где-то в степи. Здоровый двор и больной двор — четкое разделение территорий для персонала и пациентов, между ними пустырь и липовая аллейка. Звучит уже грустно и совсем не похоже на санатории для больных туберкулезом в книгах Ремарка. Еще печальней от того, что в те годы с вариантами лечения и профилактики совсем приходилось экспериментировать, лепра и сейчас не до конца изучена, а уж тогда...
Однако читателю повезло, что Шилин застал один из переходных периодов, когда прокаженных снова начинали считать за людей, а болезнь все больше пытались изучить. Но что-то я совсем вперед паровоза бегу. "Прокаженные" — это роман, собранный из небольших очерков, каждый из которых рассказывает историю из жизни лепрозория, пациентов и врачей. Эти очерки связаны между собой, как и судьбы несчастных персонажей, нет прямо совсем очевидного разделения, как у того же Сакса. Во время основного действия книги главным врачом является доктор Туркеев, о таких людях обычно говорят "женат на работе". Он увлечен своей деятельностью, искренне хочет помочь победить страшную болезнь, понять ее механизм действия, о своих пациентах он по-настоящему заботится. Но на другой чаше весов остается его семья — жена и дочь. И если честно, мне чуждо такое пренебрежение родными людьми. Ладно еще предлагать жене переехать из города в лепрозорий — она женщина взрослая, в состоянии отвечать за свои действия, но как можно вообще подвергать опасности заражения своего ребенка? С другой стороны, возможно, это такой хитрый авторский ход, чтобы показать, как сильно повлияло на доктора освобождение от чуждых ему ценностей, а заодно и вплести в сюжет намек на более подходящие отношения.
Детям в книге, кстати, отведено отдельное место. И все, что касается их, для меня выглядело совсем дико. Детей лепрозория на страницах книги насчитывается семь, четверо из них болеют. Но они живут с мыслью, что так и надо, они еще не понимают, что может быть иначе. Если бы была возможность изолировать малышей с рождения, они все могли бы остаться здоровенькими, вот только доктор не может найти, куда их пристроить. Сердце сжимается, когда читаешь о детских играх с саранчой или попытке Ромашки сходить в город. Но это еще полбеды, совсем страшно становится, когда все же появится возможность спасти оставшихся троих ребят. Конечно, отдать собственных детей кому-то, понимая, что вряд ли еще когда-нибудь увидитесь с ними, — то еще испытание, но держать их при себе, рискуя обречь их на тяжкие муки, рискуя их жизнью — тут я даже цензурного определения найти не могу. Больше всех шокирует Катя, которая сопротивлялась до последнего и восклицала: "Ведь для себя я рожала-то, а не для чужих?". Еще одна совершенно чуждая мне вещь — рожать себе игрушку какую-то, не дарить жизнь новому человеку, а рожать для себя. Правда, чем дальше я читала, тем больше думала: у Катерины-то явное психическое расстройство, ибо ее кидает из истерик в смирение и обратно, да и ценности уж больно специфичные. Если Шилин отталкивался именно от этого (или срисовывал с реальной девушки), то это хороший ход, но если он сам выдумал такую героиню и посчитал такое поведение нормальным, то автор сильно далек от психологии. Есть еще и третья история, связанная с детьми, которая делает физически больно читающим. У одной из героинь за пределами лепрозория осталась дочь, но за три десятка лет она написала маме лишь однажды и ни разу ее не навестила. Тридцать лет каждое воскресенье женщина выходила на дорогу встречать единственную родную кровинушку, тридцать лет каждое воскресенье она надевала лучшее свое платье, тридцать лет каждое воскресенье она возвращалась ни с чем. Да лучше бы дочь эта заболела проказой, чем несчастная Феклушка. Истории о взрослых заболевших не все наполнены трагизмом, но хватает с лихвой унижений и ущемлений со стороны здорового населения. Диву даешься, в какое зверье могут превратиться соседи, коллеги, друзья. И ведь нет сто процентной уверенности, что в подобных условиях мои близкие и знакомые повели бы себя лучше, да я даже в себе сомневаюсь, если честно. Нельзя сказать, кстати, что в изоляции люди прямо все друг к другу прониклись симпатией, нет уж, некоторым и в лепрозории достанется. Не так уж просто перестать бояться, когда никто толком не знает, как передается хворь, одинакова ли твоя и соседская зараза или все же разные.
Вернусь все же к переходному периоду. Шилин тщательно прорисовывает не столько характеры людей, сколько их быт. Если читатель ранее не представлял, как жили люди в условиях подобной изоляции, то после этой книги картинка вырисовывается ясная. При этом перед нами предстает три временных пласта. Есть информация о том, что в самом начале века жилось похуже, что к сбору информации о болезнях относились с пренебрежением, что лечили совсем уж глупыми методами (банками, к примеру). После становилось все лучше и лучше, а к концу книги и вовсе зажили почти прекрасно: и более действенное лечение нашли, и условия для работы, культурного отдыха и хобби создали, и свадьбы стали гулять с размахом — всё, как у людей, если бы не изоляция, но и с ней хотели покончить. Конечно, в тридцатых годах более пессимистичную литературу точно бы запретили, но все же ведь и книги о реальной болезни куда легче читать, если к концу окрас повествования светлеет.
Интересно, что в книге, написанной в начале тридцатых, практически отсутствует политическая пропаганда. То есть если глубоко копнуть, то, наверное, и можно будет найти какие-то тонкие намеки, но на поверхности же наоборот, к примеру, выступает комичная сцена с инструктором комсомола, приехавшим проводить партийную работу. Шилин как-то максимально изолирует лепрозорий не только от народа, но и от политики. Это совершенно отдельный мирок со своими правилами и даже своим судом за тяжкое преступление. Эти люди оказывались даже в стороне от военных действий, что уж говорить обо всем остальном. Хотя, конечно, я бы с интересом почитала про жизнь в лепрозориях в более тяжелые годы: конец тридцатых, ВОВ, послевоенное время. Были бы они все под тем же своим куполом или все эти ужасы и их коснулись?
Георгий Шилин, к слову, не был врачом и даже не болел проказой. Очерки эти он начал писать после того, как навестил в лепрозории заболевшего друга детства и провел на больничном дворе несколько дней. Писатель так впечатлился, что для работы над произведением еще не один раз наведывался в этот "санаторий", изучал информацию о лепре, общался с докторами и посетил съезд врачей-лепрологов. Благодаря его упорному труду, нам предстает реалистичная и подробная картина борьбы с проказой, а из-за того, что автор не являлся медиком, а работал в газете, текст получился живым, человечным и понятным для любого читателя. И знаете, мне как-то обидно, что в наши дни издательства год за годом переиздают уже надоевшую классику, коей и так завалены полки всех магазинов, но с 1965 года ни разу никто не выпустил в печать "Прокаженных". А ведь как бы было хорошо, если бы эта книга вышла сейчас и с комментариями о том, как за эти годы продвинулись наука и медицина в области изучения и лечения лепры, да и про современные лепрозории хотелось бы почитать подробней, в Беларуси их, к счастью, нет, но в той же России до сих пор четыре действующих, в один из которых и ездил Шилин.
Роман спервоначалу может восприниматься мрачно и негативистски — уж больно "славная" слава окружает лепру и лепрозории (сразу вспоминается рассказ Джека Лондона "Кулау-прокажённый"). Но что мы, обычные здоровые (трижды тьфу!) люди, знаем о проказе и о реальной жизни людей, носящих на себе печать этой загадочной болезни? Пожалуй, кроме чувства страха и холодка вдоль хребтины больше ничего и нет, только слухи и расхожие мнения людей, далёких от темы.
Роман "Прокажённые" предоставляет нам великолепную возможность с головой погрузиться в мир лепрозория образца первой трети двадцатого века. Вместе с доктором Туркеевым мы проследим судьбы нескольких десятков больных, узнаем больше о сути заболевания, о поисках методов его лечения, о прихоти Случая и о едва ли не чудесных историй исцелений. И в очередной раз подивимся тому, как избирательна бывает Судьба-Кысмет, и как многое всё-таки зависит от самого человека.
А ещё порадовала книга тем, что хотя написана в уже советские социалистические времена, однако такого выпукло-навязчивого соцреалистического оттенка в ней нет — ну да, есть комсомольский активист, есть пара упоминаний о партии большевиков, один раз фамилия Ленина встречается в тексте (причём все эти советизмы, иногда кажется, с долей иронии там помещены) — вот и вся политпропаганда. А может просто ещё не расцвело тогда махрово, 1932 всё-таки не 1937 и более поздние времена...
В общем, если тема любопытна или просто симпатизируете русской литературе раннего советского периода, то можете смело брать и читать.
В нашем многоуровневом мире много чудес, жизнь не проста в своем проявлении. Все сопровождается сложными процессами. Вспыхивают эпидемии , некоторые заболевания исчезают , оставляя след в истории медицины и мы о них знаем только из книг, к счастью. Кто-то болеет, кто-то умирает, жизнь все время в движении. Процессы не останавливаются в живом мире. Где-то в степи стоит больничка , где лечат прокаженных. Тяжелейшая болезнь, от которой страдают , передают потомству. Время действия книги -20 годы прошлого столетия. В то время люди и не болеющие встречались "прокаженные". Но книга о другом. На этом островке в степи живут люди. И тут похлеще антиутопии будет, ведь в этом сплоченным одной болезнью , живут люди. От них отказался мир, но они имеют право жить, рожать детей, в основном таких же больных . У каждого человечка, даже у прокаженного , есть свои мечты, они умеют любить и ненавидеть,но лучше всего у них получается надеяться. Надеяться на выздоровление. Эта непростая книга , о тонкой грани ...между жизнью беззаботной и тяжелым недугом, в борьбе против которой вели врачи всего мира. Герой этой книги доктор Туркеев , его главной целью служит не только борьба за выздоровление, но и борьба за то, что бы человек , который болен проказой, не потерял себя как личность.
Проказа – кажется чем-то из библейских преданий. Ты – прокаженный и тебя изгоняют в пустыню из города. А вот оказывается и в советской социалистической реальности существовали лепрозории – территория размещения прокаженных. И это интересно с точки зрения того, что строительство социалистического государства, если ты прокаженный, можно отложить. Тебя даже расстрелять по-человечески не могут, даже ели хочешь, даже если заслужил – ведь ты уже в тюрьме собственного заболевания и никакая революция не может заинтересовать человека, отчаянно ищущего избавления от почти неизлечимого заболевания. Даже палач не всегда захочет ехать в этот мир опустошения и обреченности. Это примиряет меня с политикой – на пороге смерти она не важна.
Отчаяние – вот главная сила, пропитывающая население прокаженного двора, описываемого в книге. Каждый осознанно или не очень ведет свою стратегию выздоровления. Для кого-то это любовь, для кого-то полное погружение в возможности медицины. Кто-то находит ресурс в философии и изучении возможностей собственного тела, кто-то в ведении дневника, а иные просто отваживаются жить повседневность без особых надежд. Особенно семьи смешанные, где больны не все, но живут они вместе и если кто-то из членов семьи выздоровеет, а кто-то останется больным – как решить, уехать из заточения лепрозория на волю или остаться с близкими. Это примиряет меня с моими небольшими повседневными недомоганиями – они не лишают меня присутствия в социуме.
Дети – вот главная дилемма. Здоровые дети, оказавшиеся с больными родителями - как решить этические вопросы – где им быть. Рядом с мамой или в мире здоровых людей, получать образование и строить жизнь. А если выздоровел один ребенок, а второй нет? А если совсем малыш заболел, как объяснить ему, что у него нет будущего? А как любить одинаково больного и здорового? Это примиряет меня с материнством – мне просто тяжело с моими умными здоровыми детьми, мне не надо бороться за ресурсы ради из выживания и интеграции в общество.
Во всей этой истории важно понимать, как появляются люди, которые готовы к истории инклюзивного общения. Я однажды была в интернате для инвалидов и престарелых. Глубина моего существа трепетала от страза – а как и я окажусь здесь. Навсегда. Именно это слово пронизывает отчаянием все пространство книги – вечность. А ведь кровь в жилах еще гуляет, еще и любовь, и свадьбы, и музыка, и дружба бродят, а тебя уж списали, изолировали, забыли. Забыли дети, родители, друзья. Ведь даже если ты просто инвалид и одинок – кажется, это заразно. Это скучно, это тягомотно, это жалко. А если твоя болезнь, твое одиночество имеет способ переходить к другому человеку, то как к тебе быть добрым, как любить, как приходить, как обнимать и давать радость человеческого контакта? Так могут только смелые, святые, и по-настоящему добрые люди. На страницах книги таких – единицы. Это примиряет меня с собой – я максимально предельна в попытках быть честной. Я не отворачиваюсь, но и предел свой вижу и признаю.
Инклюзивность, исключительность, иррациональность этого мира способны понять только те, кто готов жертвовать. Например, главный герой доктор Туркеев. Ровная многолетняя работа без срывов и эмоциональны ям с очень тяжелым контингентом – признак профессионализма помноженного на человечность. Это примиряет меня с реальностью – я надеюсь и вижу, что есть люди-мостики, которые смелее меня и отважнее. Они если будет нужно, они будут любить там, где я не могу и не умею.
Гордыня – это всегда камень преткновения. И даже если вы не судите библейскими категориями, она способна сожрать психику, независимо от того, как вам пришлось прожить свою жизнь – в зале ожидания, в зале прокаженных, в зале успешного успеха иди в зале мнимого дзена. Везде, оказывается, есть место человеческим отношением – дети рождаются в тюрьмах, в ссылках, вне официальных браков, в бедности, в богатстве, там где работают схемы социальных проектов, там где строят советсвкий союз, тамгде рушат советский союз. Это примиряет меня с жизнью – она продолжается несмотря на наши иллюзии того, что мы знаем и контролируем этот мир.
Непростая книга, не из приятных и радостных, но и не скажу, что крайне угнетающая. Конечно, бесконечные истории больных и болезни удовольствия уж точно не приносят, постоянные язвы, рубцы, уродства, гангрена, но почему-то меня всё это не очень задело. Я вообще пока не поняла, как к этой книге отношусь, уж очень сильно всё изменилось за прошедшие 90 лет. Да, конечно, в 30-е годы, когда она была написана, это было страшно, проказа пугала, действенных способов борьбы с ней практически не было, несмотря на прогресс врачи работали всё ещё бессистемно и неопределенно, потому что болезнь была недоисследована, недопонята, а, соответственно, и четких путей решения проблемы не было. Да и проблема здесь не только медицинская, потому что люди везде люди, они хотят работать, любить, рожать и растить детей, петь песни и просто жить, желательно среди людей, а не в "загоне" для больных. Но что делать, есть болезнь хоть и не самая заразная, но всё-таки риск есть. Обида на здоровых, на то, что прокаженных "выбрасывают" из жизни, боятся, гнушаются. Да, такая обида есть и она вечна. Но как быть здоровым? Как быть если ты знаешь, что сидящий рядом человек может заразить тебя дрянью, которую вряд ли вылечат? Да, шансов мало, может быть один на миллион, но этот шанс есть. Кто захочет рисковать? Вечный вопрос должны ли больные люди жить изолированно или они могут жить свободно, наверное, не разрешим. Ох, чувствую, полетят в меня тапки, но я за карантин, подвергать риску сотню ради того, чтобы один мог жить в комфортных условиях, неправильно. А дети? Отбирать ли здоровых детей у больных родителей? Это вообще невозможный вопрос. С одной стороны, ну что может дать больной двор ребенку? Ему надо учиться, жить дальше, нормально расти, но это детский дом и никто не знает, как там всё получится. А здесь? Мама с папой, но ни школы, ни развития, вообще ничего, да и мама с папой прямо скажем не в лучшем виде. Как быть? А бог его знает. История хоть и не слишком "коммунистическая", но всё-таки радужная, не уверена, что лепрозории 30-х годов действительно так жили, чисто, сыто, тепло и добро. Совсем не уверена. В те годы о здоровых то гражданах не слишком волновались, что уж говорить о больных. Но это история, и Шилин рассказал её так, как видел, его право. А жизнь идет. Всюду. Даже в лепрозории.
А я-то думала, что проказа практически исчезла с лица Земли! Ан нет, "цветёт" себе и продолжает пугать своей загадочностью и ужасающим обликом. В Бразилии самый высокий уровень заболеваемости проказой, а за ней поспевают и другие страны Южной Америки и Азии. Даже в России периодически регистрируют случаи проказы.Специфической профилактики лепры с помощью вакцин не существует, поэтому никто не застрахован от этой жуткой напасти. Особенно нужно остерегаться путешественникам по странам Южной Америки и Азии. Роман основан на реальных событиях и судьбах больных людей из лепрозория, в котором автор проживал. Написан отлично и не перегружен медицинскими терминами. А самое главное - он снимает "пелену" ужаса перед проказой. Да, автор делает всё, чтобы уничтожить лепрофобию у читателя, но при этом подогревает естественную осторожность по отношению к таким больным. Например, он неоднократно упоминает, что заразиться проказой можно только при многолетнем тесном проживании с больным. А в следующих главах рассказывает о множестве случаев, когда заражение происходит от непродолжительного контакта и даже опосредованного контакта, то есть при общении со здоровым человеком, находящемся в контакте с больным лепрой! И как автор пытается при этом уничтожить лепрофобию??? Это невозможно. Утверждения автора словами доктора Туркеева настолько противоречивы, что понять истинное положение вещей простому обывателю трудно. Автор вводит читателя в заблуждение - это факт. Это, пожалуй, единственный недостаток романа. Попробую доказать обоснованность осторожного отношения к больным лепрой на основе фактов. Бактерии лепры и бактерии туберкулёза относятся к одному роду с одинаковыми свойствами. Про туберкулёз мы знаем много и создаём множество туберкулёзных диспансеров, делаем прививки новорожденным детям. И даже прививка от туберкулёза не даёт 100%-ной гарантии того, что человек не заболеет. Почему? Потому что в невосприимчивости к туберкулёзу огромное значение имеют загадочные индивидуальные особенности организма. Даже будучи привиты, мы не стремимся вступать в контакт с больным туберкулёзом в открытой форме! Это безумие. А с проказой дело обстоит ещё хуже, потому что нет прививки от неё, нет даже какой-никакой защиты. Вы никак не сможете узнать, как ваш организм отреагирует на бактерий лепры, с которыми он никогда не встречался. Сколько бы не говорили о том, что медицинский персонал редко заражается туберкулёзом или лепрой - это из разряда самоуспокоения! Нам, студентам медицинской академии, читали лекции по туберкулёзу профессора, перенесшие открытую форму заболевания. Автор в романе описывает случаи заражения персонала лепрой. Так что все медики, работающие с туберкулёзных диспансерах и лепрозориях рискуют своим здоровьем и жизнью.
Роман написан в 1930м году, что очень чувствуется по стилю всей книги, и манере изложения. Место действия - отдельно взятый лепрозорий. Кто не знает - место для постоянного (редко - временного) содержания больных проказой. Болезнь эта - страшна. Если сейчас есть способы лечения, и способы ее обнаружения, то в стародавние времена, да даже и во времена написания книги, больные сгнивали. Да и способы лечения были очень специфичные : введение бальзамического масла через множественные уколы шприцем, втирание камфоры, ну и обработка трофических язв и удаление гангренозных конечностей. Изуродованные , заживо гниющие, постоянно страдающие люди просто ссылались умирать в лепрозории, потому что вылечивался очень мало кто. НО (!) , не поверите - коммунистический строй все изменил! больных стало меньше, а лепрозории вдруг превратились в санатории, просто "райские кущи"... И об этом речь в книге - очерки из жизни главного врача больницы, жителей, приезжающих и сочувствующих. Есть и вставки, явно навеянные личными посещениями Шилиным лепрозория (друга он там навещал). Как можно понять , просто посмотрев описание болезни - веселых историй у проживающих нет. До сих пор ведь живо иносказательное название изгоев общества "прокаженными" , то есть такими ,которых все гонят, и никому то они не нужны. Примеров таковых в книге множество: дети отказываются от родителей, родители тайком отсылают подальше детей, влюбленные расстаются, и тп и тд. Есть и другие примеры , простого героизма Человека. Меня , однако , занимал другой вопрос. На что готов любящий ради любимого? и к какому лагерю примкнула бы я, или (к примеру) мой муж ,сын ,узнав что кто-то из близких болен плохо излечимой и заразной болезнью?.. Книга , пугающая своей обыденностью. Могу привести пример : Кто смотрит Хауса , вспомнит диагноз "ГРАНУЛЕМАТОЗ" , так вот это как раз и есть проказа... Мы просто не замечаем ее в жизни.
Лепра (болезнь Хансена, хансеноз, хансениаз; устаревшие названия — прока́за, elephantiasis graecorum, lepra arabum, lepra orientalis, финикийская болезнь, satyriasis, скорбная болезнь, крымка, ленивая смерть, болезнь Святого Лазаря и др.) — хронический гранулематоз (хроническое инфекционное заболевание), вызываемый микобактериями Mycobacterium leprae Mycobacterium lepromatosis [1], протекающий с преимущественным поражением кожи, периферической нервной системы, иногда передней камеры глаза, верхних дыхательных путей выше гортани, яичек, а также кистей и стоп. Лепра известна человечеству с древних времен. Эта болезнь упоминается еще в Библии (Книга Левит, Паралипоменон и др.), а также, вероятно, в папирусе Эберса. О ней писал Гиппократ, по всей видимости, путая лепру с псориазом. Знали о проказе и в Древней Индии. В Средневековье болезнь приняла широкое распространение, возникли многочисленные лепрозории. Матвей Парижский установил в начале XIII века их число в Европе в 19 тысяч. Первый известный лепрозорий был в Харблдауне. Эти учреждения располагались в черте монастырей, и пока больные лепрой поощрялись к жизни в них, это было также хорошо для их собственного здоровья, как карантин. Возбудитель лепры (Mycobacterium leprae) был открыт в 1873 в Норвегии Г. Хансеном. Он работал в госпитале святого Йоргеса (основан в XV столетии) в Бергене. Сейчас это музей, возможно лучше всего сохранившийся лепрозорий в Северной Европе. Бактерия, открытая Хансеном, стала первой, известной человечеству, из возбудителей болезней у людей Лепра передается через отделяемое из носа и рта во время тесных и частых контактов с людьми, не проходящими лечения.[2] За 1990-е годы в мире число больных проказой снизилось с 10—12 млн до 1,8 млн. В основном лепра распространена в тропических странах. Но хотя число случаев заболеваемости в мире продолжает падать, болезнь по-прежнему широко распространена в некоторых районах Бразилии, Южной Азии (Индия, Непал), Восточной Африки (Танзания, Мадагаскар, Мозамбик) и западной части Тихого океана. Бразилия занимает первое место, Индия — второе и Бирма — третье. В 2000 году ВОЗ перечислило 91 страну с эндемичными очагами лепры. Индия, Бирма и Непал составили вместе долю в 70 % случаев заболеваемости. Все еще хотите в экзотические страны?... Инкубационный период :среднем 3-5 лет, но встречаются различные исключения. Максимального значения — 2505 человек — число зарегистрированных больных лепрой в России достигло в начале 1960-х годов. По состоянию на 2007 год в России официально около 600 больных лепрой, из них госпитализированы 35 %, остальные находятся на амбулаторном лечении и под диспансерным наблюдением. За 1996—2007 годы в России отмечено 14 новых случаев заболеванияВ Российской Федерации в настоящее время действуют четыре лепрозория: 1.- г. Астрахань 2.- Зелёная Дубрава Сергиево-Посадского района 3. - ФГУЗ Терский лепрозорий — Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Терский 4. пос. Синегорск Краснодарского края. Будьте осторожны, соблюдайте меры предосторожности и сохраняйте свое здоровье...
Проказа, или лепра, одна из немногих древних болезней, прошествовавшая через века и успешно добравшаяся до 20 века, по той причине, что медицина очень долго не могла найти средства для ее лечения. Лепра не культивируется «в пробирке» и ее очень долгое время не могли привить животным, а значит, способы лечения приходилось искать, экспериментируя на самих пациентах. В начале 20 века, а именно этот период описан в романе, ученые знали всего лишь одно средство для лечения проказы, которое давало хорошие результаты – чольмогровое масло, добываемое из семян дерева, растущего в Индии.
Во все времена люди панически боялись проказу и пытались максимально изолировать больных от общества. Их сжигали на кострах, скармливали тиграм, изгоняли в безлюдные места, обрекая на голодную смерть. Со временем, общество стало более гуманным и появились первые лепрозории, которые тем не менее больше напоминали места заточения, чем лечебные учреждения.
Действие романа Георгия Шилина происходит в одном из советских лепрозориев, расположенном где-то в степи в первые годы Советской власти. Это поселение, где больным предоставляются жилые дома, здесь есть своя пекарня, кухня, швейная мастерская, те, кому позволяет здоровье, занимаются сельским хозяйством. Медицинский и обслуживающий персонал проживает тут же, на территории лепрозория, но в другой зоне- на «здоровом дворе». При этом, они свободно общаются с больными, заходят в их дома, без масок и специальных костюмов, ведь они хорошо знают болезнь, с которой имеют дело, знают, что на самом деле заразиться ей достаточно трудно.
Помимо того, что в книге очень интересно показаны судьбы многих обитателей «больного двора», она еще несет миссию просвещения. Сейчас это уже не так актуально, но в то время, когда была написана книга, люди продолжали заболевать проказой и отношение к ним общества было сильно предвзятым. Люди толком не знали, что это за болезнь, чем она вызывается и как передается. И поэтому панически боялись. В книге приводится несколько примеров, когда излечившиеся пациенты вернулись в лепрозорий, потому что не смогли наладить свою жизнь во внешнем мире, одно только упоминание о бывшей болезни делало их изгоями.
Автор высказывает интересную мысль, что подобное поведение здоровых людей не уменьшает, а наоборот, увеличивает опасность распространения болезни. Никому не хочется быть изгоем, и заболевший будет до последнего скрывать свою болезнь, будет убеждать самого себя, что это просто ушиб, или царапина, или что-то еще, но никак не проказа. Он будет вести привычный образ жизни, заражая своих близких, до тех пор, пока болезнь не зайдет слишком далеко. Будь общество более терпимым, всего этого можно было бы избежать. На ранних стадиях болезни ее можно было бы лечить амбулаторно. Соблюдая определенные правила поведения и ряд ограничений больные проказой могли бы жить среди здоровых людей, не подвергая их никакой опасности, а излечившись, вернуться к привычной жизни.
В романе дается достаточно много информации о самой болезни, что будет интересно всем, интересующимся медициной. Надо, конечно, учитывать, что книга написана в 30-х годах прошлого века, когда о возбудителе проказы знали уже достаточно много, но вот даже ее заразность многими врачами еще ставилась под сомнение. С тех пор медицина сделала заметный шаг вперед и сейчас болезнь взята под полный контроль.
Это страшная книга. Страшна своей темой и теми последствиями, которые она сделала со мной. Прочитав два года назад книгу на подобную тему я почему-то решила, что лепра - болезнь, которая лечится на ура, ее почти не существует в природе и все лепрозории давно закрыты. Однако Шилин со своими советскими прокаженными в один миг разрушил все мои познания. Еще в период, когда товарищ Ленин правил судьбой народов, далеко в России, вдали от деревень и городов разместился лепрозорий для больных проказой. В те времена весь персонал и больные надеялись, что вот-вот найдется лекарство, способное изгнать из организма этот недуг. Здоровый и больной дворы жили, сосуществовали, можно сказать, выживали. В произведении уместилось много людских судеб, разных, разношерстных, но объединенных одной бедой. Болезнь не щадит ни стар, ни млад, вводит читателя в недоумение, каким же образом можно заразиться проказой. Дочитывая книгу, мне, почему-то, стало страшно. А вдруг болезнь еще актуальна? Вдруг в моей стране есть прокаженные? Могучий интернет пополнил мои знания на эту тему, но не все оказалось радужным. Книга Шилина же помогает осознать, что и смертельно больных есть своя жизнь, свои заботы, радости, печали. Они хотят быть как все, не смотря ни на что. Для справки: лекарство нашли только к 70-м годам 20 века, лепрозории может и закрыли, но не все (интернет пестрит фотографиями этих заброшенных медицинских учреждений по всему миру), в России до сих пор есть пара действующих. Болезнь не передается прикосновениями, а воздушно-капельным путем и инкубационный ее период составляет от 7 до 15 лет. В Беларуси прокаженных нет и не было, что очень радует.
Ужасная книга! Ужасная и прекрасная. Так бывает редко, особенно у меня, но вот бывает-таки. Слова? Какие здесь могут быть слова? Их нет. Эмоции? Да, эмоции точно есть - после прочтения книги я долго старалась не прикасаться к дверным ручкам и к детям, чтобы не "распространить" заразу - так сильно впечатляет эта жуткая обреченность, изолированность и страх тех, что условно здоров. Кто-то сходит с ума, звереет, срывает злобу на окружающих, хочет бежать или покончить с собой. Кто-то ухитряется жить, любить, рожать детей, работать, помогать другим. Сплошные эмоции.
Но больше всего вопросов. - Как можно 30 лет (!) ждать своего ребенка и с нечеловеческим упорством верить, что он придет тебя навестить?!! Не месяц, не год, не два, а ТРИДЦАТЬ ЛЕТ?! - и как можно тридцать лет НЕ ПРИХОДИТЬ?!! - как можно бросить своих детей ради того, чтобы быть с больным мужем? - как можно болея такой страшной, практически неизлечимой заразой, вместо того, чтобы "подумать о душе", убивать кого-то из ревности?! Не им ли, обреченным, знать ценность жизни?! Или это такой холодный расчет? Ведь даже суд не властен над прокаженным убивцем. Делай что хочешь, живем-то однова?!
Ну и еще. Порадовали две честно рассказанные истории: - о том, как комсомолец выбил для лепрозория кино вместо душеспасительных бесед (не ожидала такого смелого финта). Другой бы с соплями рассказал, как добрые ребята помогли страждущим беседами о партии и правительстве, а тут вдруг так открыто - о бесполезности слов и пользе кинопросмотров. - и о том, как дореволюционные актеры не боялись посещать больных, чтобы утешить их, развлечь, отвлечь и порадовать в меру своих способностей и талантов. А ведь это тоже "ересь" - восхваление кумиров царского времени. Не потому ли Шилина сгноили в лагерях?
С большим уважением и радостью открыла для себя этого автора. И с великой печалью узнала о его судьбе.
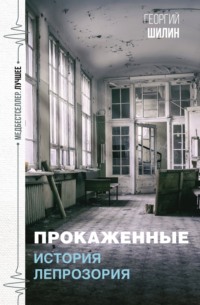
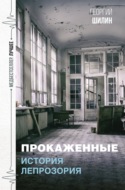
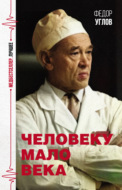
Arvustused raamatule «Прокаженные. История лепрозория», lehekülg 3, 76 ülevaadet