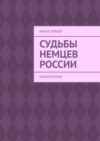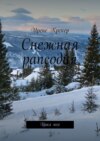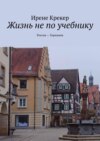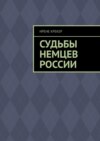Loe raamatut: «Сила жизни. Очерки и эссе»
Редактор Валентин Васильевтч Кузнецов
Корректор Валентин Васильевич Кузнецов
Дизайнер обложки Вальдемар Шульц
© Ирене Крекер, 2022
© Вальдемар Шульц, дизайн обложки, 2022
ISBN 978-5-0056-4912-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
Книга «Сили жизни» – интернациональна по идее. Основная её мысль: мы все – люди одного рода-племени, называемого Человечеством, и родина для нас одна – планета Земля.
В книге рассказывается о судьбах людей, сильных духом, разных национальностей, объединённых общечеловеческими ценностями, моральными устоями и стремлением совершать открытия на благо человечества в области науки, техники, художественного творчества. Её открывает эссе о Василии Ерошенко, слепом музыканте, поэте, педагоге и путешественнике, а заканчивается она очерком о Московском международном фестивале «Нить Ариадны», форуме, которому нет аналогов.
И это – неслучайно. Василий Ерошенко – человек-легенда. Он был в международном братстве делегатов трёх конгрессов эсперантистов (сторонников искусственного международного языка). Прожив вдали от родины много лет, впервые стал известен в России и в мире как японский поэт. Жизнь Ерошенко – пример того, чего может добиться человек, даже с ограниченными возможностями. Всем людям доброй воли близки слова Василия Ерошенко: «Чтобы пройти по дороге жизни, нужны не большие ноги, а большое сердце, твёрдая воля, светлый ум, отважное сердце, дух – справедливый и честный, глубокое знание мира». Эта мысль претворена в жизнь в наши дни исследованиями и действиями Аркадия Липовича Шмиловича, врача московской Психоневрологической клинической больницы №1, Председателя оргкомитета Международного фестиваля «Нить Ариадны», участниками которого стали талантливые люди с ограниченными возможностями из многих стран мира.
В реальности между жизнью Василия Ерошенко и фестивалем «Нить Ариадны», отметившим в 2018-ом году своё десятилетие, прошёл один век. По словам белорусского поэта Алеся Рязанова, о котором есть очерк в книге, «век – неотъемлемая часть всего живого, но прежде всего – человека. Он проявляется – и читается – в его лице и фигуре, и если по какой-либо причине век нарушается, то калечится и человек. Век – это не то же самое, что столетие: он содержит в себе свою меру, которая измеряется не просто временем, а самой неповторимостью времени… Если горит свеча, она горит век, когда растёт дерево, оно растёт век, когда живёт человек, он живёт век, и каков бы ни был этот век – короткий или длинный, ровный или извилистый, – он всё равно велик».
«Да, век может быть разным, – пишет Наталья Ружицкая, переводчица стиха Алеся Рязанова с белорусского. – Недаром есть выражение, „сгорел, как свечка“, но всё равно это век, он измеряется не количеством времени, а концентрацией эмоций, добрых дел».
Эту мысль подтверждает жизнь героев книги. В ней неслучайно под одной обложкой встретились несхожие личности, объединённые желанием сделать мир хоть на мгновение прекрасным. У каждого из них – свой век. Они живут и руководствуются не только интересами той общности людей, в которой родились или проживают в силу своего происхождения, но и принципами общечеловеческих ценностей.
Среди них
Альберт Швейцер – немец с французскими историческими корнями, лауреат Нобелевской премии мира, которому принадлежат слова: «От того, что созревает в убеждениях отдельных людей, а тем самым и в убеждениях целых народов, зависит возможность и невозможность мира… В отношении нашего времени, это ещё более справедливо, чем применительно к прежним эпохам»;
Владимир Набоков – русско-американский писатель, родившийся в Петербурге, проживший в России первые 20 лет и написавший в эмиграции, прожив 20 лет в Германии и почти 16 в Швейцарии, основные свои произведения – из них восемь романов на русском языке.
Борис Раушенбах – немец по происхождению, известный учёный и создатель образцов космической техники, академик Российской академии наук, профессор Московского физико-технического института, действительный член Международной академии астронавтики, проживший всю жизнь в России;
Валерий Брумель – советский многократный мировой рекордсмен с немецкими корнями, серебряный призёр Олимпийских игр в Риме в 1960-ом году, шестикратный рекордсмен мира по прыжкам в высоту в 60-ые годы 20-го века, олимпийский чемпион по лёгкой атлетике 1964-го года в Токио;
Максимилиан Волошин – поэт, художник, критик и переводчик. Его размышления о человеке и мироздании вошли в историю, в искусство перевода, в прозу, живопись, искусствоведение и философию;
Светлана Михайловна Гайер – гражданка Германии, немка с русскими и украинскими корнями, переводчик пяти романов Достоевского;
Поэты авторской песни: Новелла Матвеева, создавшая в своём воображении страну Дельфиния с островом Кенгуру; Игорь Доминич – талантливый поэт из Молдавии, рано ушедший из жизни; Александр Соломонов – бард из немецкого города Гамбург; Михаил Трегер – родом из Санкт-Петербурга;
Борис Заходер – поэт и переводчик Гёте, родившийся в южной Бессарабии (ныне Молдова), известный миллионам читателей как переводчик «Винни Пуха», «Мэри Поппинс», «Питера Пэна», «Алисы в Стране чудес» и других книг зарубежных авторов.
Обложка книги символична. У всего живого есть воля пробиться сквозь тернии. Так и человек. Он с детства стремится познать окружающий мир, а затем, преодолевая препятствия, становится упорным в достижении целей. Таковы герои книги, люди – сильные волей и духом, у которых есть чему поучиться.
Во время написания книги рядом со мной мысленно были те, кто поддерживал в творческом поиске. Я благодарна редактору и корректору книги Валентину Васильевичу Кузнецову, историку Виктору Борисовичу Кудрину, белорусской поэтессе Наталье Ружицкой, героям книги, бардам, Александру Соломонову и Михаилу Трегеру за помощь мыслью и словом.
Дорогие читатели,
в процессе чтения книги вас не оставит равнодушным мнение известных людей о путях сохранения мира на планете. Предупреждением землянам, звучат со страниц книги слова Бориса Викторовича Раушенбаха: «Я далеко не уверен, что человечество вообще сохранится ещё сто лет. Оно упрямо идёт к той грани, где возможность самоуничтожения становится реальной и вероятна даже по ошибке».
В то же время вы проникнетесь чувством гордости за героев, которые, преодолевая трудности, стремятся к достижению цели, ставят перед собой конкретные задачи и шаг за шагом достигают желаемых результатов. Так писатель Сергеев-Ценский, осознав в юности своё предназначение – художественным словом будить души людские – в течение жизни не сворачивал с этого пути. Путешествуя по России, он увидел так много, что этого хватило на многие поколения читателей, критиков и литературоведов.
Вы узнаете также, как Владимир Набоков, преодолев языковой барьер, создал новый литературный стиль, вместивший в себя лучшие традиции русской и американской литературы. Сегодня его знают и считают своим и в Америке, и в России, и в Швейцарии, и в Германии.
Уверена в том, что путешествуя вместе с героями по удивительным местам нашей планеты, вы получите наслаждение от знакомства с флорой и фауной различных континентов, и вслед за поэтом Новеллой Матвеевой откроете для себя страну Дельфинию с островом Кенгуру. Вы ощутите запах морского прибоя, свежий воздух Женевского озера. Прогуляетесь по тропам Шварцвальда.
Кроме того вы испытаете духовное удовлетворение от соприкосновения с процессом творчества в момент создания поэтических произведений, секрет успеха которых – в силе воли и крепости духа талантливых людей. Благодаря мастерству барда из Гамбурга, откроете для себя творчество Игоря Доминича, почувствуете внутреннее состояние души поэта, стихи и песни которого будут сопровождать вас ещё долго после прочтения книги.
Все замечания и пожелания прошу направлять по адресу: ikreker51@gmail.com
Ирене Крекер
Поэт незрячий, увидевший и Запад, и Восток. (О Василии Ерошенко)
«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет Небо с Землёй на Страшный Господень суд». Эту мысль английский писатель, поэт и новеллист Редьярд Киплинг сформулировал в своей «Балладе о Востоке и Западе», напечатанной в 1890-ом году. И с тех пор человечество получило огромное количество подтверждений этого тезиса. Воистину, «тому в Истории мы тьму примеров слышим». Ну, взять хотя бы многочисленные региональные войны, национальные катастрофы, межрелигиозные конфликты, террористические акты. Не из-за того ли они, что жители западного и восточного миров имеют разные менталитеты, не понимают друг друга?
«Восток – дело тонкое», – часто слышу из средств массовой информации. Но, право, так ли сложна эта ситуация? Не сыщем ли мы в истории, в нашем недавнем прошлом примеров не только успешного взаимопроникновения различных культур, но и случаев, когда, например, житель Запада настолько постигает основы восточной культуры, что уже становится классиком этой восточной литературы?
С этим вопросом я обратилась к моему московскому другу Валентину Васильевичу Кузнецову. Он – коренной москвич, в прошлом эсперантист, инженер, преподаватель математики и переводчик. Ответ пришёл довольно быстро и застал меня врасплох. Высланная информация оказалась для меня совершенно неожиданной. Я восприняла её как привет из мира, абсолютно не известного мне, даже как учителю, много лет посвятившему изучению русской и зарубежной литературы.
«Ярчайшим примером такого удивительного явления, – пишет мне Валентин Кузнецов, – является жизнь и деятельность русского писателя, поэта, музыканта, педагога, путешественника Василия Яковлевича Ерошенко. Об этом человеке удивительной судьбы я впервые узнал в шестидесятые годы от Саши Харьковского, в то время журналиста журнала „Вокруг света“. С начала восьмидесятых годов двадцатого века он проживает в США, где известен под именем Alexander Karkovsky/ Александр Карковский. А тогда и он, и я увлекались идеей международного языка эсперанто. На встречах эсперантистов Харьковский рассказывал, что он пишет книгу „Человек, увидевший мир“ о Василии Ерошенко».
Я попросила Валентина Васильевича вспомнить детали этого разговора. Он живо откликнулся на просьбу:
«Было это давно, примерно в 1961—1964 годах, и поэтому многое забылось. Это были и не диалоги, не выступления с трибуны, а отдельные реплики с его стороны, вставки в разговор, из которых можно было предположить, что Саша работает над книгой о слепом эсперантисте Ерошенко, объехавшем мир. (Кстати, вначале на слух эту фамилию я ошибочно воспринимал как Ярошенко). Опубликована книга была только в 1978-ом году. Теперь я жалею о том, что тогда не проявил интереса к теме и активности со своей стороны, а вместо этого просто пассивно внимал, слушал. В памяти сохранились только два момента из рассказов Харьковского. Первый – это то, что Ерошенко был первым в мире, кто создал азбуку Брайля для слепых туркменов и был первым её преподавателем. А второй – это то, что русским, приезжавшим в Японию, японцы рассказывали о замечательном японском поэте по имени Еро-сан, выходце из России, а русские отвечали японцам, что не знают никакого поэта Еро-сана, выходца из России, что японцев очень удивляло».
* * *
Слепой русский, ставший японским поэтом, о творчестве которого долгое время неизвестно на Родине? Возможно ли такое вообще?
Читая и перечитывая статьи А. Харьковского, В. Першина, Ю. Платань, Э. Пашнева, В. Шеховцова, Ирины Морозовой о судьбе Василия Яковлевича Ерошенко, я проникаюсь всё более возрастающим интересом к его творчеству. Заинтриговало то, что он известен на Востоке под различными именами. В Японии его называют Эро-сан, в Китае – Айлосянькэ или «господин Айло», в Бирме слепые дети обращались к нему «кокоджи» – «старший брат», а изумлённые чукчи прозвали его «какомэй» – «чудо». Сам же поэт Ерошенко называл себя Человеком мира.
Да, бывает и такое, что поездки, путешествия, изучение историй жизни народов, их менталитета, чтение книг, разговоры с друзьями приводят к встречам с судьбами необыкновенных людей, жизнь которых называют легендой. Их мужество, целеустремлённость, упорство в достижении поставленных целей, сила воли и знания заставляют задуматься о своём предназначении, поставить перед собой вопрос: «Зачем ты пришёл в этот мир?»
Читаю, размышляю, сверяю свои мысли с мыслями авторов. Пытаюсь проникнуть в сокровенные уголки души этого необычного человека, родившегося в 1890-ом году.
В возрасте четырёх лет Василий Ерошенко потерял зрение. Он провалился в чёрную пустоту и помнил из реальности только" четыре вещи: небо, голубей, церковь, на которой они жили, и лицо матери. Не слишком много. Но и это всегда вдохновляло и вдохновляет меня на поиски чистых, как небо, мыслей и всегда помнить о Родине, как о лице своей матери, в какой бы уголок земли ни бросила меня судьба». Это он скажет одному из потерявших зрение и отчаявшемуся человеку, как давно продуманное и принятое, как неизбежность.
Когда же это началось? В какой момент подросток понял, что нельзя оставаться инвалидом и выбрал для себя путь художника слова? – этот вопрос не оставляет меня в покое в процессе изучения судьбы Василия Ерошенко. Ответ на него интересует меня не только как педагога-психолога, но и как переселенца из России в Германию, автора, пишущего произведения на русском языке.
Родители Василия рано обнаружили у сына музыкальный слух и начали обучать его музыке. С девяти лет, благодаря стараниям помещика, графа Орлова-Давыдова, Василий принят в число учеников школы-приюта Общества призрения, воспитания и обучения слепых детей в Москве. Там он изучает грамоту для незрячих и, благодаря интересу к чтению, познаёт мир, выходящий за пределы приюта. Он не может не делиться знаниями со своими друзьями. Читая пальцами, рассказывает малышам приюта о других мирах, открывая в себе артистическую натуру. И когда все книги в приюте прочитаны, палец застывает на одной строке, и он продолжает чтение. Малыши, затаив дыхание, внемлют ему. Этих мгновений, когда муза спускается к нему, он впоследствии забыть не может.
Музыка души определяет его дальнейший жизненный настрой. Проучившись десять лет в школе для незрячих, получив кое-какие практические навыки, он мог бы по окончании школы плести корзины или вступить в артель слепых и переплетать, клеить книги, таким образом зарабатывать себе на жизнь. Но юноша уже тогда понимает, что у него только два пути: жить в чёрной пустоте, используя приобретённые навыки, или – в мире музыки и звуков, путешествуя, узнавая мир и описывая его в книгах, при этом испытывая радость творческих мгновений. Он выбирает второе.
В то время его видят часто в различных районах столицы с шестиструнной гитарой за плечами. Высокий, в белой рубахе, подпоясанной широким ремнём, пряжка которого едва помещается в руке, он выделяется в толпе.
Музыкальный талант Василия замечен, и вот он уже выступает в оркестре для слепых в московском ресторане «Якорь». Находясь три года среди публики, которая в ответ на его выступления не одаривает даже аплодисментами, хорошо понимая, что не здесь его место, юноша начинает готовиться к путешествию на Кавказ.
Подробнее об этой поездке мне узнать не удаётся, известно лишь, что он берёт с собой учебник языка эсперанто. Теперь уже совершенно осознанно Василий Ерошенко выбирает мир путешествий и музыки. И всегда рядом с ним находятся люди, которые поддерживают его словом и действием.
* * *
Кто же эти люди, проживавшие на Западе и Востоке земного шара, которые помогали незрячему музыканту-сказочнику в осуществлении его грандиозных планов? Как ему удалось – познать и ощутить мир звуков и музыку многих стран? Какие силы вмешались в процесс постижения им важнейших истин?
Понимаю, что прежде всего Василий Яковлевич Ерошенко был сам удивительной личностью. Его желание – полнокровно жить – стало животворной энергией этого процесса. Практическую помощь юноше оказывала его принадлежность к Международному обществу эсперантистов, круг друзей которого расширялся с неожидаемой быстротой. О незрячем поэте со временем уже не надо было рассказывать, он сам появлялся там, где хотел и где был нужен, осознавая свою миссию в оказании помощи таким же, как он, незрячим, в познании окружающего мира.
Валентин Васильевич Кузнецов пишет мне: «Как бывший эсперантист я подтверждаю, что в эсперанто-движении сильна идея, что зелёная пятиконечная звезда (символ эсперанто-движения) гарантирует свободу перемещения по миру и проживания, поэтому некоторые действительно отправляются в такие путешествия, аналогичные путешествиям по системе автостоп. Думаю, что именно с этой идеей и отправился Ерошенко по миру».
В мои отроческие годы я слышала о международном языке эсперанто, но, к сожалению, не отдалась движению его волны. Только сейчас начинаю понимать, что, если бы я пошла этим путём, моя жизнь могла сложиться совсем по-другому. Лучше или хуже? Это другой вопрос, но, была бы возможность – увидеть мир, познакомиться с интереснейшими людьми из разных стран. Ведь эсперанто-ассоциации находятся и в Англии, и во Франции, и в Бельгии, и в Германии… И не только там!
У Василия Ерошенко, в этом я уже не сомневаюсь, был «ангел-хранитель», поводырь с различными именами, ведущий его по жизни. Сначала эту роль выполняла Анна Николаевна Шарапова (1863—1923) – преподаватель английского и эсперанто, русская переводчица. Она была национальным секретарем для России в Международном Союзе эсперантистов-вегетарианцев, первым почётным президентом которого был избран Лев Николаевич Толстой. В годы первой мировой войны жила в Швейцарии. А после возвращения оттуда внесла вклад в восстановление международных связей российских эсперантистов.
Именно от Анны Шараповой Василий Ерошенко «заболел на всю жизнь», «заразился» языком эсперанто. От неё узнал, что в предместье Лондона – Норвуде существует Королевский колледж и Академия музыки для незрячих. Анна Шарапова подготовила его поездку в Англию. Известно, что о его приезде сначала оповестили общественность печатные издания «Слепец» и «Вокруг света», опубликовав заметку «Путешествие русского слепца в Лондон», а несколько позже в Лондоне был опубликован и очерк самого Ерошенко «Моё первое заграничное путешествие».
В то время он ещё был молод, и эсперантисты, через города которых проходил его маршрут, оказывали ему на протяжении всего пути практическую помощь. Для того чтобы его найти в толпе встречающих и провожающих, на одежду Ярошенко был прикреплён значок в виде зелёной пятиконечной звезды – символа эсперантистов.
В Лондоне его встретили супруги Блейз. Они поселили его в своем пансионате и для обучения английскому языку нашли учителя, знающего азбуку Брайля. Два месяца он проводит вольнослушателем в королевском колледже для слепых в Норвуде, затем возвращается в Лондон.
В английской столице Василий Ерошенко изучает классическую музыку, посещает музеи, библиотеки, углубляет знания по вопросам истории и культуры страны. Здесь у молодого Ерошенко произошло знакомство с господином Кропоткиным, основателем и теоретиком русского анархизма. Неизвестно, насколько идеи анархизма затронули ум и сознание Василия Ерошенко, но, когда он после недолго посещения Франции, где изучает французский язык и слушает лекции в Сорбонском университете, возвращается в Англию, его выселяют из страны за связь с эмигрантами-марксистами.
С этого момента взгляды его обращены на Восток. В двадцать четыре года он едет в Японию, учится там в Токийской школе слепых. Московские эсперантисты помогают ему материально, дают и рекомендательное письмо к профессору Токийского университета Накамура Сигео.
В Японии среди его знакомых не только журналисты, писатели, драматурги, но и революционеры. Его другом и правой рукой становится японский драматург Акита Удзяку. Ему принадлежат слова: «Ерошенко – первый русский, покоривший сердца японцев». Не без помощи новых друзей в японских газетах и одном из молодых журналов появляются первые очерки и сказки Василия Ерошенко на японском языке, среди них «Рассказ бумажного фонарика» и философская притча «Дождь идёт».
Страсть к странствиям ведёт его дальше. Узнав о том, что в Юго-Восточной Азии нет школ для слепых, он принимает решение уехать в Сиам (Таиланд). Идея создания школы движет мыслью писателя. Приехав в столицу страны Бангкок, он первым делом занимается организацией учёбы для незрячих. Поставленная задача оказывается неразрешимой, так как для этого нужны значительные материальные вложения. Одного желания оказалось мало.
Долго оставаться в Сиаме Василий Ерошенко не может из-за ограничения деятельности иностранцев. Тогда он принимает решение – переехать в Бирму. Она видится ему страной «рубинов и сапфиров, кокосовых пальм и тамаринд, папай и бананов, манго и ананасов», где «круглый год цветут пахучие цветы и звенят миллионами серебряных колокольчиков бесчисленные пагоды».
В Моуллмейне ему предлагают заведовать школой для слепых детей. Он соглашается. С этой целью изучает разговорный бирманский язык, сложный для европейцев, а также погружается в изучение фольклора и народных сказаний. В одном из писем того времени Василий Ерошенко пишет: «Сейчас я изучаю воистину прекрасные буддийские легенды – это неисчерпаемый материал. Передо мной раскрылся совершенно новый, доселе неведомый мне мир». Там, в Бирме, его настигает весть о революции в России.
Василий Ерошенко принимает решение вернуться на родину, но не получает от властей разрешение на въезд в советскую Россию. В то время он не только изучает культуру и традиции страны, записывает свои впечатления, но и принимает участие в работе литературного общества «Свитязь», посещает собрания Социалистической лиги, участвует вместе с друзьями социалистами в первомайской демонстрации, в работе съезда Социалистической лиги. Тогда он принимает решение попасть в Россию через Индию, Афганистан и Среднюю Азию.
Из статьи Ирины Морозовой узнаю, что «в Калькутте, его, по распоряжению английских властей, арестовывают как большевистского агента и помещают на судно, идущее во Владивосток, который в то время находился в руках белого генерала Каппеля. Василию удаётся сбежать с парохода во время швартовки в Шанхае (Китай) … Из Шанхая Ерошенко переезжает в Японию, но и японские власти отдают распоряжение о его депортации из страны. Доставленный во Владивосток, Ерошенко стремился как можно скорее перебраться в европейскую часть России. Но дальше пути не было. В районе станции Евгеньевка проходили передовые позиции отрядов Семёнова и Каппеля. За ними начиналась нейтральная полоса, где орудовали банды, нападавшие и на белых, и на красных. Тогда Ерошенко принял решение: уйти в Китай. Пересёк границу и по шпалам пошёл в Харбин, в который пришёл в июле 1921 года».
В эссе «Одна страничка из моей школьной жизни», написанном на языке эсперанто, Василий Ерошенко описывает визит в школу китайского дипломата Ли Хун-Чжана. Это эссе до сих пор рассматривают как модель отношений России и Востока в годы русских революций. Может, именно с этой школьной встречи с представителем Китая и зародилась у Ерошенко мечта совершить путешествие в Китай, незнакомую страну, притягивающую взоры многих?
Мечта, наконец-то, сбылась, но к тому времени путешественник уже устал душой от несостоявшихся планов. Ему одиноко в потоке незнакомых людей. Когда-то он не захотел остаться на родине, чтобы бессмысленно коротать свой век, но теперь он понимает, что и на Востоке не так легко достичь желаемых целей.
Вероятно, именно в этот период он создаёт книгу «Стон одинокой души», позже опубликованную в Китае. В ней есть строки:
«Устал я, и скоро в печальную землю
Уйду я на этом нерусском кладбище
И всё-таки сердцем недремлющем внемлю
Я брату родному, что сам меня ищет».
Рассказывают, что его услышал писатель и поэт, классик китайской литературы, Лу Синь и пригласил к себе домой в Пекин, став другом и братом. В это сейчас трудно поверить, но судьба свела двух талантливых людей в нужном месте и в нужный час. Позже поэт Василий Ерошенко станет героем его новеллы «Утиная комедия».
Писатель Лу Синь напишет о нём: «Жизнь человека, как падающая звезда, – сверкнёт, промчится, оставляя недолгий след… Ерошенко промелькнул, как звезда, и, может быть, я скоро забыл бы о нём, но сегодня мне попалась его книга „Песнь предутренней зари“, и мне захотелось раскрыть душу этого человека перед читателем». Лу Синь – переводчик с эсперанто на китайский язык сборника произведений слепого писателя и поэта «Стон одинокой души» и «Сказки».
А в 1924-ом году, получив мандат Пекинской эсперанто Лиги, Василий Ерошенко уже участвует в XV Универсальном конгрессе эсперантистов в Германии, в городе Нюрнберг. Затем несколько месяцев проживает в Лейпциге. В Лейпцигском городском музее имеется портрет Василия Ерошенко работы художника Р. Рудольфа.
Рассматриваю портрет. На нём изображён молодой человек, напоминающий русских богатырей из баллад. Лицо – круглое, волосы – русые, кудрявые. Голова слегка опущена. Глаза прикрыты. Что знаю я об этом юноше сейчас? Что он – незрячий поэт, что одарён музыкально, что изучил язык эсперанто, что кроме него владеет ещё одиннадцатью языками и среди них русский, английский, японский, французский, немецкий, бирманский и язык таи, что он пишет и публикует стихи, сказки, статьи и другие произведения на японском и эсперанто, что он изгнан из Англии, Японии и некоторых других стран за предполагаемую связь с русскими марксистами.
А ещё я знаю, что поэт, писатель, педагог и путешественник Василий Ерошенко, побывав в Англии, Франции, Японии, Таиланде, Бирме, Китае, Германии и в других странах, вернулся в Москву только в 1924-ом году членом Международного братства делегатов трёх конгрессов эсперантистов, основанного варшавским врачом Заменгофом. К этому времени он уже известен как японский поэт, о котором слагаются на Востоке легенды.
* * *
Недавно я узнала о существовании виртуальной конференции «Василий Ерошенко и его время». На одной из них удалось незримо присутствовать. Её участники анализировали стихотворение Ерошенко «Homarano/ Хомарано». Наряду с разговором об идейно-художественных особенностях произведения, речь зашла и о названии. Была высказана мысль, что слово «Homarano» парадоксально по своей структуре: «Homo = человек; homar’ = совокупность людей (человечество). Но автор добавляет еще один суффикс „an“ – homaran’, чем едва ли не возвращает слову его первоначальное значение („часть чего-либо“) – в данном случае часть человечества».
Как преподаватель русской литературы я согласилась и с участниками виртуальной конференции по вопросу близости этого произведения тематике революционно-романтических произведений А. М. Горького «Песне о Соколе», «Песне о Буревестнике» и легенде о Данко из рассказа «Старуха Изергиль». А самого Василия Ерошенко отношу к романтикам, отдавшим пламенное сердце людям.
В процессе изучения жизненного и творческого пути Василия Ерошенко меня заинтересовала дискуссия, проходившая в мае 1916 года в Токийском университете между слепым писателем Василием Ерошенко и известным в широких литературных кругах Рабиндранатом Тагором, индийским писателем. По словам журналиста и переводчика В. Рогова, слепой писатель «оспаривал основное положение Тагора о том, что западная цивилизация – материальная, а культура Индии – чисто духовная»:
«– Мне показалось, что вы, опираясь на буддизм и христианство, противопоставляете культуры Европы и Азии. Совсем как Р. Киплинг, который писал: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Так вот: с этим я согласиться не могу. У наших культур много общего, и если мы друг друга не всегда понимаем, то это из-за незнания языков. И ещё из-за националистов, которые натравливают один народ на другой.
– А чем Вы можете это аргументировать? – спросил Тагор.
Ерошенко минут десять говорил о растущей интернациональной общности людей, о родстве литератур Японии и России, о взаимовлиянии фольклора стран Запада и Востока.
– Расскажите о себе, кто вы такой, – попросил в конце беседы индийский писатель.
– Приехал я из России два года назад, сказки свои пишу по-японски, и товарищи называют меня японским поэтом, – закончил Ерошенко под аплодисменты зала».
Спор с самим Тагором, приглашённым в университет для чтения лекций, принёс слепому писателю-эсперантисту широкую популярность. Это произошло, вероятно, и потому, что на лекциях Р. Тагора присутствовали всегда кроме студентов священнослужители различных вероисповеданий – буддисты, синтоисты, христиане и другие заинтересованные лица.
Изучая творчество поэта и писателя, путешествуя с ним незримо по странам Запада и Востока, я в какой-то момент поняла, что главное в жизни этого многогранно талантливого человека не то, что он всю жизнь прожил вдали от Родины в поисках необычных запахов и звуков, новых впечатлений, а в том, что он всю жизнь вёл нескончаемую просветительскую работу и не от случая к случаю, а постоянно. Где бы он ни был, куда бы ни заносила его судьба, вектор его деятельности был всегда направлен на оказание помощи слепым, таким же, как он, но находящимся в более тяжёлых условиях. Он перед каждой своей поездкой ставил перед собой конкретные цели в этом направлении и прилагал все усилия к их осуществлению.
С такой целью он отправляется и на Чукотку на пароходе в 1929 году. Там он пробыл около года. Вернувшись с севера, жил в Москве, но и здесь не даёт себе ни минуты покоя: работает преподавателем в школе для слепых, пишет книги. А осенью 1934 года, когда Наркомпрос Туркмении приглашает его создать в республике специальную школу-интернат для незрячих в старинной крепости Кушка, он, ни на минуту не задумываясь, принимает это предложение.
В Туркмении Ерошенко живёт одиннадцать лет, обучая незрячих детей видеть мир. Для них он создаёт рельефно-точечный алфавит на туркменском языке и разрабатывает систему образования и воспитания незрячих. Многие из его учеников станут впоследствии педагогами, писателями, драматургами, но прежде всего добрыми людьми, его последователями. Отсюда, из Кушки, он обращается с письмом к Сталину в защиту международного языка эсперанто и эсперантистского движения в целом. Он идёт на этот шаг сознательно, зная, что «Союз эсперантистов советских республик» был перед войной разгромлен. Тогда, в одну из ночей, многие эсперантисты были арестованы и голословно обвинены в пособничестве империализму и в антисоветской деятельности.