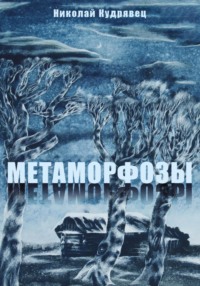Loe raamatut: «Метаморфозы»
Летающие крокодилы
Глеб Ипполитович Закорюкин с безупречной дикцией докладывал ученому миру автореферат диссертации «О воздушных миграциях архозавров планирующим полетом (на примере ископаемого крокодила)». Члены ВАКа внимательно слушали.
– …Феномен вымирания видов имел место на протяжении всей истории их существования. Но ураганное вымирание произошло в XXI–XXII столетиях. В этот же период активизировались некоторые другие виды животных, такие как, например, таракан и муравей бегущие, паук передвигающийся. Ученые возлагают большие надежды на эти популяции, заполнившие большинство экологических ниш.
Генетики и селекционеры выводят породы питательных тараканов, жуков и пауков. Следовательно, в ближайшем будущем проблема питания человека будет навсегда решена. Но это уже тема другой диссертации.
Автору удалось выяснить причины исчезновения отдельных видов. Так, он установил, что курица обыкновенная выродилась в курицу модифицированную, вепрь горизонтально ходящий – в свинью горизонтально лежащую. В настоящий момент наблюдается заключительный этап биологической эволюции человека прямоходящего в человека сидящего и лежащего.
А сейчас опустимся в верхний юр и поздний триас. Мы видим, что в это время в воздухе летали птерозавры с пятнадцатиметровыми крыльями…
Из зала попросили слово:
– А почему автор исследовал полет крокодила, а не других текодонтов?
«Может завалить, старый крот, – мелькнуло в голове Закорюкина. – Что-то он не равнодушен ко мне. Копает».
Глеб Ипполитович взял себя в руки и, сосредоточившись, стал объяснять:
– Интерпалеонтологическое общество в содружестве с интерархеологическим недавно обнаружили неотождествленную квадратную кость. Останков других ископаемых животных пока не обнаружено. С помощью компьютерного моделирования нам удалось установить, что она принадлежит летающему крокодилу. Следует заметить, что до этого ученые работали исключительно на лабораторных моделях.
Как вам известно, в прошлом веке по рассчитанной компьютером программе генетического кода была синтезирована бактерия пожирающая, для уничтожения отходов, не уничтожаемых и трудноуничтожаемых естественным путем. Эта бактерия разрушила не только кости всех ископаемых животных, но и письмена прошлого на так называемой бумаге. В настоящее время бактерия поедает нефть, уголь и даже газ. Более того, ее пищеварительный тракт уже стал специализироваться по двуокиси кремния. Поэтому, я думаю, прикладную палеонтологию ждут серьезные затруднения. Но в будущем человечество, несомненно, укротит бактерию пожирающую – этого всеядного монстра – или, в крайнем случае, переселится на планеты, свободные от названной бактерии. Так что в этом плане нам нечего опасаться. Однако вернемся к диссертации.
Коллектив нашей лаборатории создал компьютерную модель эволюции живых организмов. Модель привела к неожиданным выводам. Оказывается, жизнь зародилась в воздухе как среде, где возможно одно из самых экономичных передвижений. Уже первые фаги и вирионы, появившиеся на свет, взметнулись в воздух. Потом поднялись в воздух и архозавры. И хотя достоверных источников о том, что у крокодила существовало крыло, нет, также нет и доказательств его отсутствия. Исчезли крокодилы при загадочных обстоятельствах в эпоху раннего космизма (примерно XXI век).
Ученых длительное время вводила в заблуждение критическая масса крокодила, запрещающая полет на машущем крыле. Но автор строго доказал, что, кроме полета на машущем крыле, засвидетельствованного в дошедших до нас древесных книгах, полет может быть осуществлен на реактивной струе или парящим крылом. Передвижение видов на реактивной струе как энергетически менее выгодное мы не учитывали, хотя не исключено, что отдельные виды плезиозавров передвигались именно таким образом.
Автор тщательно исследовал полет крокодила. Лабораторный анализ квадратной кости с привлечением метода нейтронной активации и математического моделирования показал, что крокодил жил в гористой местности, где он и отыскивал себе площадки для взлета. Скорректированная оптимальная расчетная высота для безопасного взлета крокодила составила 440 метров над уровнем моря.
Из зала снова попросили слово:
– Ваша математическая модель учитывает корреляцию аэродинамики крокодильего крыла на высотах, отличных от 440 метров?
– Несомненно.
– Ну и?
– Желающие могут ознакомиться с летными качествами крокодила на высотах в диапазоне от 350 до 2 000 метров над уровнем моря. Графики приведены в тексте диссертации.
– А на какой абсолютной отметке найдена кость? – поинтересовался оппонент.
– Плюс 123 метра.
– Значит, крокодил обитал и на этих высотах?
После незначительной заминки Закорюкин решил согласиться:
– Да, вероятно…
– А учитывает ли эти высоты ваша модель? – не унимался оппонент.
Глеб Ипполитович не на шутку заволновался. Он как-то упустил этот вопрос. По его безупречному лбу побежала рябь морщин.
– Экстраполяция кусочно-линейной аппроксимации, обращенная в области с положительным градиентом плотности… – туманно начал Закорюкин.
– Ну и? – торопил его нетерпеливый голос.
– …Дает положительный результат, – выдохнул Закорюкин и разгладил ладонью влажные морщины.
– Тогда последний вопрос. Вы утверждаете, что крокодилы жили на высоте 123 метра над уровнем моря и в то же время они не смогли взлететь с высот ниже 350 метров. Как вы устранили это противоречие?
Об этом противоречии Глеб Ипполитович и не подозревал. Рябь на его лбу приняла устойчивый характер.
«Всё, закопал, старый крот», – теряя самообладание, подумал Закорюкин. Что-либо вразумительное ответить на столь каверзный вопрос он уже был не в состоянии.
В коридоре к нему подошел научный руководитель и, пробегая пальцами по воздуху, пояснил:
– Ноги… Ноги у него должны быть… Муха летающая и та ползает, а здесь крокодил…
Порывы страстей
Индикатор перегрузки тревожно мигал. Существованию робота грозила опасность! Но нет, работа настолько важна, что, вопреки закону самозащиты, он продолжал творить.
О, где те приверженцы бездушия роботов?! Взгляни они на выразительно-стальной овал вместилища мыслей – и сразу бы поняли: даже в железо человеческие руки могут поместить чувства. Тщетно предупреждал сигнализатор об опасности – рукотворное существо было во власти азарта.
Да, человеческий гений сделал из металла нечто на порядок выше мертвой природы – создал самоорганизующуюся, думающую систему. Но как, каким образом появилась в этой все же мертвой болванке душа?
Профессор Джеф смотрел на свое детище, и эта мысль не давала покоя.
Что?! Действительно – что? Не мог он вдохнуть душу хотя бы потому, что не знал, что это такое.
Мысли о неожиданно появившемся новом, несвойственном роботу качестве поглотили Джефа. Тем временем увлекшееся скопление схем добровольно отдавало себя в жертву ради достижения цели. Перегруженные каналы, лишенные самим же роботом защиты, один за другим выходили из строя. И все это ради того, чтобы не остаться в дураках – ассистент и робот под наблюдением профессора играли в подкидного.
Судорожно сдвинутые шарниры неожиданно жалобно заскрипели – робот снова вытянул из колоды карт шестерку. Парализованный новой информацией, электронный мозг заблокировался, потом очнулся. Системы регулирования лихорадочно принялись настраивать уцелевшие блоки. Ассистент, заметив это, радостно завопил, оповещая о выигрыше. Но такого нахальства не выдержала даже металлическая душа! Резервная и аварийная системы мгновенно направили в стальную голову энергоресурсы всего организма. Неуклюжий механизм конвульсивно задвигался, пытаясь возразить… и навеки замолчал.
Профессор задумчиво смотрел на железо со следами окалины и пытался сообразить: что же все-таки вдохнуло в робота душу?
Мона Лиза
– Нету больше нашего учителя, – ввалившись в избу и опустив лохматую голову, простонал комиссар.
Собравшиеся молчали. Полуголодные, оборванные, они смотрели на комиссара и чего-то ждали. И было невыносимо тяжело от их молчаливых вопросов. Комиссар чувствовал, понимал, что он не может, не имеет морального права обмануть надежду, которую он видел в устремленных на него взглядах. Люди видели в нем олицетворение новой власти.
«Надо во что бы то ни стало продолжить занятия. Но что я могу рассказать им? – думал комиссар. – Что? Как умирают их мужья? Но они лучше меня знают это. А что еще я видел в окопах все это время? Ничего».
Он медленно обвел взглядом закутанных в лохмотья женщин и детей, голые стены, продырявленные осколками снарядов, выщербленный пулями пол, грубо сколоченные лавки… В щели просачивался первый морозец, здоровый, но еще не окрепший, и люди ежились то ли от его непривычного прикосновения, то ли от неуюта и голода. На одной стене висела перекосившаяся рама с репродукцией, скрытой под слоем пыли. «Наверное, после обстрела присыпало, – подумал комиссар. – Что-то я ее не припомню раньше, неужели учитель повесил?»
Он подошел к картине, ушанкой протер полотно, оценивающе посмотрел на изображение и прочитал по слогам уцелевшие буквы: «Ле-о-нар-до да Вин-чи…» Из-под слоя пыли выглядывало женское лицо. Оно как-то странно улыбалось, и в этой улыбке комиссар почувствовал насмешку. «В стране голод, тиф, война, гибнут тысячи людей, а эта упитанная буржуйка улыбается», – едва не взревел комиссар, хватаясь за кобуру, но неожиданно, словно сквозь пелену из далекого прошлого, до его сознания начал доходить смысл надписи. Леонардо да Винчи… Великий художник эпохи… И он промолчал.
«Какой же эпохи этот Леонардо, – силился вспомнить комиссар, напрягая память. – Зарождения или Возрождения? И зачем боевой товарищ, учитель и большевик, принес сюда эту картину? А может, она вдохновляла людей на боевые подвиги, – неожиданно подумал он, – а мы вот здесь ничего о ней не знаем… И я что-то слышал про Давинчи… А что, если этот самый Давинчи жил в эпоху Зарождения мировой революции и изобразил здесь завтрашний день, свободную женщину из светлого будущего? Вишь, какая она пышная и улыбается. А люди сидят и ничего не знают. А вот Ленин ясно сказал, что искусство принадлежит народу. И наш долг – долг коммунистов и бойцов – донести его до людей. И вот вместо того, чтобы нести, мы стоим и думаем…»
Затянувшееся раздумье комиссара сказалось и на сидящих. Они всматривались в изображение и о чем-то тихонько перешептывались.
Комиссар решительно повернулся к женщинам, зажал в кулак ушанку со следами пыли, расставил пошире ноги, как бы боясь за свою устойчивость, и начал:
– Товарищи женщины! В стране война, тысячи детей умирают от голода и тифа, гибнут ваши мужья. Но великое дело, начатое Лениным, нельзя задушить голодом, загубить тифом, похоронить под осколками снарядов. И мы выполним волю нашего великого вождя. Мы будем учиться. Враги вырвали из наших рядов учителя, но не вырвать им из нашей плоти стремление к учебе. И мы продолжим занятия.
Голос комиссара креп.
– Сегодня я вам расскажу об искусстве эпохи Зарождения мировой революции, о художнике, который показал на вот этой картине, – комиссар ткнул ушанкой в покосившуюся раму и замолчал. Бережно ее поправил, собрался с духом и продолжил, постепенно набирая силу голоса: – показал на вот этой картине свободную женщину будущего, гибель эксплуататоров и торжество великих идей коммунизма…
Сидящие доверчиво всматривались то в лицо «свободной женщины», то в лицо комиссара и слушали.
Урок продолжался.
Васина любовь
Начинающий поэт Вася Булочкин штудировал «Канцоньере» Петрарки. Перелистнув последнюю страницу, он почесал за ухом и глубокомысленно изрек:
– Да, чтобы стать великим поэтом, нужно встретить свою Лауру.
И действительно, если бы не прекрасная Дельмас, разве сокровищница поэзии пополнилась бы циклом «Кармен» Блока, не говоря уже о «Книге песен» Петрарки? Абеляр и Элоиза, Данте и Беатриче, Дидро и Софи Волан, Тургенев и Виардо, Лермонтов и Иванова… Да мало ли кого можно отыскать, порывшись в памяти и архивах! Так или иначе – Вася Булочкин решил искать свою Лауру.
Нельзя сказать, что у него не было девчат, были, конечно. Но знакомые представительницы прекрасного пола не подходили на эту роль: слишком они были обыденными для Васи – интеллигента, интеллектуала, красавца и поэта. И вдруг…
Ох уж это «вдруг». Сколько оно родило трескучих романов, разрушило судеб, пустило по миру влюбленных сердец!
Но вернемся к Васе. И вдруг, придя на работу, Булочкин ахнул. Юное пухленькое создание стояло возле крана с питьевой водой и поглощало влагу. Огненные волосы, набегающие легкой волной на плечи, затуманили Васин взгляд. То была Она.
Деревянной походкой он подошел к своей королеве и, вложив в голос всю поэзию души, воскликнул:
– Здравствуйте, моя Лаура!
Та, слегка повернув голову, стрельнула тигриными глазищами в его сторону, попробовала что-то ответить, поперхнулась, не то от Васиных слов, не то от неожиданности, смутилась и убежала.
Вася млел от счастья.
– Наконец-то… Надо срочно запечатлеть этот миг, этот миг… – повторял он, лихорадочно отыскивая предметы для письма.
Карандаш и бумага, к счастью, оказались под рукой, и Булочкин начал сонет «На встречу»:
В день 18 мая,
Терзаемый безмолвной пустотой,
Обрел звезду я…
Следующие два дня после встречи Вася провел в муках и радости. Муки доставляла Булочкину несведущая муза, не понявшая его любовного порыва, а радости он находил сам. От тайного созерцания возлюбленной. Временами он впадал в отчаяние, которое затем переходило в многозначительные вздохи.
Прошло еще пять дней. Вася узнал, что причину его страданий зовут Людочкой, что приехала она с далекого Урала. Он также выяснил у ее подруг, что Людочка не обращает на него никакого внимания и «ужа-а-сно не любит всяких там интеллектуалов и поэтов».
– Как? – в растерянности спрашивал себя Вася. – Не может быть.
Вскоре Булочкин понял, что без Людочки ему не жить. Теперь всех без исключения девушек он оценивал не иначе как приближение к Людочке.
– На Людочку похожа, – говорил он приятелю, увидев хорошенькую незнакомку.
Наконец, набравшись неслыханной дерзости, Булочкин робко пригласил свою возлюбленную в гости.
Людочка метнула на него свой тигриный взгляд и нараспев произнесла:
– Губы-то как раската-ал, – заулыбалась, удивившись собственному красноречию, и убежала.
В этом необыкновенном для Васи отказе он уловил какую-то притягательную силу Людочкиного слога и решил постигнуть все таинства ее речей.
Скрупулезно, путем проб и ошибок Булочкин шаг за шагом расшифровывал сокрытый в Людочкиных фразах смысл. Теперь он уже знал, что «губы раскатал» она употребляет для связки слов, при отказе, недоверии и в некоторых других случаях. «У тебя с умом как?» – встречный вопрос, если Людочка не знает, что ответить. «У меня ведь ума хватит» – шутка, предостережение. «Уйди, а то скажу» – предостережение. «Я тебя опозорю» – доброжелательность, симпатия (эта фраза по отношению к Васе употреблялась Людочкой очень редко). «Да ты че-е-е-е!» – сильное удивление.
Изучив почти весь лексикон Людочки, Вася пришел к горькому выводу: она его не любит.
– Напишу прощальное письмо и навсегда уйду из жизни, – решил он.
Из своей жизни или из жизни Людочки он собрался уходить, было известно только ему. Но так или иначе Булочкин аккуратно переписал свой сонет, теперь уже «На встречу и прощанье с Людочкой», а внизу дополнил объяснениями в любви. В местах, где не хватало слов и красноречия, он призывал на помощь Рабиндраната Тагора, и они вместе выходили из затруднительного положения.
Каково же было удивление Булочкина, когда Людочка, получив письмо, сама подошла к нему, томным взглядом доверчиво проникла в истерзанную Васину душу, в один миг залечила все его сердечные раны и, сжигаемая от девичьего любопытства, уточнила:
– Вася, ты правда меня так любишь?
С этой минуты у Васи Булочкина началась взаимная любовь. Через два месяца они поженились. За ненадобностью Булочкин перестал писать стихи в сотрудничестве с Рабиндранатом Тагором, а Людочка вскоре забыла загадочные фразы, которыми пленила бывшего поэта Василия Степановича Булочкина.
Велика власть искусства над человеком!
Ох уж эти мужчины…
Вениамин Филаретович, обхватив руками голову, думал. Он напрягал весь свой ум, но вопрос о подарке к 8 Марта оставался открытым. Хотелось удивить Вареньку чем-нибудь эдаким необычным, но фантазия, в самый решительный для него момент, обеднела. И вдруг спасительная мысль: «В магазине сориентируюсь. Мужики подскажут…»
В универмаге Вениамин прямиком направился к прилавку, возле которого собралось несколько мужчин. «Люди просто так в магазины не ходят, – подумал он. – Куплю то, что другие своим женам покупают».
Мужчины с детской беспомощностью шарили глазами по целлофановым упаковкам с разноцветными бантами и, украдкой наблюдая друг за другом, выжидали.
– А может, Ваня, вот тот набор… – обратился мужчина в сером пальто к своему соседу.
– Нет, не годится. Побьешь – неприятность, – философски заметил сосед. – Небьющийся какой-нибудь сувенир, оно будет надежнее.
– Я в прошлом году жене шахматы сувенирные за 12 рублей подарил, а она обиделась, – вставил чей-то голос.
Мужчины переглянулись.
– …Говорит, вместо этих шахмат лучше бы капроновые чулки купил, – продолжил голос и замолчал, а его владелец сконфузился.
– И правда, – обрадовался мужчина в сером пальто. – Заглянем в «Женскую одежду».
– Ты знаешь, что носит твоя жена? – удивился тот, которого звали Ваней.
– Не-е-т… – растерянно произнес мужчина в сером пальто.
– То-то же. Однажды я проявил инициативу. На целых два размера промахнулся.
– Ну и забот дает нам этот женский день, – продолжил разговор рядом стоящий мужчина.
– Не говори, – ответил тот, которого звали Ваней.
– А ведь у них, этих женщин, как-то все просто и легко получается.
– Это у них от природы.
– …Я не знаю, а моя жена знает, какой мне костюм или рубаху купить.
– Это тоже у них от природы.
– Ты думаешь?..
Усталый и измученный, Вениамин плелся по улице. На руке, опущенной в карман пальто, болталась пустая авоська. «Женщинам хорошо, – сокрушался он. – Сбегают в магазин, продуктов накупят – и все их заботы. В очереди отдохнут – и к плите, в тепло. А ты по холоду из магазина в магазин мотайся. Голову ломай, мозги выкручивай, думай, чего у них нет, чего им не хватает. А чего? Всё у них есть. Всё они сами себе умудряются купить. Вот если бы…»
– Дяденька, а дяденька, купите цветы.
– Какие цветы?! Откуда ты на мою голову? – недовольным тоном произнес Вениамин Филаретович.
– Мы с папой маме розы приготовили, а она срочно уехала в командировку. Купите, а?
– Розы? Гм… розы… А может, и правда купить? Ну давай сюда свои розы…
– Веня, милый. Ты наконец вспомнил наши свадебные цветы, – вдыхая нежный сладкий аромат чайных роз, ворковала возбужденная жена.
– Парень вот… – смущенно начал Вениамин.
– Какой парень? – насторожилась жена.
– Да это я о работе, – спохватился муж.
– Венюра, какая работа!
Жена прижалась к мужу и ласково погладила его шершавую щеку.
«Трудно понять этих женщин, – краснея от удовольствия, подумал Вениамин. – Пустяк такой, а они от радости на седьмом небе».