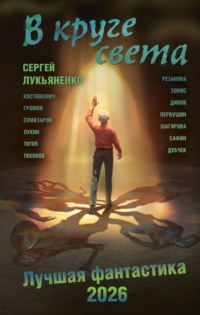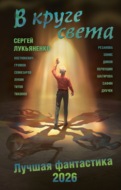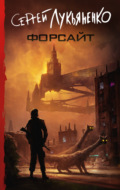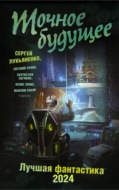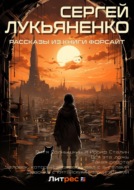Loe raamatut: «В круге света. Лучшая фантастика – 2026»
* * *
© А.Т. Синицын, составление, 2025
© Коллектив авторов, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Наталья Резанова
За зипунами
Давно вернулись в море миноносцы,
Как лебеди, они ушли на юг,
За вами, павшие, за вами, крестоносцы,
Прислали рать железнокрылых вьюг.
Наверх, наверх, окоченевший Маркин!
Срывайте лед с кровоточащих ран.
Потоком медленным, густым и жарким,
В безудержный вольется океан
Бунтующая кровь от ваших ран…
Лариса Рейснер, «На гибель военного корабля „Ваня-коммунист“»
1. Итиль-город, август 1918 года
Объявление комиссара по организации и формированию Речной военной флотилии:
Требуются в Речную военную флотилию опытные: артиллеристы, пулеметчики, машинисты и лоцманы. От желающих поступить в отряд требуются признание платформы советской власти и безукоризненная честность как по отношению к начальству, так и к своим товарищам. Не имеющих этих качеств просим не беспокоиться.
Запись ведется с 6 до 8 вечера в номерах «Русь», что на Театральной площади.
Комиссар флотилии Николай Марков.Кама, Пьяный Бор, октябрь 1918 г.
Их всегда не хватало, хотя в добровольцах вроде бы недостатка не было. Первый отряд прибыл на Волгу из Петрограда, второй – с Черноморского флота. Но для того, чтобы создать боеспособную флотилию, этого было недостаточно. Тогда он и призвал добровольцев. Увы, даже обладавшим безукоризненной честностью и признавшим советскую власть не хватало боевого опыта. Даже в городских условиях – в Итиль-городе Советы победили мирно.
Пока дожидались пополнения с Балтики и Черноморского флота, пока мирные речные пароходы и баржи одевались броней, ситуация на фронте ухудшалась. Белые вместе с интервентами создали собственный речной флот и нанесли жестокий удар, захватив Казань, отрезав большую часть Поволжья вместе с югом России и обрекая молодую республику на голод. Несмотря на то что Речная флотилия провела ряд удачных операций и потрепала чешских легионеров, сразу отбить Казань не удалось, потому как чехов возглавлял Каппель и при нем белогвардейцы. Бои шли больше месяца и завершились полной победой, канонерская лодка «Ваня-коммунар», которой командовал комиссар Марков, была награждена боевым знаменем ВЦИК. Но для передышки не было ни дня – белые отползали с боями, и Красная армия преследовала их, и Речная флотилия должна была ее поддерживать, для того и был создан Камский речной отряд.
Комиссар и сам не хотел отдыхать и рвался вперед. Ярость не оставляла его. Не оттого, что чехи и беляки, как говорили, украли золотой запас России. Что то золото! После победы мировой революции оно только на то и будет нужно, чтоб нужники отделывать. Но он видел, что чехи и каппелевцы делают с пленными. Говорят, лично Колчак приказал, рыцарь белого дела, как они его называют. Одну «баржу смерти» удалось отбить, вторая находилась ниже, у Пьяного Бора. Туда он и рванул, оставив далеко позади корабли командования. Даже миноносец прикрытия.
И попал в засаду. Помимо вражеских миноносцев, у белых в лесу была спрятана артиллерийская батарея.
Первый же залп уничтожил пушку Гочкиса и три из шести пулеметов. Остальные пулеметы еще отвечали, но миноносец прикрытия из-за шквального огня не мог приблизиться. Все, что он мог сделать сейчас, – спасти команду.
– Товарищ Берг, выводи всех, сажай в шлюпку и к миноносцу!
– А ты как же?
– Я прикрою! Уводи остальных, это приказ!
И вот он один за пулеметом. Осенний туман над рекой, напоминающий о Балтике, где он начинал службу, разрывают в клочья взрывы и пулеметные очереди. Он жмет на гашетку, пока патроны не заканчиваются. А новых взять негде. Наверняка он ранен, и не раз, руки в ожогах – пулемет раскален. Но он продолжал бы стрелять, если бы мог. Новый залп по канонерской лодке, и та идет ко дну.
Последнее, что он чувствует, – как ледяная вода омывает его раны.
Пылающую баржу он увидеть не успеет. Отступающие колчаковцы подожгли баржу, набитую пленными, согласно приказу адмирала.
2. Итиль-город, Лаборатория дальней связи, декабрь 1918 года
Курить они вышли на крыльцо лаборатории, выходившее на Верхнюю набережную.
Любомирский все никак не мог привыкнуть к перепадам здешнего климата, хотя, казалось бы, не так далеко от Твери – то оттепели, то морозы лютые, хотя не Сибирь и не Урал, от Москвы одну ночь на железке. На Волге с конца ноября прочно встал лед, в декабре же, как было заведено еще с прошлого века, на лед проложили деревянный настил под рельсы, и между берегами великой реки побежал трамвай. Сейчас это было необходимо. Заводы и верфи на левом берегу, заложенные когда-то легендарным промышленником Костанжогло, а после перешедшие в собственность государства, вовсе не простаивали. Еще с германской войны часть заводов перешла, как говорится, на военные рельсы. Здесь строились и ремонтировались бронепоезда и выпускались первые образцы танков. Правда, в массовое производство их запустить не удавалось. Но когда молодой республике срочно понадобилось создать военную флотилию на Волге и Каме, а перебросить достаточно миноносцев и канонерок с Балтики не получилось, здесь стали переделывать для военных нужд вполне мирные пассажирские пароходы, катера и баржи. А перед самым концом навигации для ремонта сюда перегнали суда, пострадавшие при недавних боях.
Это было как раз перед тем, как сюда приехали Михаил Самотевич и Иван Любомирский.
Они работали вместе уже четыре года – с тех пор, как поручика Самотевича перевели из тогда еще Петербурга в Тверь. Успехи чрезмерно одаренного выпускника Офицерской электротехнической школы, заслужившего, несмотря на молодость, признание в научных кругах, вызвали глухое раздражение армейского начальства. Поначалу умника Самотевича вообще собирались законопатить в Туркестан. Но тут грянула война, и у кого-то хватило ума сообразить, что разработки в области дальней связи могут пригодиться поближе.
Иван Любомирский был тогда начальником Тверской искровой станции связи и стал непосредственным начальником Самотевича. Собственно, он и теперь был его начальником. Совнарком назначил директором Лаборатории дальней связи именно его. Но Любомирский прекрасно понимал, что сам он более одарен в административной сфере, чем в научной. Наука – это по части Самотевича. Поэтому они сумели разделить обязанности и сработались, нашли единомышленников и даже в условиях военного времени смогли создать действующую модель вакуумной лампы. Их усилия оценили, Самотевича повысили в звании и командировали за границу, в союзные страны, знакомиться с новейшими технологиями в области электроники. Однако пустить в производство разработки не удалось, союзнички требовали за комплектующие дикие деньги. Что ж, Самотевич, Любомирский и их товарищи засели за работу и придумали, как обойтись без иностранных поставок.
Тем временем власть сменилось, и Временное правительство поставило жирный крест на их разработках. Им было велено заткнуться со своим деревенским самомнением, все необходимое для дальней связи будет закупаться у передовых западных стран, от которых лапотная Россия отстала навсегда. Где деньги взять? Не ваше дело!
Так что не приходилось удивляться, что после того как большевики поперли Временное правительство, Самотевич, при всем своем патриотизме (ему неоднократно предлагали работу за границей, а частные фирмы заманивали службой с высоким окладом, но он неизменно отказывался), поддержал большевиков. И Любомирский, который был страшно зол из-за ответа «временных», – тоже. А большевики еще как ухватились за проект! Что еще им оставалось делать? Пресловутые передовые страны их союзников стали врагами, о сотрудничестве не могло быть и речи. Ведущие фирмы сворачивали свою работу в Советской России. Приходилось выкручиваться самим. Так что проект был принят на ура. И финансирование сразу нашлось.
Правда, станцию – теперь она именовалась Лабораторией дальней связи – перевели в Итиль-город, более развитый в промышленном отношении и находившийся неподалеку от Москвы, куда недавно переехало новое правительство. Итак, лаборатория была расширена по сравнению с прежней станцией, в людях и материалах не было нужды, и все с энтузиазмом принялись за работу.
А в декабре на Костанжогловские верфи приехал профессор Василий Шахов.
Единственный человек, по мнению Любомирского, сравнимый гениальностью с Самотевичем, хотя в некоторой степени являлся его противоположностью.
Начать того, что он и Самотевичу, и Любомирскому в отцы годился. Когда те еще пешком под стол ходили, он уже строил свои первые башни – и здесь, в Итиль-городе, и в Заречье, у тамошних промышленников. В отличие от государственного служащего Любомирского и Самотевича, лишь год назад снявшего штабс-капитанские погоны, он до недавнего времени работал на частные фирмы, в том числе зарубежные. На любые, кто готов были финансировать его проекты, царским чиновникам казавшиеся безумными. Проектов у него было несколько, и в этом состояло его главное отличие от Самотевича, сосредоточенного на дальней связи. Довольно долго Шахов строил первые в России нефтепроводы и заводы по переработке нефти. Но его прежний патрон, господин Нобель, покинул Россию. А вот новая власть заинтересовалась другим проектом Шахова – радиолокационной башней. Башню предполагалось строить в будущем году в Москве. А в Итиль-город призванный на службу правительству Шахов приехал, чтобы на базе здешних заводов создать действующий прототип.
Хотя все трое решали проблемы дальней связи, занимались они совершенно разным делом. Лаборатория в настоящее время работала над созданием передатчика, способного передавать звуковые сигналы на большое расстояние. Гиперболоидные башни Шахова эти сигналы должны были улавливать и, по идее, передавать на еще большие расстояния.
Разумеется, гиперболоидные башни, словно сотканные из стального кружева, производили куда большее впечатление, чем радиолампы Самотевича (и это товарищ профессор еще первых образцов не видел, собранных из подручных материалов, за копейки в аптеке покупали). И впечатленные народные комиссары прощали Шахову многое. Даже то, что один из его сыновей, по слухам, служил у Колчака.
Шахов мог позволить вести себя как профессор из сочинений Жюля Верна и мистера Уэллса – и это тоже отличало его от Любомирского и Самотевича, людей иного поколения. При знакомстве спросил у директора, не из князей ли он Любомирских, а в 18-м году такой вопрос звучал как провокация. Любомирский, однако, понял, что Василий Васильевич ничего такого в виду не имел, и ответил, что к шляхте, разве что давно обнищавшей, у них только Миша отношение имеет, а вот у него дед из семинаристов был. Так что отношения сложились неплохие, и разговоры велись непринужденные. Впрочем, слушая эти разговоры, Любомирский и впрямь представлял себя на страницах сочинений помянутых авторов.
Шахов был уверен, что в недалеком будущем их стараниями радиосигналы смогут охватить целые страны и континенты и даже весь земной шар. Когда чистота звука улучшится, передатчики можно будет установить в театрах и концертных залах. Жителям самых глухих деревень станут доступны лучшие образцы мирового искусства, а разве не этого, помимо прочего, хотят нынешние господа-товарищи?
Самотевич, обычно мысливший более практично, попадал под влияние почтенного профессора и сам выдвигал такие предположения, до которых и иностранные сочинители не додумались. Передавать можно будет не только звук, но и изображение, доказывал он, оставив далеко позади изобретателей синематографа, ибо тут совершенно иной принцип. И передавать можно будет не только спектакли и концерты, нет, важнейшие мировые события можно будет увидеть во всех уголках земного шара. Правда, спохватывался Самотевич, до этого еще достаточно далеко.
Но сегодня ученые не грезили о великих изобретениях. Шахов внезапно заговорил о посещении верфи, точнее, о кораблях, проходящих там ремонт, – точнее, почему им ремонт необходим.
– Они с этой речной флотилией хорошо начали. И что теперь? И полгода не прошло, а нет ни исходного комиссара, ни командующего. Один убит, другой в плену.
– Это война, – сказал Самотевич.
– Нет, – отрезал Шахов. – Это недостаток опыта. Я человек сугубо штатский, но знаю, что опыт необходим в любой области. Вот вы, Миша, радиосвязью занимаетесь со времен электротехнической школы?
– Больше. Увлекся еще в кадетском корпусе.
– То есть лет десять-двенадцать как минимум. И несмотря на молодость, опыт у вас в наличии. А теперь посмотрите, кому поручили командование. Ладно Марков, он хотя бы мичман… был. Но Разумихин! Репортер газетный! Если бы его поставили комиссаром, я бы понял, тут достаточно преданности партии. У Маркова, как мне говорили, имелся авторитет среди матросов. Но командовал-то Разумихин! И что мы имеем в результате? Поначалу неудачное завершение осенней кампании с гибелью Маркова. А потом этот бессмысленный рейд на Ревель, в результате которого Разумихин нелепейшим образом попадает в плен. Повезло ему, что к англичанам, которые расчетливы и придерживают его для каких-то целей, а не к чехам или соотечественникам, там бы его сразу к стенке поставили. И кто его такого назначил?
Они прекрасно знали кто.
После паузы Любомирский, тщательно подбирая слова, произнес:
– Товарищ Троцкий имеет большой авторитет в армии.
Но не во флоте, они это знают. И во флотских делах не разбирается.
– Сейчас командующим поставили Комнина, – говорит Шахов. – Тоже из мичманов, но по крайней мере какой-то опыт есть.
– Но ведь он сейчас не здесь?
– Нет. Здесь я работаю с товарищем Незлобиным. Он не моряк, но из волжских речников, что в данном случае даже лучше. Он ничего не смыслит в вопросах дальней связи. Но и не препятствует установке моей башни на этой бывшей барже.
Тут профессор вспомнил, что уже вечер, каковой в декабре наступает рано, а он хотел до завтра доделать кое-какие расчеты, оставленные в номере.
Самотевич и Любомирский жили не в гостинице, как Шахов, а в жилом крыле при лаборатории, им торопиться было незачем, и они продолжили работу.
И вот теперь они курили, глядя на затянутую льдом реку. Ночной туман прорезали отсветы огней на левом берегу – верфь работала и в ночную смену. Днем набережная была местом оживленным, но в темное время, особенно зимой, ходить было опасно. И сейчас было пусто и тихо, только несколько голосов орали:
Вниз по матушке по Волге,
По широкому раздолью,
Поднималась непогода,
Погодушка немалая.
Немалая, волновая.
Ничего в волнах не видно,
Одна лодочка чернеет,
Только паруса белеют…
– Ничего в волнах не видно… – повторил Самотевич и добавил: – Как нарочно все это совпало… что Речную флотилию создали именно там, откуда разинцы шли в Персию, как тогда выражались, «за зипунами». Да и мы теперь здесь оказались со своими волновыми проблемами.
– Разина здесь не было, – поправил Любомирский. Долго живший в Твери, он более-менее знал историю Поволжья. – Он дальше по реке, ближе к Каспию гулял. Соратники его здесь были, это верно, Алена-старица, например…
– Ну, извини, Ваня, я здешние легенды плохо знаю, не до того было.
– Это Шахов со своими разговорами про военно-речные дела тебя с толку сбил?
Голоса удалились. Верно, подвыпили парни и не боялись ни грабителей, ни народной милиции.
– Ладно хоть они это пели, а не «и за борт ее бросает в набежавшую волну». У нас совсем другие волны. Те, что в эфире, пусть даже Шахов и ставит свою башню связи на «Разине».
– Ага. Знаешь, что он мне как-то сказал? Он что-то вспомнил труды Николая Теслы и разговоры о том, как его достижения могли поколебать мировое пространство… еще байки про Тунгусский метеорит ходили, мол, это Тесла виноват, что-то такое натворил. Я еще в корпусе учился, а Василий Васильевич помнит. И предположил, что наши совместные работы тоже могут поколебать мировые струны.
– Это, Миша, как-то чересчур поэтично звучит. Он там, в Москве, собрания символистов не посещал?
– А я ему говорю – если уж развивать вашу теорию, мы сможем поколебать эти струны не только в пространстве, но и во времени. И зря, что ли, нас всех отправили в этот город?
– Это тебе песнею навеяло?
– Наверное, да.
3. 1919 год
Февраль
От исполняющего обязанности командующего
Речной военной флотилией Георгия Комнина —
в Наркомат по морским делам
Срочно. Секретно
Согласно разведывательным данным, поступившим от уральских и сибирских товарищей, с открытием навигации белогвардейские отряды, подкрепленные соединениями белочехов, готовятся возобновить наступление в верховьях Волги. Сомнительно, что они решатся ударить непосредственно по Итиль-городу. Он хорошо укреплен и способен отразить атаку. Но в непосредственной близости к Итиль-городу находится несколько населенных пунктов, обладающих пристанями, подходящими для высадки десанта на Правобережье, – Радилов, Медвежий Дол, Великая Синь. Оттуда противник может попытаться нанести удар по Итиль-городу, а также захватить контроль над железнодорожными путями на Правобережье.
Чтобы не допустить этого, предлагаю направить в этом направлении отряд из тех судов, что в настоящее время отремонтированы и стоят в доках Итиль-города. В качестве командира рекомендую тов. Незлобина, хорошо знакомого с данным отрезком реки.
Что касается комиссара отряда, кандидатура тов. Берг представляется подходящей.
Резолюция
Одобрено. Это также даст возможность испытать новейшее оборудование, установленное на артиллерийской батарее проф. Шаховым.
Наркомвоеномор Л. Троцкий.
Итильгородская губерния, май 1919 г.
Еще в апреле по реке шел лед, а сейчас наступила жара, все цвело и зеленело, и ничто не напоминало о суровой зиме.
Но командиру Незлобину было не до любования цветочками. Сейчас под его командованием находилась эскадра следующего состава: артиллерийская батарея «Степан Разин», бронированный катер «Беззаветный герой» и канонерка «Акация», которая каким-то образом избежала переименования. Хотя не избежала преображения из пассажирского парохода, такого же, какой значительную часть жизни водил Незлобин.
Вполне естественно, что сейчас он «Акацией» и командовал. А вот командовал ли он эскадрой, это вопрос. Нет, товарищ Комнин так распорядился, но…
Волжский капитан Илья Незлобин записался в состав Речной военной флотилии сразу после призыва товарища Маркова, без малого год назад. Его любимый колесный пароход «Евстифей Бодров», переименованный в «Красногвардейца», также пошел на службу во флотилии, но пока на него навешивали броню, Незлобина, как человека с опытом, назначили первым помощником на доставленную с Балтики миноноску. И сразу отправили в бой, освобождать Казань. К осени многих повыбивало, включая самого комиссара. А Незлобина послали надзирать над ремонтом.
И вот теперь – новое назначение. Командовать эскадрой, пусть и малой. Батарею «Степан Разин», кстати, Незлобин еще помнил по прежним временам как баржу «Теща», но сейчас под руководством столичного инженера из «Тещи» сделали сущую монстру.
А сам Незлобин стал прямо-таки адмиралом, хоть революция адмиралов и генералов отменила, да и не водилось их отродясь на реках, адмиралов-то.
В этом и печаль. В боях Незлобин не трусил, хотя человек был по натуре мирный. Оставили бы его просто «Акацией» командовать – милое дело. Но эскадра – это, братцы мои, совсем другое.
Они должны подняться вверх, хотя и не достигая Ярославля. Омский правитель не согласен был, что адмиралов отменили, и вновь со своими союзничками пер в Центральную Россию. Снарядился, сука, на английские денежки, а может, и японские. Да еще и чехи. Прямо обидки брали. Чехов-то русские за людей считали, чай, не австрияки какие. А они резню учинили хуже германцев.
И они побежали (речные суда не ходили, а бегали, так здесь говорили с тех пор, как на Волге завелись пароходы). Миновали гору Воровскую, откуда, говорят, в прежние времена разбойнички выглядывали купеческие ладьи, поспешающие к Итиль-городу, и Воровской же остров, где во оны времена, чуть ли не при Петре-императоре, грозный атаман Заря зарыл награбленное у тех купцов золотишко. И ватажников своих порешил, чтоб не выдали, где клад. Только один, говорят, спасся. Бросился в реку, доплыл до левого берега и скрылся в тамошних лесах, которые и сейчас густы, а тогда и вовсе были непроходимы. Отсиделся там, а после подался в Москву и стал там прославлен как Ванька-Каин. А золото потом на острове искали-искали – не нашли. Видно, заговорил тот клад атаман Заря.
Вообще же река была веками местом самым разбойничьим, и если сказки про Степана Разина в верховьях, вроде утверждения жителей Кинешмы, что именно здесь тот кинул в воду персидскую княжну, просто сказки, то другие разбойнички бороздили волжские воды на самом деле. И грабили проплывающие суда вплоть до времен, когда Павел-император не ввел на Волгу военный флот и разбойников повывел. И кто мог знать, что через сто с лишним лет здесь снова появится военный флот и бои развернутся похлеще, чем при Павле!
Впрочем, даже и в самые мирные времена опасность здесь представляли отмели – Волга-матушка намывает их на песчаном дне. Вот тут Незлобин был на своем месте – фарватер здесь изучил основательно, мог хоть с закрытыми глазами пройти.
Эскадра встала у Радилова – ближайшего к Итилю прибрежного города. Нужно было решать – оставаться здесь или двигаться дальше.
Незлобин это понимал, равно как и комиссар Берг. Во время перехода она была на «Беззаветном герое» – но сейчас они обязаны были совещаться. И Незлобину следовало понять не только что делать дальше, но и, в сущности, кто командует эскадрой.
Если бы в прошлом году кто-нибудь сказал, что Марьяна Берг приобретет авторитет в Речной флотилии, над ним бы реготали до усрачки. Баба в военной флотилии, хотя бы и речной?
Вдобавок она была не из здешних. Объявилась прошлым летом, откуда-то из Малороссии. Тогда на Волгу прибыло несколько сотен бойцов из Черноморского флота. Но Марьяна, конечно, была не с ними. Поскольку никакого потребного опыта у нее не было, записалась рядовым бойцом. Теперь это разрешалось, революция провозгласила равноправие. Правда, в некоторых воинских частях с баб и девок подписку брали – чтоб до окончательной победы мирового пролетариата про свою бабскую сущность забыли и перед бойцами хвостами не крутили. Но с Марьяной так не было. Говорили, будто мужа у нее контры убили, петлюровцы вроде или кто там на юге есть. Вот она и мстит белякам.
Незлобин в эту историю не шибко верил – если мужа петлюровцы убили, что она здесь делает? Шла бы к товарищу Буденному.
Но, когда Марков погиб, а уцелевших из боя вывела Марьяна, ее во флотилии крепко зауважали. Сам командующий Разумихин ей именной маузер вручил. С тем маузером в последующую зиму участвовала Марьяна Берг в боях на суше. А когда в начале весны назначили ее комиссаром эскадры, оказалось, что уважают ее больше, чем Незлобина, который всю зиму в тылу сидел и следил, чтоб болты и заклепки на верфи не тырили.
Незлобин, кстати, из-за этого не особо огорчался. Ну не командующим он был по натуре. Он еще в прошлом году это понял. Помогать дельным советом – да завсегда. Нравится бойцам думать, что здесь товарищ Берг всем заправляет, – пусть думают.
Ведь Незлобин был местный и местные легенды о волжских разбойниках знал. И баб среди тамошних атаманов было немногим меньше, чем мужиков. Атаманов же и атаманш зачастую и молва народная, и власти почитали за колдунов и ведьм. Даже Разин был из таких.
Это, конечно, от тьмы невежества происходило, не может большевик в колдовство верить, но Незлобин на таких побасенках вырос, и Марьяна напоминала ему колдовок-разбойниц из тех, что могли единым словом купеческий корабль остановить и топор метать за десяток верст.
Говорят, у каждой ведьмы отметина есть, которая ее выдает, и насчет Марьяны даже знал какая, она всякому видна была – седая прядь надо лбом, белевшая в черных волосах. Волосы же нынче она не стригла, как нынче у товарищей-гражданок заведено, а сворачивала на затылке в узел. Так что за мужика ее ничуть нельзя было принять, несмотря на кожаную куртку поверх старой гимнастерки, штаны, заправленные в сапоги, и маузер на ремне. Остальные-то большей частью рядились во флотское, неважно, откуда они прибыли – с Балтики, Черного моря или были речниками.
Такими капитаны «Героя» и «Тещи», то бишь «Разина», механики и артиллеристы на совещание к Незлобину и явились. И Марьяна, конечно.
– Значит, так, товарищи. Прежде чем что-то решать будем, излагаю диспозицию. И не потому, что за дураков вас держу, а потому как многие мест здешних не знают и в прошлом году здесь не были, – начал Незлобин. – Всякому ясно, что чем ниже по течению, тем Волга полноводнее и для судоходства больше приспособлена. Поэтому беляки и пошли в прошлом году по Каме, а мы по ним сверху ударили – ну, тут кое-кто помнит. Казалось бы, в новом наступлении им самый резон это повторить, потому как Колчак и союзники его верховья Камы держат и оттуда суда пошлют.
Наше командование это всяко понимает. И потому большая часть флотилии сейчас под Казанью и на Каме. Вот только беляки на этот счет удумали подлянку, о которой нам товарищи с Урала и Сибири и сообщили. Пройти сверху, не по Каме, а по Северной Двине и Старице.
– А пройдут они? – спросил кто-то сообразительный. – Лето начинается, Волга мелеет сильно.
– Вот потому, товарищи, мы здесь и собрались. Это верно, летом мелеет сильно. Потому, кто не знает, есть у нас в верховьях Волжский бейшлот, дамба такая. Летней порой, когда надо, шлюзы там открываются, воду спускают, и пароходы с баржами бегут без труда. Однако товарищ Комнин вот чего опасается. Поначалу белые высадят здесь десант, и с него по берегу подрывники до бейшлота доберутся и взорвут его. Тут потоп начнется. Большие города, Ярославль, там, Тверь, может, и не шибко пострадают, но Калязин может затопить совсем. Однако не в том главная беда, а в том, что вся белогвардейская сволочь сможет свои суда провести с верховий. Стало быть, надо определяться, здесь белых ждать или выше идти, к Медвежьему Долу или Великой Сини.
– Что за Медвежий Дол, не знаю такого? – спросил кто-то из балтийцев.
– Это, братцы, замок князей тутошних, Длиннопястых.
– С какого бодуна в Поволжье замок?
– Видать, именно что с бодуна. Князьям, видно, денег некуда девать, вот и отгрохали себе замок, как в европах. Я сколько раз мимо своего «Бодрова» водил, врать не буду – красиво. Стены крепостные, башни, причал же обустроен… Князья те еще до революции сами повымерли, даже к стенке ставить не пришлось. А замок стоит.
– И местные его не пожгли?
– Не пожгли, решили, что народной власти пригодится.
– Стало быть, стены там крепостные и причал обустроен. И князей уж нет… – Марьяна Берг, молчавшая все время, подала голос. – Если колчаковцы и чехи и впрямь замыслили диверсию на бейшлоте, вряд ли они будут спускаться к Радилову, высадятся выше. Вот какое мое предложение: ты, товарищ Незлобин, веди эскадру к Великой Сини. А я наведаюсь в Медвежий Дол, узнаю, что там и как.
Незлобин не знал, что затеяла комиссарша, но ему показалось, что он понял. Не случайно она встрепенулась при упоминании крепостных стен. Чехи могут подойти по суше и устроить резню в ближайших городках и деревне. А если князья тут впрямь натуральный замок отгрохали, народ за стенами укрыться может… опять же, если в Великой Сини народное ополчение собрали, хорошо иметь укрепление за спиной.
Никто возражать против замысла товарища Берг не стал, и когда они проходили мимо Медвежьего Дола – и впрямь замок, стены зубчатые, башни высокие на Волгу глядят, – она там с катера высадилась, а эскадра двинулась к Великой Сини.
Дальше шло так, как Незлобин и предполагал. Он не знал, кто там усадьбу занял после того, как князья закончились, но Марьяна с ними договорилась. Если события пойдут худо, можно будет закрепиться в замке. Однако ж, сказала Марьяна, как следует Медвежий Дол укреплен только со стороны дороги и деревень. Князья, видать, крепостных опасались, а нападения с воды не ждали. Если ж у беляков будет артиллерия, а она, скорее всего, будет, ударят с реки – и стены не помогут.
– Есть соображение, – сказал она. – Пристань там и впрямь хороша, не знаю уж, на что князья рассчитывали, когда ее строили. Если там «Степана Разина» поставить, тогда и впрямь будет крепость.
Незлобин согласился. Артиллерийской батарее у крепости самое место. О чем он Марьяне и сказал. А также о том, что можно будет связь держать и с Итилем, и с командованием.
– Зря, что ли, мы зимой эту дурынду на «Разине» ставили? Хотя по мне, телеграфа было бы достаточно.
Они ошиблись.
Может, белогвардейцам Медвежий Дол показался слишком незначительным населенным пунктом. Но скорее всего, у них была своя разведка, которая донесла, что артиллерийская батарея стоит у замка. И они не стали пробиваться к Медвежьему Долу, решили высадиться выше. Что ж, Незлобин такое принимал в расчет. Так что они перерезали белякам путь, и бой разыгрался насупротив Великой Сини. Вот только эскадра была сейчас ослаблена, да и какая сейчас это эскадра, два плавсредства. Хоть и в броне. А у белых с чехами крейсер и три миноноски.
Пороховой дым смешался с привычным речным туманом. От грохота закладывало уши. И в какой-то миг Незлобин подумал, что повторяется прошлогодняя история. И «Акацию» ожидает та же судьба, что «Ваню-коммунара». Только вот, наверное, товарищ Марков до последнего ждал, что подойдет на помощь «Прыткий» Разумихина. Ан «Прыткий» прыти не проявил и не поспел. «Акации» же и вовсе ждать было некого и нечего.
Да, товарищам в Медвежьем Доле уже известно, что происходит, но артиллерийская батарея, она тихоходная, покуда сюда доползет, все уже будет кончено. А если они сейчас там через эту радийную башню с Итиль-городом связались – там отбиться смогут и вражескую эскадру потопят, но помочь «Акации» и «Герою» не успеют, нет, не успеют.
* * *
Из-за дыма и тумана, ухудшавших видимость, никто не заметил, когда именно и откуда они появились. Острогрудые суденышки странного вида. Ни одно из них не превышало размерами «Беззаветного героя». Зато их было много. Незлобин насчитал пару десятков и сбился. Люди, сидевшие в них, не были одеты ни во флотскую форму, ни в копполовскую. Одни были голы по пояс и босы или обряжены в лохмотья, другие в кафтанах такого фасона, какие даже те, кто цеплялся за древнее благочестие, уже не носили. Похожие кафтаны и шапки были у донцов, но те их надевали разве что для парада, а эти наряды парадными ни разу не были. Зато все они были вооружены – саблями, рогатинами, палицами. А главное – у многих наготове были штуковины, напоминавшие ручные пушки.
Tasuta katkend on lõppenud.