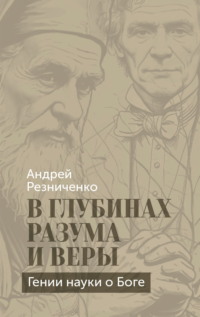Loe raamatut: «В глубинах разума и веры. Гении науки о Боге», lehekülg 4
Золотой нос астрономии Тихо Браге
В морозный декабрьский день 1566 года на улице небольшого европейского городка Ростока в буквальном смысле слова скрестили свои шпаги два математика. Тихо Браге, молодой датский дворянин с пылким нравом и острым умом, вызвал на дуэль Мандерупа Парсберга – своего троюродного брата и научного соперника.
Их противостояние началось в тиши кабинетов, среди математических формул и астрономических карт. Оба – блестящие умы своего времени, оба – страстные искатели истины, не смогли поделить первенство в науке. Каждый считал себя более искусным в толковании земных чисел и небесных тайн. И как это часто бывало в те времена, когда честь ценилась наравне с жизнью, научный спор перерос в личную вражду.
Для Браге дуэль завершилась серьезно. Часть его носа оказалась срезана ловким ударом шпаги соперника. С тех пор на публичных встречах он постоянно носил металлический протез, созданный собственноручно из серебра и меди и прикрепляемый особым клеевым составом. После дуэли Тихо приобрел репутацию человека чрезвычайно гордого и самолюбивого, а история с протезом стала легендой. Спустя время дуэлянты превратились в хороших друзей. Парсберг даже женился на дальней родственнице Тихо, девице Анне.
Тихо (Тюге) Оттесен Браге родился 14 декабря 1546 года (по юлианскому календарю) в замке Кнудструп на юге Скании – местности, которая в то время принадлежала Дании, а ныне находится в пределах Швеции. Ребенок из древнего знатного рода едва успел сделать первые шаги, как оказался в центре почти анекдотичной семейной истории: его дядя, Йорген Браге, фактически «похитил» маленького Тихо у родителей, чтобы воспитать как собственного сына. Подобные ситуации не были редкостью в высшем датском сословии XVI века, однако раннее перемещение в другой семейный круг определило будущий вектор его судьбы: получив великолепное образование и пропитавшись духом аристократического воспитания, Тихо довольно рано открыл в себе интерес к небесной механике и математике, проявившийся в полной мере уже в отроческие годы.
В 1559 году юноша поступил в Копенгагенский университет.
Внимание к астрономии пробудила неожиданная встреча с редким природным явлением – частичным солнечным затмением 21 августа 1560 года. В то время предсказание затмений считалось блестящим свидетельством силы математических расчетов, и Тихо, пораженный точностью предвидения этой небесной драмы, увлекся цифрами и логическими выкладками. Позже, продолжая свое обучение в Лейпциге, затем в Виттенберге, Ростоке и Базеле, он изучал право, медицину, философию и алхимию, но каждый раз возвращался мыслями к звездному небу. Прежний мир Птолемея, в котором Земля покоилась в центре системы неподвижных сфер, уже начал раскачиваться под воздействием гелиоцентризма, сформированного Николаем Коперником. Научное сообщество ощущало глубокую потребность в новых подходах к наблюдению за планетами и звездами.
В 1572 году Тихо зафиксировал одно из наиболее ошеломляющих небесных явлений – появление яркой новой звезды в созвездии Кассиопеи – суперновой SN 1572. Согласно аристотелевской астрономической традиции, надлунный мир считался неизменным, поэтому возможность возникновения новых звезд попросту не укладывалась в классические представления о якобы «совершенных и нетленных» небесных сферах.
«В ноябре 1572 года я, следуя своим обычным наблюдениям за звездами в ясную ночь, заметил новую звезду в созвездии Кассиопеи. Эта звезда была необычайно яркой, превосходя все остальные звезды по светоизлучению, и не мерцала, как привычные звезды. Ее положение оставалось стабильным относительно фона звездного неба, что указывало на ее неподвижность. Я тщательно измерил ее координаты и сравнил с предыдущими астрономическими картами, убедившись, что такой звезды ранее не было зарегистрировано. Это открытие стало важным свидетельством того, что небесные сферы не являются неизменными, как считалось ранее».
В трактате «О новой звезде» (De nova stella, 1573) Тихо убедительно показал, что это явление находится далеко за орбитой Луны, чем опроверг догмат о непоколебимой неизменности небесного свода. Опубликованные Браге расчеты пошатнули теоретическое здание, стоявшее веками, и продемонстрировали необходимость более точных измерений, внимательных и систематических наблюдений за небом.
Пять лет спустя, в 1577 году, Тихо детально изучил комету и пришел к выводу, что она проходит между планетными «сферами», а следовательно, предполагаемые «твердые небесные сферы», которые, по аристотелевским убеждениям, должны были нести на себе звезды, не могут быть реальностью. Сочетание наблюдения за кометой и анализ суперновой оказали мощное воздействие на мировоззрение его современников. Теперь уже об устойчивости древних систем трудно было говорить с уверенностью, особенно видя, что с точки зрения чистой геометрии объекты ведут себя вовсе не так, как предписывает средневековая космология.
В 1576 году датский король Фредерик II, впечатленный достижениями Браге, пожаловал ему в лен (владение) маленький остров Вен в проливе Эресунн, расположенный между Данией и Швецией. Это был в высшей степени дорогой подарок, по современным меркам ученого вполне можно было отнести к олигархам.
На острове, укрытом от суеты больших городов, Тихо основал уникальный по масштабам своей эпохи центр науки – роскошную обсерваторию Ураниборг, названную так в честь музы астрономии Урании. Обсерватория была не просто помещением с набором инструментов: с самого начала она задумывалась как настоящий дворец науки, воплощающий в себе передовые для своего времени архитектурные и инженерные идеи. Тихо спроектировал не только здание, но и окружающие сады, водостоки и сложные устройства, необходимые для точных наблюдений и алхимических исследований.
Вскоре рядом с Ураниборгом вырос Стьернеборг – «Звездный замок», в котором Тихо разместил массивные инструменты для астрономических наблюдений: квадранты, секстанты, армиллярные сферы, специально сконструированные и отточенные по его указаниям. Несмотря на то, что телескоп еще не был изобретен (первые телескопы появились спустя несколько лет, в начале XVII века, их связывают с именами Ганса Липперсгея, Галилея и других), Браге и его помощники достигли беспрецедентной для того времени точности измерений – порядка одной угловой минуты. Многие наблюдения эпохи Возрождения были куда более приблизительными. Такой феноменальный результат Тихо обеспечивался не только инженерной выдумкой и мастерством, но и методичностью его работы: в Ураниборге велся архив, где систематически и аккуратно фиксировались результаты всех наблюдений.
Браге удалось превратить остров Вен в подлинную республику ученых – туда съезжались талантливые молодые математики, механики, теологи, алхимики, люди, жаждущие приобщиться к тайнам неба и наполниться новым пониманием окружающего мира. В аудиториях Дворца науки проходили дебаты о природе космоса, организовывались симпозиумы и диспуты, высчитывались гороскопы для королевской фамилии и богатых заказчиков из знати, исследовались медицинские эликсиры и алхимические рецепты. Конечно, астрономия была главным фокусом науки, однако Тихо не пренебрегал ничем, что могло расширить границы человеческого знания: географические и метеорологические исследования, совершенствование карт, наставления в навигации – все это было частью его жизни на острове.
Любопытно, что, восхищаясь революционным трудом Коперника «О вращении небесных сфер» (1543), Тихо так и не принял гелиоцентрическую теорию в полной мере. Он разработал собственную, промежуточную модель мироздания: в ней Земля оставалась неподвижной в центре Вселенной, вокруг Земли обращалось Солнце, а остальные планеты вертелись вокруг Солнца. Такая система, с одной стороны, признавала наблюдательные выгоды гелиоцентризма, то есть те данные, которые соответствовали движению планет по орбитам, но, с другой стороны, сохраняла статус Земли как неподвижного центра, что помогало избегать прямой конфронтации с религиозными взглядами и с устоявшейся физикой Аристотеля. Хотя в дальнейшем эта конструкция Браге не прижилась, она стала важным интеллектуальным мостом между архаичным птолемеевским строем и более совершенной системой Кеплера.
Помимо научных достижений, жизнь Тихо Браге была наполнена конфликтами с властью. В 1588 году, когда умер король Фредерик II, на трон взошел несовершеннолетний Кристиан IV, чьи регенты и советники не были благосклонны к расходам на «роскошную» науку. Знать жаловалась на высокие налоги на острове Вен, взыскиваемые в пользу развития обсерватории, атмосфера вокруг Тихо постепенно накалялась. Серьезными проблемами для него стали дворцовые интриги и собственный аристократический стиль руководства островом, который вызывал недовольство подданных. В итоге в 1597 году Браге, дорожа своей исследовательской независимостью, решился покинуть Данию.
После скитаний он в 1599 году перебрался в Прагу под руку императора Священной Римской империи Рудольфа II, известного своим щедрым покровительством искусствам, наукам, алхимии, магическим практикам и всему тому, что ныне можно назвать необычным или эксцентричным. При высоком дворе собирались выдающиеся умы Европы, и Браге идеально вписывался в этот круг – аристократ с металлическим носом, человек, который искал таинственные эликсиры и был готов заняться экстремально точными наблюдениями за планетами, чтобы понять замысел мироздания.
В имперском дворце уживались торжественные ритуалы и музыкальные вечера, велись беседы об ангелах и демонах, проводились алхимические опыты с тиглями, ретортами и печами, с помощью которых искали философский камень, обсуждались чудеса медицины, – и все это шло бок о бок с наукой, делающей настоящие открытия, способные перевернуть представления о Вселенной.
В Праге к нему присоединился молодой математик Иоганн Кеплер, склонявшийся к идеям гелиоцентрической системы. Кеплер, человек тонкого ума и незаурядных дарований, нашел в скрупулезно оформленных записях Тихо огромный массив данных важнейших наблюдений, собранных за несколько десятилетий. Используя их, он смог сформулировать свои знаменитые законы планетного движения, окончательно отвергнув громоздкую систему эпициклов и окружностей древнегреческого астронома и математика Клавдия Птолемея в пользу эллипсов. По сути, слияние точности Браге и теоретической проницательности Кеплера явило миру новую астрономию, которая впоследствии легла в основу гениальных открытий Галилея и Ньютона.
Смерть Тихо, наступившая 24 октября 1601 года в Праге, окружена легендами, нередко преувеличенными и перемешанными с анекдотами придворной жизни. Самая известная из них гласит, что во время пира Браге постеснялся выйти из-за стола в туалет, дабы не нарушать этикет и не обидеть хозяина. Он долго терпел, продолжая пить пиво и вино, что, по одной из версий, которую, впрочем, серьезные ученые считают легендарной, привело к разрыву мочевого пузыря и последующим смертным мучениям. Современные исследования останков ученого действительно указывают на проблемы в мочеполовой системе, усугубленные, вероятно, инфекцией и воспалением, но прямые доказательства «взрыва пузыря» отсутствуют, а содержащиеся в его волосах следы ртути первоначально породили гипотезу об отравлении. Последующие исследования, включая эксгумацию останков в начале XX века и повторный анализ в 2010-х годах, довольно четко указывают, что ртуть не сыграла решающей роли: концентрация этого элемента в тканях оказалась не летальной. А вот проблемы с почками или мочевым пузырем действительно могли быть серьезными на фоне обильных возлияний и недостатка врачебных методов, способных исправить такую ситуацию в начале XVII века.
Вся жизнь Тихо – это цепь разноплановых и колоритных историй. Вместе с аристократическими увлечениями охотой, устройством пышных приемов и всевозможными проявлениями роскоши он находил время для алхимии и составлял гороскопы для высокопоставленных особ. По свидетельствам некоторых современников, в его доме жил придворный карлик по имени Йеппе (Jeppe), которому приписывали роль то ли шута, то ли «дворцового мудреца». Он якобы сидел под столом и в нужный момент отпускал саркастические замечания или разражался лаконичными пророчествами. Еще одна известная байка повествует о том, что у Браге в доме обитал прирученный лось (или олень), который обожал пиво: говорят, в один из дней животное так перебрало крепкого напитка, что упало с лестницы во время домашнего праздника. Насколько эти байки достоверны, трудно сказать, но они отлично отображают барочный дух эпохи, когда причудливое и эксцентричное соседствовало с глубокой религиозностью и преданностью науке.
Не менее легендарным был и «золотой нос» Тихо. В начале XX века при эксгумации его останков на черепе действительно нашли едва заметные пятна окислов меди, что согласуется с многократно упомянутыми в исторических источниках сведениями о составе его знаменитого протеза. Все это придает ученому еще более необычное и даже сказочное очертание, словно бы он вышел из средневекового рыцарского романа, а не сошел со страниц университетских конспектов и своих научных работ.
Однако не следует забывать, что все эксцентричное и все придворно-барочное было лишь антуражем для главного подвига Браге: его фантастически точных наблюдений для составления звездных каталогов.
Никто прежде не достигал такой тщательности в измерении угловых координат небесных тел до появления телескопа. Тихо раз за разом перепроверял результаты, совершенствовал инструменты, искал способы уменьшения погрешностей. Ему нередко помогали способнейшие ассистенты – люди, которые видели в Браге не только ученого, но и талантливого руководителя, пусть и со вспыльчивым характером, но способного вдохновить на самоотверженную работу.
Благодаря десятилетиям кропотливого труда возникли звездные карты и каталоги, превосходящие точностью все предыдущие попытки картирования неба. Он доказал, что «неизменность» сфер – лишь иллюзия, что новые звезды (суперновые) могут вспыхивать в кажущемся безмятежном пространстве и что кометы следуют сложными путями, пролегающими через орбиты планет, а не двигаются внутри какой-то единой твердой оболочки. Когда Кеплер в Праге работал над своими законами планетного движения, опубликованными в трудах «Новая астрономия» (Astronomia nova) и «Гармония мира» (Harmonices Mundi), именно на таблицы и журналы Тихо он опирался при проверке гипотез. В конечном счете без этой фактической основы трудно представить, чтобы наука смогла в столь короткие сроки перескочить от классических окружностей с эпициклами к идее эллиптических орбит. А уже вдохновленный результатами Кеплера Исаак Ньютон вывел закон всемирного тяготения, что стало еще одним шагом к современной космологии.
Тихо Браге оказался в исторической точке, где старое и новое представления о мире соединились в переходном узле. С одной стороны, он отрицал полный гелиоцентризм, который, казалось, противоречил религиозным убеждениям и аристотелевской физике, с другой – именно он своими наблюдениями разрушил основу геоцентрической схемы. В этом парадоксальном выборе отразился весь драматизм эпохи: интеллектуалы Ренессанса, выбравшиеся из средневекового образа мышления, отчаянно искали способы уравновесить авторитет древних с нарастающей волной новых идей.
Сегодняшним исследователям остается лишь восхищаться тем, как человек, живший без микроскопов и телескопов, без интегралов и дифференциалов, сумел отточить инструменты для измерения звездного неба до невероятного по меркам своего века уровня точности. Именно методичность, стремление к систематизации и постоянная доработка деталей сделали Браге отцом наблюдательной астрономии. Его звездные каталоги еще долгие годы служили краеугольным камнем для будущих поколений астрономов и математиков. При этом сам он, оставаясь на позициях, утверждающих, что Земля в центре мироздания, скорее всего, даже не мог предположить, насколько радикально его труды разовьются учеными, пошедшими дальше, – тем же Кеплером, Галилеем и позднее Ньютоном.
Кроме того, фигура Тихо Браге окутана аурой эпохи Возрождения, когда лишь тонкая грань разделяла науку и оккультизм. В ту эпоху алхимия, астрология и астрономия не были во всех случаях четко размежеваны, в силу этого истинные гении, подобные Тихо, свободно перемещались между тем, что мы бы сегодня назвали рациональным знанием, и поисками мистических формул. Сочинение гороскопов не казалось унижением для астронома – напротив, оно приносило славу, деньги и внимание правящих особ. Алхимия же обещала чудесные эликсиры, способные продлить жизнь или излечить болезни, а если повезет, то и превратить неблагородные металлы в золото, что не могло не завораживать такую натуру, как Браге.
Не меньшее впечатление производит и образ аристократа, обладавшего дворцовыми привычками и не терпевшего возражений. Он был, по словам современников, горячим и порой даже деспотичным правителем своего маленького королевства на острове Вен. Его роскошь, включавшая богатые застолья, коллекции экзотических животных (реальных или приукрашенных слухами), изгибалась в фантастической кривой вместе с нелепостями вроде постоянных конфликтов со слугами или простолюдинами. И все это – на фоне потрясающей научной работы, смены парадигмы в космологии, постоянного напряжения между духовными и научными авторитетами.
Тихо Браге вошел в историю благодаря тому, что приготовил для будущего огромный массив ценных данных и сам явил пример педантичного подхода к наблюдательным процедурам. Когда Кеплер, а за ним и Галилей получили в распоряжение эти данные, началась настоящая научная революция в астрономии, выходящая далеко за пределы разногласий между геоцентризмом и гелиоцентризмом. Именно детальные выкладки, фиксирующие движение планетного мира, подтолкнули ученых к окончательному и фундаментальному выводу, что орбитальные пути имеют эллиптическую форму, а движение планет подчиняется универсальным законам, впоследствии описанным Ньютоном в формуле всемирного тяготения.
Тихо, оставшийся где-то между Птолемеем и Коперником, своими наблюдениями подготовил почву, на которой взросли принципы математической космологии. Если бы в конце XVI века не нашлось человека, обладающего столь же колоссальной целеустремленностью, чтобы измерять угловое положение звезд и планет с точностью в одну угловую минуту, у Кеплера, вероятно, ушли бы десятилетия на сбор новых данных – и сомнительно, чтобы исторический процесс дал ему и другим последователям на это достаточно времени и средств.
Но благодаря усилиям Браге, а также стечению обстоятельств (включая дружбу и сотрудничество с покровителями, среди которых был Рудольф II), астрономия совершила гигантский скачок.
Наследие Тихо Браге нельзя переоценить. Его каталоги и записи бесценны и внесли незаменимый вклад в формирование всей последующей науки о звездном небе. Он на своем примере показал, что такие качества, как аккуратность, настойчивость, систематичность и готовность бросать вызов традициям, способны изменить устоявшийся взгляд на мир. Через призму веков мы видим, как ученый Ренессанса смотрит на небо: одна рука держит циркуль и выверенную линейку, другая, вполне вероятно, – алхимический сосуд. Он одновременно почитает Аристотеля и обсуждает новые теории Коперника, осуждает догматы, но опасается религиозных конфликтов. Трагикомический эпизод с дуэлью – яркое отражение взрывоопасного темперамента, а роскошные пиры и «мудрые карлики» у ног – отражение аристократического антуража, в котором развивалась новая наука.
Сегодня, спустя столетия, именно такой «двуликий» портрет ученого ренессансного типа помогает понять, что наука не была и не могла быть сухой и бесстрастной: она развивалась на фоне человеческих страстей, честолюбия, придворных ритуалов и бесчисленных противоречий. Тихо прошел через все эти испытания, оставив потомкам методические тексты, измерительные инструменты, бесценные журналы астрономических наблюдений – все то, без чего учение Кеплера, Галилея и Ньютона, вероятно, не достигло бы столь скорого расцвета. Подобно алхимическому преобразованию, его жизнь смешала обыденное и чудесное, прагматичное и мистическое, а результатом стало одно из величайших достижений в истории науки – прощание человечества с вековой догмой о неподвижном своде и шаг вперед к современному пониманию безграничного космоса.
Тихо Браге, датский аристократ с лосем – любителем пива, с «золотым» носом и страстным желанием во что бы то ни стало разрешить головоломки небесной механики, предвосхитил рождение новой эпохи знаний. Сколь бы парадоксальным ни был его личный путь, сам он послужил связующим звеном между древними космологическими представлениями и тем революционным шагом, который сделали последующие гении науки. Можно сказать, что его работа стала примером того, как иногда люди, упорно цепляющиеся за старую теорию, тем не менее прокладывают путь новой – и в этом главный смысл великого наследия, которое Тихо Браге оставил грядущим поколениям.