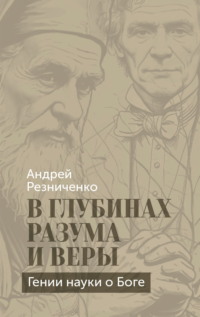Loe raamatut: «В глубинах разума и веры. Гении науки о Боге», lehekülg 5
От Тихо к Копернику: Эволюция взглядов на строение Вселенной
В конце XVI – начале XVII века Европу потрясли глубокие культурные и религиозные преобразования. Старый Свет переживал влияние сразу нескольких мощных исторических течений: Реформации, Контрреформации и стремительно развивающейся «науки о небесах», которая бросала вызов средневековым представлениям о мироустройстве. С одной стороны, сквозь призму религиозных разногласий формировались новые взгляды на то, как человек может понимать Бога, как следует читать и понимать священные тексты и как истолковывать природу окружающего нас мира. С другой стороны, наука зарождалась в виде пока что еще хрупкой, но уже взаимосвязанной системы экспериментов, наблюдений и теоретических конструкций, которые стремились либо согласовать, либо пересмотреть многовековые каноны.
В то лихорадочное время ученые нередко оказывались между молотом и наковальней, пытаясь вместить новые астрономические идеи в религиозный контекст или обосновать возможность существования Бога через гармонию небес.
Тихо Браге занял в этом процессе любопытное, но во многом загадочное место. Выросший в Дании, в окружении лютеранских традиций, он был аристократом, человеком, получившим образование в духе времени, но о его личном богословском мировоззрении и глубине веры известно крайне мало. В то же время Браге принадлежал к поколению ученых, которые осваивали новые инструменты познания мира: оптику, математические методы наблюдения, астрономические таблицы. К концу XVI века научное исследование звездного неба стало предметом не столько философских размышлений, сколько тщательных записей о положении планет, измерений, опровержений и подтверждений традиционных гипотез. Европа переживала фазу активных религиозных конфликтов – после тезисов Мартина Лютера 1517 года и Тридентского собора 1545–1563 годов христианский мир раскололся на конфессиональные лагери, где католики и протестанты оспаривали правильность толкования Священного Писания. Все это сказывалось и на университетской жизни, и на покровительстве наукам. Поэтому иногда ученые и мыслители, не особо оглашая свои религиозные воззрения, находили способы трудиться в относительно нейтральных или терпимых условиях и старались обрести поддержку у сильных мира сего, демонстрируя им интеллектуальную ценность или инструмент политического престижа новых научных изысканий.
В ту пору религиозные позиции монархов и влиятельных вельмож оказывали прямое воздействие не только на распространение новых теорий, но и на свободу слова, печати и защиту или осуждение научных трудов. Многое зависело от выбранной государством конфессиональной линии. Так, Франция страдала от религиозных войн между католиками и гугенотами, Священная Римская империя была сложным конгломератом католических, лютеранских и кальвинистских земель, Испания оставалась рьяно католической державой, в итальянских государствах продолжающаяся инквизиция ревностно преследовала тех, кто шел вразрез с постулатами официальной церковной доктрины. На севере, в Скандинавии, реформационные перемены уже пустили корни, там тоже существовали споры и конфликты, но иной интенсивности. В Англии относительно быстро сформировалась Англиканская церковь, обладающая собственными особенностями. В этом миропорядке ученые вынуждены были лавировать, избегая прямых столкновений с властями. Не все, конечно, были исключительно осторожны, – так, к примеру, в то же время Джордано Бруно выступил с радикальными идеями и подвергся суду инквизиции, завершившемуся его сожжением на костре в 1600 году.
О его казни стоило бы поговорить отдельно. 17 февраля 1600 года на римской площади Кампо-деи-Фиори (Площадь цветов) собрался народ. С ночи в ее центре установили столб, который плотно обложили дровами. Готовилась показательная казнь – сожжение еретика. Традиционно считается, что теолога, ученого, философа Джордано Бруно инквизиция предала смерти за теорию Николая Коперника, за утверждение о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Но это совсем не так. Начнем с того, что настоящее имя Бруно было не Джордано, а Филиппо, прозвище у него было Нолано, и он был доминиканским монахом, рукоположенным в священники в 1572 году.
Вот что он говорил о себе во время одного из допросов инквизиции: «Мое имя Джордано, из рода Бруни из города Нолы, расположенного в двенадцати милях от Неаполя. В этом городе родился и воспитывался. Мои занятия – литература и все науки. Имя моего отца – Джованни, моей матери – Фраулисса Саволина. Отец по своему занятию был военным».
Через три года после принятия священнического пострига Бруно изгнали из ордена за обнаруженные еретические книги, он вынужден был бежать и с тех пор до самой смерти скитался по всей Европе в поисках заработка и покровительства. В Женеве Бруно зарабатывал на жизнь как профессор теологии, но неуживчивый скандальный характер философа-теолога не позволял ему надолго где-то задерживаться. С 1581 года он начал читать лекции в Париже, затем переехал в Лондон, где его лекции и трактаты об устройстве Вселенной привлекли скандальное внимание. Вернулся во Францию, оказавшись в кровавой гуще борьбы католиков и протестантов. Спустя время Джордано Бруно принимает роковое решение о переезде в Венецию, куда его пригласил давний друг и покровитель, аристократ Джованни Мочениго.
Главная европейская слава Бруно была в том, что он обучал мнемонике – то есть искусству хорошо запоминать большие объемы информации. Это было востребовано в академической среде: профессура читала длинные лекции, студентам нужно было запоминать множество сведений и данных. Бруно в развитии техники мнемоники преуспел, тем и зарабатывал на жизнь – обучая, издавая трактаты, читая лекции. Параллельно в своих работах он высказывал революционные по тем временам догадки об устройстве Вселенной. И вот, перебравшись в Венецию, философ поделился частью своих мыслей с Мочениго, что стало концом их отношений. Аристократ написал на него донос в инквизицию, в котором утверждал, что философ якобы заявлял о существовании бесконечных миров и высмеивал основные постулаты христианской веры. Арестовали Бруно в конце мая 1592 года.
В венецианской тюрьме от провел почти год, затем его перевезли в Рим, где он еще семь лет в застенках инквизиции отказывался признать свои натурфилософские и метафизические убеждения ошибкой.
В Венеции трибунал инквизиции заседал во дворце дожей. Часть тюремных камер была под крышей дворца, сложенной из свинцовых листов. Летом там было нестерпимо жарко, а зимой невыносимо холодно из-за теплопроводности свинца. Есть точные сведения, что Джордано Бруно был помещен в камеру под свинцовой крышей. Применялись ли к нему пытки, достоверно не известно. Сухие протоколы инквизиции с именами председательствующих и участников со стороны обвинения, с вопросами и доказательствами инквизиторов и ответами обвиняемого дошли до нас. Сначала следователями были опрошены все возможные свидетели, но в дальнейшем обвинение опиралось только на слова Мочениго. Бруно неоднократно пояснял, что никогда не порывал ни с христианством как с учением, ни с Церковью. Однако его представления о Христе и об основных постулатах вероучения серьезно противоречили официальному учению Церкви. После серии персональных допросов инквизиторы предъявили Бруно главное обвинение: «…утверждал о бесконечности миров». Ученый не изменил себе: его учение о душе мира, первой материи, всеобщей одушевленности природы и бесконечной потенции оставалось неизменным, отражая, по его мнению, истину.
Инквизиторы в итоге представили Бруно восемь еретических положений, выведенных из материалов процесса и замечаний цензоров, и дали шесть дней на признание вины и отречение. Он остался непоколебим.
Заключительное заседание по делу состоялось 20 января 1600 года. 9 февраля он был лишен священнического сана и отлучен от Церкви инквизитором Мадручи. После этого его передали светским властям для «милосердного наказания без пролития крови», что означало сожжение на костре. Бруно проявил невозмутимое спокойствие и достоинство.
17 февраля 1600 года на Площади цветов в Риме Джордано Бруно привязали к смертельному столбу железной цепью и перетянули мокрой веревкой, которая под действием огня стягивалась, врезаясь в тело и причиняя дополнительную боль. Ирония судьбы в том, что в этот день в Риме собрались 50 кардиналов и толпы паломников со всей Европы, которые съехались к гробу апостолов в поисках отпущения грехов. Палач поджег дрова. Последними словами Бруно были: «Я умираю мучеником добровольно и знаю, что моя душа с последним вздохом вознесется в рай».
Фактически, философ был подвергнут страшному наказанию не за науку, не за слова «Земля вертится вокруг Солнца», а за религиозную ересь, которую инквизиторы видели в его герменевтических утверждениях. Рассматривая факты, можно сказать, что Джордано Бруно был весьма поверхностно знаком с учением Николая Коперника и даже допускал ошибки в толковании его трудов. Однако это не умаляет того факта, что он высказал ряд удивительных предсказаний об устройстве мироздания, в том числе о бесконечности Вселенной. Его взгляды повлияли на выдающегося философа Лейбница, а в XVIII–XIX веках идеи Бруно получили признание у немецких и итальянских философов.
Все эти события – вместе с оспариванием птолемеевской космологической схемы и популяризацией идей Николая Коперника – создали взрывоопасную интеллектуальную среду. Наблюдая за ночным небом и стараясь объяснить аномалии в движении планет, ученые вынуждены были на словах соглашаться с принятыми канонами, либо выдвигать ухищренные компромиссные теории. Так появлялись модели, совмещавшие геоцентризм и гелиоцентризм или сохранявшие Землю в центре, но при этом допускавшие некий иной порядок движения планет. Если мы вспомним, что именно такая «промежуточная» система ассоциируется с именем Тихо Браге, то важно отметить, что его космологические взгляды во многом были отражением общего настроя XVI века, когда люди старались столкнуть лбом новую логику наблюдений и старые религиозно-философские догматы. И в этой обстановке вопрос личной веры становился весьма острым.
Браге, очевидно, не вел продолжительных богословских споров и редко (если вообще) высказывался о связи своих открытий и религиозных убеждений. Может статься, что он считал эти вещи само собой разумеющимися: мол, мир сотворен Богом, а ученый должен максимально точными способами описать сотворенную реальность, не вступая в дискуссию о том, где заканчивается божественное присутствие и начинается человеческое объяснение. Однако у нас недостаточно прямых письменных свидетельств, позволяющих подробно раскрыть духовный мир Браге. И когда мы пытаемся понять религиозную позицию Тихо Браге, то сталкиваемся с тем, что астроном, живший в 1546–1601 годах, вел весьма светский образ жизни, соответствующий статусу датского дворянина, но при этом находился под покровительством датского короля, а позднее – при дворе императора, чьей задачей было сохранение утвержденного престолом вероисповедания.
Несмотря на то, что к концу XVI века Европу серьезно лихорадило от кровопролитных религиозных конфликтов, при дворах некоторых правителей складывались вполне благополучные, пусть и своеобразные космополитические островки – центры науки и искусства, куда съезжались лучшие умы того времени. Прага, где в последние годы жизни обитал Браге, при Рудольфе II обрела репутацию культурной столицы, куда стремились астрономы, алхимики, художники, математики, литераторы, музыканты. Здесь, в пределах одной резиденции, могли соседствовать рациональные методы астрономических вычислений и полумистические поиски «философского камня» – сочетание, которое характерно для синкретического мировоззрения XVI – начала XVII века. Образованные люди того периода редко проводили жесткие границы между наукой, магией, теологией и искусством. Для них мир оставался единой книгой, написанной Богом, где звезды и планеты, геометрия и музыка, нравственные законы и тексты Священного Писания являются лишь разными строками одного великого произведения.
При этом переход от осторожного умолчания или смутных богословских акцентов у некоторых астрономов к более явным рассуждениям о Божественном замысле в строении Вселенной становится заметен, когда на историческую сцену выходит новое поколение исследователей, родившихся уже после начала активного распространения идей Коперника и Реформации. Иоганн Кеплер, живший в 1571–1630 годах, принадлежал именно к такому поколению. Пока Тихо Браге точными наблюдениями прокладывал дорогу к будущим гениальным прозрениям, тщательно фиксируя все получаемые данные о положении небесных тел, юный Кеплер впитывал идеи реформированной Церкви, обучался математике и астрономии в протестантских университетах, а в дальнейшем столкнулся с вызовом: как соединить в сознании человека идею величия Бога и незыблемость библейских текстов с радикально новым устройством космоса, предполагающим, что именно Солнце, а не Земля, находится в центре планетной системы? Это столкновение в итоге сформировало его мировоззрение, ибо Кеплер увидел в математических закономерностях не просто абстрактные выкладки, а своего рода мистический язык Творца. Но в его эпоху, на рубеже XVI–XVII веков, подобная точка зрения все еще вызывала споры, и не все признавали ее правомочность.
Для нас, живущих в XXI веке, тесная связь между религией и наукой зачастую представляется либо противоречием, либо парадоксом, однако в XVI веке ситуация была совсем иной. Церковь имела колоссальную власть над общественным сознанием, причем как католические, так и протестантские богословы в большинстве своем были убеждены: если мир сотворен Богом, то несет на себе печать Его законов, а значит, должен быть познан и понят человеком. Однако инструменты и методы познания, оправданность тех или иных идей, трактовка данных – все это вызывало столкновения интересов. И при этом ряд ученых того времени не видел необходимости публично артикулировать свою веру, а, скорее, считал более важным делать свое дело, то есть описывать природу «как она есть». Тихо Браге, судя по его переписке и упоминаниям современников, был сосредоточен на наблюдательном аспекте, на создании максимально точных таблиц для дальнейших расчетов. Если он и являлся человеком религиозным (что вполне вероятно), то не считал нужным развернуть это в публичный богословский трактат, либо не сохранилось свидетельств, которые бы ясно об этом говорили. Подобная «лакуна» открывала дорогу следующему поколению, где уже требовалось более четкое обоснование новых космологических представлений, поскольку критики могли задать прямой вопрос: «Согласуется ли ваша астрономия с Библией?»
Если Браге своим упорством в наблюдениях поставил астрономию на новую фактическую основу, то переход к Иоганну Кеплеру означал, в известном смысле, переход от эпохи «молчаливого согласия» к эпохе «теоретического осмысления и богословского обоснования» новой картины мира. Кеплер – человек верующий, воспитанный в протестантской среде. Здесь важно понимать, что к моменту его взросления прошло уже достаточно лет с великого выступления Мартина Лютера в Виттенберге, и конфликты между католиками и протестантами вошли в острую стадию. В некоторых германских землях, к которым относились в том числе родные места Кеплера, впервые пробивали себе дорогу идеи, что буква Священного Писания и результаты научных изысканий не обязательно должны противоречить друг другу. Духовенство, особенно протестантское, признавало, что мир можно толковать в свете новых открытий, если при этом не нарушается главная идея о Боге как о Творце. Кеплер, будучи не просто наблюдателем, а активно пишущим автором, не мог игнорировать религиозные вопросы. В отличие от Браге, он чувствовал потребность подробно обосновать, почему математическое устройство Вселенной не опровергает, а, напротив, прославляет Бога. Это приводит нас к той смысловой точке, где заканчивается пусть Браге и начинается глава Кеплера в истории веры ученых.
Сейчас мы с вами, уважаемый читатель, пройдем по мосту от Браге к Кеплеру, опираясь на факты и атмосферу эпохи. Тихо – потомственный дворянин, роскошный, если можно так сказать, и, по мнению некоторых современников, эксцентричный в быту; он строит обсерваторию на острове Вен, проводит там точнейшие для своего времени наблюдения, и в его мире астрономия и астрология – не раздельные дисциплины, поэтому придворные астрономы и прорицатели стоят бок о бок пред правителями – меценатами. Характерная особенность века Тихо Браге – отсутствие твердых религиозных гарантий для ученых: еще можно попасть под преследование, если твои теории будут истолкованы как противоречащие Библии. При этом, если покровитель сочтет твою деятельность ценной, ты получишь дворцы для наблюдений, щедрые пособия из казны, необходимые инструменты, а иногда и укрытие от неприятностей. Смена мест (из Дании в Прагу) говорит о том, что выбор монарха, его религиозные или политические предпочтения, личные симпатии влияли на судьбу ученого сильнее, чем какие-то формальные декреты университета. В итоге мы имеем Браге как фигуру переходного времени, когда грань между «придворным служащим», «исследователем» и «верующим» оставалась размытой, а его личная вера оставалась «внутренним делом», которое, возможно, не слишком афишировалось, но и не отвергалось.
Совершенно иная ситуация с Иоганном Кеплером: он жил в начале XVII века, когда религиозные конфликты между протестантами и католиками вылились в Тридцатилетнюю войну (1618–1648), разорившую значительную часть Европы. Это был период беспрецедентного напряжения, когда вопросы вероисповедания в Европе становились факторами политической лояльности, экономической стабильности и даже шансов на выживание. Однако параллельно шел и научный прогресс: после смерти Браге многие астрономические инструменты, а также обширные результаты его наблюдений перешли к Кеплеру, уже сформировавшемуся в рамках протестантской теологии. Жажда новых знаний в то же время побуждала Кеплера искать в законах небесного движения свидетельства божественного порядка. Для него Творец говорил через геометрические соотношения планетных орбит – и Кеплер сам об этом писал. В то время как Браге тщательно избегал открытых высказываний, Кеплер, наоборот, выступал в роли богословствующего ученого, который обосновывал гармонию Вселенной и тем самым защищал новую астрономию от нападок со стороны как консервативных ученых, так и радикальных сторонников буквального прочтения некоторых мест Библии.
Однако нельзя забывать, что, будучи представителем протестантской Церкви, Кеплер сталкивался, с одной стороны, с недоверием католиков, а с другой – с не всегда дружелюбным отношением лютеранской ортодоксии. Его личная переписка показывает, что он неоднократно вступал в сложные интеллектуально-богословские баталии, защищая одновременно и свою религиозную идентичность, и научные убеждения, и делал это на фоне очень ярких и трагических событий эпохи, когда в разных частях Центральной Европы полыхали пожары кровавых столкновений, с родных мест изгонялось население и при этом усиливалось давление на общество разнообразных церковных институтов. Поэтому в его трудах вера играла ту роль, которую Браге, возможно, по каким-то причинам не поднимал на первый план, – роль глубоко личного, воодушевляющего и направляющего фактора, превращающего астрономию в инструмент познания Творца. Здесь уместно упомянуть один примечательный факт: Кеплер рассматривал и музыкальную гармонию как воплощение божественных закономерностей, что нашло отражение в его работах о «музыке сфер». Дух времени позволял обыгрывать такие идеи – ведь границы между музыкой, математикой, космологией тогда были весьма условны.
Если вспомнить других мыслителей той эпохи, становится понятно, что все они в той или иной степени осознавали напряженность, возникающую на стыке новой астрономии и религиозного мировоззрения. Например, Джордано Бруно, как уже упоминалось выше, пошел на рискованный конфликт с Церковью и заплатил за это жизнью. Галилео Галилей испытал тяжесть церковного преследования, будучи подвергнутым допросу инквизиции в 1633 году, хотя формально его наказали не столь жестоко, как Бруно.
О том, как шло это преследование, тоже стоит сказать особо. 26 февраля 1616 года Галилео Галилей был вызван в покои кардинала Роберто Франциско Беллармино.
Беллармино – ученый-иезуит, богослов-полемист, проповедник, писатель, гуманист и при этом великий инквизитор Католической церкви. В быту разительно отличался от других иерархов Церкви скромностью, добротой и дружелюбием. Он же – главный обвинитель в процессе над Джордано Бруно и руководитель первого процесса над Галилеем в 1613–1616 годах. Канонизирован Католической церковью в 1930 году.
Галилео Галилей – итальянский математик, физик, астроном, филолог, писатель. Его научная деятельность имела решающее значение для победы гелиоцентрической системы мира. Считал, что мир бесконечен (Джордано Бруно сожгли на костре за это утверждение в 1600 году в Риме), а материя вечна.
Встрече кардинала и ученого предшествовал донос 1613 года на Галилея в инквизицию из-за письма ученого к аббату Кастелли, в котором он называл научные взгляды Николая Коперника верными. Галилей в этом же году опубликовал свою книгу «Письма о солнечных пятнах», в которой открыто поддержал систему Коперника. После этого инквизиция завела против Галилея первое дело по обвинению в ереси.
В чем же была проблема, почему католические иерархи не принимали учение Коперника?
Ситуацию может прояснить письмо Беллармино, отправленное в апреле 1615 года одному из теологов, в котором он пишет: «Во-первых, я говорю, что Вашему Превосходительству и господину Галилею следует благоразумно довольствоваться высказываниями предположительными, а не абсолютными, и я всегда считал, что так и высказывался Коперник. Потому что, если сказать, что, предположение о том, что Земля движется, а Солнце неподвижно, представляет все явления лучше, чем постулируют эксцентрики и эпициклики, – то это очень хорошо будет, и не представляет никакой опасности; но желая утвердить, что Солнце действительно находится в центре мира и вращается только вокруг себя, не бегая с востока на запад (по небу), а Земля находится на третьем небе и вращается с наибольшей скоростью вокруг Солнца – это очень опасно и раздражает не только схоластов-философов и богословов, но и вредит Святой вере, выставляя Священное Писание ложным.
Во-вторых, как известно, Собор [Тридентский] запрещает писания против общего согласия святых отцов; и если ваше превосходительство пожелает прочитать не только святых отцов, но и современные комментарии к Бытию, к Псалмам, к Экклезиасту, к Иисусу Навину, то вы обнаружите, что все они сходятся в объяснении ad literam (буквально), что Солнце находится на небе и вращается вокруг Земли с огромной скоростью, и что Земля находится очень далеко от неба и находится в центре мира, неподвижно. Теперь подумайте со своим благоразумием, может ли Церковь допустить, чтобы Писанию придавалось значение, противоположное святым отцам и всем греческим и латинским толкователям?»
Говоря кратко, кардинал был не против предположений (даже Коперника), его неприятие вызывают именно утверждения о гелиоцентричности нашего мира, которые якобы противоречат Библии.
И вот наступило 26 февраля 1616 года. Как только Галилей предстал пред Беллармино, то в присутствии члена Ордена проповедников и генерального комиссара Святой службы Микеланджело Седжицци кардинал предписал ученому отказаться от воззрения, что Солнце неподвижно и находится в центре мира, а Земля движется. «С этим предписанием вышеназванный Галилей согласился и обещал повиноваться», – говорится в протоколе той встречи.
Фактически, Галилею запретили в любых публичных формах пытаться обосновать гелиоцентризм как истинную научную концепцию. Ему не было позволено высказываться о коперниканской системе даже как о гипотезе или математической конструкции. В 1616 году иезуиты объявили учение Коперника еретическим, его книга «О вращении небесных сфер» первой из научных работ попала в Индекс запрещенных книг.
Прошло несколько лет, по естественным причинам ушли из жизни некоторые противники Галилея, и в 1623 году новым папой римским под именем Урбан VIII был избран Маттео Барберини, давний друг ученого. Однако спустя короткое время, познакомившись с некоторыми свежими произведениями астронома, глава Церкви из друга превратился во врага и инициировал инквизиционный процесс против Галилея. Папу римского не устраивало то, что Галилей оценивает научные теории в рамках системы «истинное» – «ложное», что, по мнению главы Римской церкви, вело к тяжкой доктринальной ереси – отрицанию важнейшего атрибута Бога, Его Всемогущества.
13 февраля 1633 года Галилей прибыл в Рим на суд. Инквизиторы обвинили ученого в следующем:
• error intellectus contra aliquam fidei veritatem («ошибка разума против какой-либо истины веры»);
• voluntarius – эта ошибка допущена по собственной воле;
• cum pertinacia assertus – но с отягчающим обстоятельством в виде упорства в ереси.
Однако давайте обратим внимание на один важный аспект – инквизиция обвинила ученого не в том, что он считал учение Коперника истинным! Скорее всего, папа римский понимал, что, спустя время, выводы польского ученого о том, что не Земля, а Солнце находится в центре нашей системы и именно вокруг светила вращается наша планета, а не наоборот, будут все-таки подтверждены, и тогда для святой инквизиции наступит время признать свои чудовищные ошибки и каяться, что, конечно же, пошатнет абсолютную власть Церкви. Нет, Галилея обвинили в формальной ереси – в том, что он не подчинился предписанию комиссара Седжицци от 1616 года и продолжил защищать учение, противоречащее Священному Писанию.
Судьям предстояло решить, к какой категории отнести обвиняемого, таких было три:
• признать невиновным, к примеру, жертвой клеветника;
• признать заподозренным в ереси;
• признать в формальной ереси.
В последнем случае приговор мог быть самым суровым и зависел от того, будет ли подсудимый признан раскаявшимся или нет. Нераскаявшегося сжигали на костре, раскаявшегося еретика отправляли в тюрьму для пожизненного заключения, которое на практике заменялось пребыванием в камере инквизиции в течение менее десяти лет. Но инквизиторы могли отправить осужденного под домашний арест или в ссылку.
Тюрьма инквизиции была ужасной. Некоторые эксперты полагают, что Джордано Бруно выбрал костер, потому что не хотел умирать мучительной смертью в камере. Считается, что во время судебного разбирательства сочувствовавшие Галилею кардиналы подвели ожесточившегося против ученого Урбана VIII к компромиссу – Галилея признали сильно подозреваемым в ереси, что грозило ему четырьмя видами наказания: штраф (pena pecunaria), ссылка в другую местность, тюремное заключение на определенный срок, отправка на галеры. Кроме того, он должен был пройти процедуру отречения как акт смирения.
В итоге ученого приговорили к тюремному заключению, и после приговора Галилей на коленях произнес текст отречения. Копии приговора по личному распоряжению папы были разосланы в университеты Европы.
Остаток жизни выдающийся ученый провел под домашним арестом, постоянным надзором инквизиции, он полуослеп, тяжело болел, и за ним ухаживала только старшая дочь – монахиня. Ему постоянно угрожали тюрьмой за малейшую оплошность, и даже его похороны контролировали представители инквизиции, а папа Урбан запретил ставить ему памятник.
Только 31 октября 1992 года папа Иоанн Павел II на заседании Папской академии наук официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив ученого отречься от теории Коперника.
И последнее. Галилео Галилей никогда не произносил фразу: «И все-таки она вертится!». Но его абсолютную уверенность в истинности гелиоцентрической теории не смогли поколебать два суда инквизиции. А наука очень быстро подтвердила правоту Коперника – Земля вертится вокруг Солнца. И это никак не противоречит Священному Писанию.
Вернемся же к Браге и Кеплеру. Если первый находился в относительно безопасном положении, удовлетворяя любопытство королей и императора Рудольфа II, то второй лавировал между разными опасностями, время от времени вынужденно покидая прежнее место проживания, заботясь о собственной безопасности, а порой и о сохранении своей семьи. В этом смысле «переход» от Браге к Кеплеру – это шаг от сравнительно благополучного дворянского покровительства к уязвимости протестантского ученого, который при этом искренне хотел говорить о гармонии Вселенной как доказательстве Божьего замысла.
Таким образом, в контексте рассматриваемой темы Тихо Браге выступает фигурой, о религиозных воззрениях которой мы можем только догадываться по косвенным сведениям и по условиям жизни в лютеранской стране XVI века. Он тот, кто фактически заложил основание для более глубокого понимания небесных явлений: его ошеломляющая по точности эмпирическая база, его государственные связи, его вклад в развитие астрономических инструментов – все это стало путеводной звездой, без которой путь Иоганна Кеплера был бы гораздо более тернистым. Но относительная «тишина» Браге в богословских вопросах перекликается с общим контекстом, когда не каждый желал афишировать свое личное религиозное прочтение природы, особенно если не чувствовал в себе внутреннюю потребность или не видел в этом непосредственной необходимости для продвижения своей работы. С другой стороны, приближаясь к началу XVII века, когда эхо Реформации уже звенело по всей Европе, а противостояние конфессий стало одним из центральных факторов общественной жизни, Иоганн Кеплер в своих трудах ощущал, что ему нужно не только констатировать факт движения планет, но и дать богословское обоснование. Он был убежденным лютеранином, и при этом его научные поиски непосредственно переплетались с идеей поиска божественных численных гармоний. Многие современные исследователи видят в этом переход от более «прагматичного» XVI века к более «мыслительному» XVII столетию, когда ученые стали все чаще самостоятельно проявлять инициативу в трактовке своего открытия в свете теологических вопросов.
Все эти изменения в культурном и религиозном поле Европы, безусловно, создают «исторический коридор», по которому мы переходим от последней страницы о Браге к первой странице о Кеплере. Этот коридор вымощен фактами: Реформация, Контрреформация, подвижки в университетской среде, появление более совершенных телескопов вскоре (хотя непосредственно телескоп Галилея появился только в начале XVII века, но сама идея наблюдения и точного измерения мира уже была начата усилиями таких людей, как Браге), рост значения математической астрономии, вовлечение ученых в придворные интриги и политические конфликты, издание разрушающих старые представления о мире научных трудов, распространявшихся с небывалой скоростью в Германии, Италии, Франции, Англии.
Tasuta katkend on lõppenud.