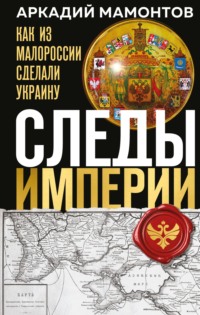Loe raamatut: «Следы Империи. Как из Малороссии сделали Украину», lehekülg 3
Глава 7
Булава гетмана
«– Что мешает вам, гетман, – говорил Хмельницкому польский посланник, – сбросить московскую протекцию? Московский царь никогда не будет польским королем. Соединитесь с нами, старыми соотечественниками, как равные с равными, вольные с вольными.
– Я одной ногой стою в могиле, – отвечал Хмельницкий, – и на закате дней не прогневлю Бога нарушением обета царю московскому. Раз я поклялся ему в верности, сохраню ее до последней минуты. Если мой сын Юрий будет гетманом, никто не помешает ему заслужить военными подвигами и преданностью благосклонность его величества, но только без вреда московскому царю», – таким, согласно Костомарову, был один из последних диалогов великого гетмана Богдана Хмельницкого.
Он умер, судя по всему от инсульта, в августе 1657 года. Гетманщина, которую он создал, не была полноценным государством, но не была и в полном смысле частью России. Она обладала очень высокой степенью автономии. Такой высокой, что Богдан, например, считал себя вправе самостоятельно заключать военные союзы.
Гетман вел незадолго перед смертью переговоры со шведами о совместной борьбе с поляками. Богдан был крайне недоволен тем, что правительство царя Алексея Михайловича заключило мир с Варшавой, не учтя интересов Гетманщины. Но сам при этом вел тайные переговоры и со шведами, и с поляками. Он оставил Малороссию в крайне неопределенном положении. Тучи уже собрались, и гроза была неизбежна.
Казачья старшина была отравлена ядом идеала шляхетского государства, которое было раем для шляхты и адом для холопов. Именно так они себе и представляли идеальную страну и были готовы ее строить. Но казачья старшина не могла отречься от православной веры, чего требовали в Речи Посполитой для предоставления привилегий. Большой вопрос заключается еще и в том, были ли готовы шляхтичи поделиться властью и благами. Ведь в это время Польша преимущественно жила за счет торговли хлебом, а поставить казаков на одну ступень с собой означало бы потерю этих сверхдоходов.
Гетманскую булаву Богдан завещал своему сыну Юрию. Но тому было всего 16 лет. И казачья старшина решает, что тому следует продолжить обучение в Киево-Могилянской академии. А пока он не созреет для высокого поста, «местоблюстителем» станет один из ближайших сподвижников Богдана Иван Выговский.
Он обладал наибольшим политическим опытом, в этом плане можно понять тех, кто сделал выбор в его пользу. Выговский был русским, но человеком польской культуры, а польский язык был его родным. Шляхта для него была намного ближе, чем казачья старшина.
Этот выбор устроил далеко не всех. Многие запорожцы считали его чужим, «ляхом». И вскоре против него вспыхивает восстание. Возглавили его кошевой запорожский атаман Яков Барабаш и Мартын Пушкарь, полтавский полковник. Причем последний написал царю донос о том, что Выговский ведет переговоры с поляками. Однако Алексей Михайлович решил не вмешиваться в этот конфликт.
Выговскому удается в течение 1658 года решить проблему. Пушкарь был убит в бою, а Барабаш казнен. А сам Выговский взял курс на сближение с Варшавой.
Тут важно понять, что он вовсе не воспринимал союз с Москвой как «вечный». В статьях Переяславского договора Войска Запорожского с царем абсолютно откровенно указаны причины, по которым казаки пошли на это соглашение. Здесь нет ничего ни про какое «братство народов». Здесь совсем о другом:
«Прежде сего от Королей Польских никакого гонения на веру и на вольности наши не было. Всегда мы всякого чина свои вольности имели, и для того мы верно и служили, а ныне за наступление на вольности наши понуждены Вашему Царскому Величеству под крепкую и высокую руку поддаться».
Совершенно определенно здесь подчеркивается, что казаки ищут гарантий своих вольностей. И только при их наличии договор для них имеет смысл.
После победы в скоротечной гражданской войне Выговский приходит к выводу, что Речь Посполитая, которая еще и не отбилась толком от нашествия шведов, даст казакам больше прав. И он, обвиняя Москву в нарушении соглашений, атакует русский гарнизон в Киеве. И берет его в осаду.
16 сентября 1658 года под городом Гадяч Выговский от имени Гетманщины заключает с Речью Посполитой договор о создании в ее рамках «Великого княжества Русского» как третьего равноправного члена государственной унии, наравне с Польшей и Литвой. Предусматривалась также ликвидация Брестской унии, которая крайне раздражала православных.
Несомненно, первоначальный текст договора выглядел для казаков весьма привлекательно. Согласно ему католичество и православие уравнивались в правах. Митрополит Киевский и пять архиереев русских должны были заседать в сенате в Варшаве. Численность Войска Запорожского устанавливалась в количестве 60 000 человек. О таком прежде казаки не могли и мечтать. Утверждалось, что гетман великого княжения русского вечно будет первым киевским воеводою и генералом.
Прочие статьи документа рисовали не менее радужную картину. Но гладко было на бумаге…
А вот гонор польской шляхты все это оскорбляло. Она роптала. И было ясно, что никто эти параграфы реально соблюдать не будет.
С этих событий и начиналась Руина. Так назовут эти кровавые годы впоследствии.
⁂
Страстное невообразимое желание власти и господства и разрушило эту автономную территорию.
Сергей Перевезенцев, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова
Глава 8
Все против всех
Соглашение Выговского с Варшавой Москва, конечно, воспринимает как откровенную измену. И реагирует соответственно – начинается война с Гетманщиной.
На ее территорию входит войско во главе с князем Ромодановским. К нему присоединяются враждебные Выговскому казаки, не готовые к таким крутым политическим поворотам и не верящие «ляхам». Действует князь довольно успешно. И Выговский даже просит мира. Однако он был ему нужен, лишь чтобы собрать силы.
Два войска сходятся под Конотопом. В армии Выговского помимо казацких полков были крымские татары, а также наемные польско-литовские и сербско-валашские хоругви. В Московской армии тоже были и казаки, и западноевропейские наемники, и татарские соединения. О численности обеих армий идут ожесточенные споры. Поэтому своих оценок мы давать не будем, только констатируем никем не оспариваемый факт поражения московского войска.
Однако победа вовсе не укрепила власть Выговского. Его союзники, крымские татары, беспощадно грабили села Малороссии и уводили тысячи православных в полон. Против Выговского повсеместно вспыхивают восстания. Его власть стремятся ниспровергнуть один из самых прославленных казачьих предводителей, сподвижник Хмельницкого Иван Богун и атаман запорожцев Иван Серко.
В их решении сказались, конечно, и личные мотивы. Они не желали подчиняться шляхтичу, агенту поляков. Ляхам они не верили и не простили им зверских карательных акций периода «Хмельниччины».
17 октября 1659 года казацкая рада в Белой Церкви провозглашает Юрия Хмельницкого гетманом. Выговский вынужден отречься от власти и бежит в Польшу.
Между тем Хмельницкий-младший подписывает новый договор с Россией, который заметно ограничивал власть гетманов. Прежде всего казаки лишаются права избирать себе вождя без санкции царя. Решение теперь определяет не «глас народа», но воля самодержца. В городах садятся московские воеводы, церковь переходит под контроль Московского патриархата.
Но вскоре на земли Гетманщины вторгается войско великого коронного гетмана Станислава Потоцкого. С ним идет и Выговский. Шведскую агрессию поляки наконец отразили и могли теперь снова взяться за Малороссию. И в битве под Слободищем Юрий Хмельницкий терпит поражение.
А затем заключает договор, по которому Гетманщина признается снова частью Речи Посполитой, но уже на существенно худших условиях, чем по Гадячскому соглашению. Об отдельном «Великом княжестве Русском» речи уже не идет.
Рада, проведенная в Корсуни, одобряет трактат. А вот левобережные казаки во главе с Якимом Самко и Василием Золотаренко отказываются его признать и сохраняют лояльность Москве. После неудачных попыток привести их к повиновению и тяжелого поражения под Каневом Юрий Хмельницкий отрекается от власти и уходит в монастырь. Гетманом Правобережья становится Павел Тетеря.
Иван Выговский, чьи договоренности с поляками и спровоцировали начало кровопролития, был уже мертв. Его расстреляли ляхи, которым он доверился. Просто его заподозрили в том, что имел отношение к подготовке восстания против Варшавы. И, недолго думая, без суда и следствия его казнили.
Но тем временем на Левобережье Днепра вспыхивает внутренняя борьба. Против Якима Самко выступает запорожский атаман Иван Брюховецкий. Он пишет царю донос на конкурента.
Гражданская война постепенно превращается в битву всех против всех. И уже трудно понять, у кого какая программа. Каждый рубится уже не за общую казацкую волю, а за свою конкретную власть.
⁂
Предательство в это время – манера поведения.
Дмитрий Степанов, кандидат исторических наук, ведущий сотрудник центра украинистики и белорусистики исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Глава 9
Тяжелая судьба Малороссии: ляхи, турки, шведы
Черная рада 1663 года, названная так оттого, что в ней приняла участие не только казачья старшина, но и «чернь», выбрала гетманом Левобережной Украины Ивана Брюховецкого. Но он не смог противостоять вторжению на Левобережье польских войск и казаков запорожского гетмана Павла Тетери. Впрочем, их успешные действия были сведены на нет восстанием в тылу. Заполыхал Правый берег, подожженный не без участия Ивана Серко. Легендарный казацкий вождь остался верен Москве.
Он писал царю Алексею Михайловичу: «Исполняя с Войском Запорожским службу вашему царскому пресветлому величеству, я, Иван Серко, пошел на две реки, Буг и Днестр, где Божиею милостью и предстательством Пресвятой Богородицы и вашего великого государя счастьем, напав на турецкие селения выше Тягина города, побил много бусурман и великую добычу взял. Оборотясь же из-под турецкого города Тягина, пошел под черкасские города. Услыша же о моем, Ивана Серка, приходе, горожане сами начали сечь и рубить поляков, а все полки и посполитые, претерпевшие столько бед, неволю и мучения, начали сдаваться».
Серко заверял царя: «Обращена вновь к вашему царскому величеству вся Малая Россия, города над Бугом и за Бугом, а именно: Брацлавский и Калницкий полки, Могилев, Рашков, Уманский полк, до самого Днепра и Днестра; безвинные люди обещались своими душами держаться под крепкою рукою вашего царского пресветлого величества до тех пор, пока души их будут в телах».
В результате армия польского короля Яна Казимира и Тетери фактически бежала с Левого берега, преследуемая войсками князя Григория Ромодановского и гетмана Брюховецкого.
Пожалуй, украинский хаос превзошел все, что видел богатый на кровавые события XVII век. Но самое увлекательное началось тогда, когда власть над большей частью Правобережья получил Петр Дорошенко, принесший присягу султану Османской империи…
Этот дикий на первый взгляд шаг был спровоцирован Андрусовским перемирием 1667 года между Речью Посполитой и Московским царством. Оно закрепило раздел Малороссии: Правый берег – Польше, Левый – России. Дорошенко же претендовал на объединение и воссоздание единой Гетманщины. И видел единственного государя, который может ему в этом посодействовать – султана «правоверных». А ведь начиналось все с защиты православия.
Османы обещали Дорошенко, что Гетманщина сохранит полную автономию, будет свободна от всех податей. Лишь должна будет поставлять султану воинские отряды. Однако за это Подолия полностью переходила под власть османов. Мехмед IV лично возглавил огромное войско, которое явилось в 1672 году в Малороссию, чтобы утвердить здесь новый порядок.
Организовать эффективное сопротивление такой имперской мощи Польша не сумела. В том же году был подписан Бучачский мир. Правобережная Украина передавалась Дорошенко, как вассалу султана. А Подолия и Каменец напрямую отходили Турции в качестве Каменецкого пашалыка.
Но польский сейм не признал этот позорный договор. Война возобновилась. Несмотря на победы коронного гетмана Яна Собеского при Хотине и под Львовом, Варшаве было не под силу справиться с османами. И согласно Журавенскому договору 1676 года треть Малороссии осталась под властью султана.
Сегодня, когда Турция проявляет интерес к украинским делам, не стоит забывать об этих событиях. Ведь у Стамбула долгая память. Там прекрасно помнят, какие земли когда-то были под османами. И воспринимают их соответственно.
Но битву за Малороссию, естественно, вела и Москва. Хаос усугубляло то, что Россия и Польша никак не могли договориться о совместных действиях против турок. Ведь все три стороны воевали за одно и то же.
Осенью 1676 года новый гетман Левобережья Иван Самойлович и князь Ромодановский подошли к столице Дорошенко Чигирину. На тот момент гетман Правобережья практически лишился поддержки казачества, которое в массе своей не приняло его альянса с иноверцами, беспощадно разорявшими земли Малороссии.
В результате Дорошенко сдался и принес присягу московскому царю. После чего был отправлен в Россию, где в 1697 году мирно скончался в подмосковном имении Ярополец, пожалованном ему царевной Софьей.
А вот султан Мехмед, некогда «соблазненный» гетманом впутаться в хаос Руины, к тому времени был мертв. И умирал он в куда менее комфортных условиях. После побед, одержанных над Польшей и Россией на Украине, у него случилось «головокружение от успехов». Султан решил нанести смертельный удар Священной Римской империи. Его гигантская армия в 1683 году осадила Вену.
Но старый витязь Ян Собеский, ставший к тому времени польским королем, во главе своих крылатых гусаров пришел на выручку союзникам. Его кавалерийская атака вошла в историю и фактически положила конец экспансии османов, нанеся им тяжелейшее поражение.
После этого войска антиосманского альянса – Священной лиги – во главе с герцогом Лотарингским разгромили турок при Мохаче. Следствием этого стала потеря османами Венгрии и Трансильвании. Что ознаменовало начало необратимого заката этой великой державы.
Ну а козлом отпущения стал амбициозный султан. Мехмед был свергнут и закончил свои дни в темнице. А Подолия в результате всех этих событий вернулась в состав Речи Посполитой.
К тому времени в Малороссии гетманскую булаву получил бывший генеральный писарь Петра Дорошенко, человек, чье имя стало нарицательным – Иван Мазепа. Он всячески подчеркивал свою верность царю Петру. Казалось, что хаос Руины, длившейся три десятка лет, остался в прошлом.
* * *
Судьба этих земель незавидна. Территория Малороссии представляла интерес для большого количества могущественных соседей: России, Турции, Европы. Политические деятели, которые возникали на этих землях как грибы после дождя, вынуждены были подстраиваться под обстоятельства. На протяжении истории этих земель все их попытки получить хотя бы какую-то самостоятельность заканчивались тем, что эти территории неизбежно подпадали под чужое влияние. И чем дальше от них находился очередной патрон, тем лучше.
⁂
Они хотели создать что-то свое. Быть хозяевами на своей земле. Но вскоре выяснилось, что у них нет на это достаточно сил.
Игорь Шишкин, политолог, публицист