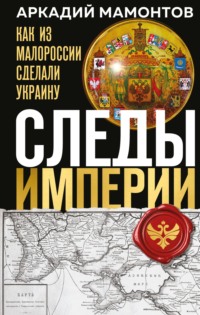Loe raamatut: «Следы Империи. Как из Малороссии сделали Украину», lehekülg 4
Глава 10
Запорожцы
«Вот то гнездо, откуда вылетают все гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и козачество на всю Украину!» – так воспевал Запорожскую Сечь Николай Гоголь.
Когда родилось запорожское казачество, науке точно не известно. Но это «славное рыцарство» играло огромную роль в защите христианских земель от набегов крымских татар и от возможного натиска османов. Прежде всего для этого запорожцы и были нужны Речи Посполитой. Их также всегда можно было мобилизовать для какой-нибудь «внешнеполитической авантюры».
Вспомним хотя бы их роль в русской Смуте. В 1618 году они участвовали, например, в походе королевича Владислава на Москву. Тот был убежден, что по-прежнему имеет права на русский престол. Ведь бояре присягнули ему. Во главе польско-литовского войска, призвав на помощь запорожцев под водительством гетмана Петра Сагайдачного, Владислав попытался отвоевать московский трон. Однако взять мощные столичные укрепления он не смог. Казаки же в этом походе успели отметиться крайними бесчинствами. Позже Сагайдачный особо каялся за это пролитие православной крови.
Поляки действовали цинично, исходя из простой мысли, что казакам можно накануне войны пообещать признание их привилегий и тем сманить их в поход, а после, глядишь, они и награбленным удовлетворятся. Но запорожцам этого было мало. И как, в самом деле, было смириться с тем, что пока идет война, то для поляков чем казаков больше – тем лучше, а стоило воцариться миру, как поляки дозволили остаться в вольном воинском статусе двум-трем тысячам, остальным же предписали вернуться под власть помещиков?
Казаки требовали себе таких же вольностей, как у шляхтичей. Кроме того, не считаясь с внешнеполитическими резонами, они то и дело устраивали набеги то на крымских татар, вассалов султана, то на его молдавских подданных, то непосредственно на его владения. За эти бесчинства Высокая Порта – правительство Османской империи – предъявляла претензии Варшаве. Поляки ловили казаков и казнили, дабы продемонстрировать туркам свое миролюбие, но заставить запорожцев согласовывать свои действия с королевской большой политикой было решительно невозможно.
Казаки нередко чинили насилие в отношении польских помещиков и даже совершали разбойные рейды на вовсе не «украинские» территории. То есть клубок противоречий был крайне запутанным. И та и другая сторона держалась своей правды, в святости которой у каждой из них не было сомнений.
Дело было еще в том, что благодаря военной активности запорожцев земли Поднепровья, долгое время пребывавшие в запустении, начали активно заселяться. Сюда под защиту казаков от «панского гнета» побежали крестьяне с Галичины и из Полесья. И когда паны явились за ними следом, возник конфликт.
Важно понять, что он не был национальным. Поскольку никакого «украинского народа» не существовало. Это был конфликт православного населения вновь осваиваемых южнорусских территорий с католическим дворянством.
Православие вообще было своего рода паролем свободы. Очень характерна ситуация, спровоцировавшая пресловутую унию – подчинение части православного епископата Римской курии. Во Львове слишком большую силу взяло местное братство – объединение православных горожан. Выступая за чистоту и упорядоченность церковной жизни, они получили поддержку от Вселенского патриарха и стали на равных разговаривать с местным владыкой. Ситуация, когда «холопы им указывают», до глубины души возмутила церковных иерархов, и те, обратившись за поддержкой к королю, дали согласие на Брестскую унию с Римом 1596 года.
В те времена в тех местах посягательство на свободу всегда означало посягательство на веру. А православие стремительно становилось религией простонародья южных регионов Речи Посполитой. Ведь магнаты – Вишневецкие, Острожские и иные, что поначалу были рьяными защитниками веры предков, ко времени, когда разразилась «Хмельниччина», из соображений выгоды перешли в католичество.
Например, прославленный воитель князь Иеремия (Ярема) Вишневецкий был злейшим гонителем казаков. Любимым его напутствием палачу были слова: «Сделай так, чтобы они почувствовали, что умирают». При этом среди членов его рода был легендарный Дмитро (Байда) Вишневецкий, который и построил некогда замок на днепровском острове Хортица, заложив основы, собственно, Запорожской Сечи.
Бытовала легенда, что над князем Яремой из-за его отступничества тяготело проклятие матери – Раины Могилянки, известной своей пламенной верой и благотворительностью по отношению к православным обителям.
При этом никак нельзя того же Ярему вслед за некоторыми историками назвать «врагом Украины». Не было никакой Украины – разве что разные проекты для определенной территории и ее населения. И у князя, судя по многим фактам, тоже был свой проект на сей счет. Ряд исследователей не исключают, что Вишневецкий имел в виду создать на базе своих обширных владений новую державу, а восстание порушило все его грандиозные планы. Оттого он так и лютовал.
⁂
Тотальное поражение в правах по этническому принципу и послужило тем объективным фактором, который и поднимал ту часть восточнославянского населения, проживавшего в Речи Посполитой, на то, что мы сегодня называем национально-освободительным движением.
Герман Артамонов, кандидат исторических наук, профессор кафедры истории МПГУ
Глава 11
Гетман Хмельницкий и Бунт
Поводом к бунту стала личная обида Богдана Хмельницкого. Нередко бывает, что кажущаяся случайность влечет за собой сокрушительные последствия.
Принято считать, что именно благодаря Хмельницкому национальные движения на территории Малороссии набрали силу. Но на деле для шляхтича Богдана, который был лично знаком с польским королем и имел склад ума как у всякого поляка того времени, независимость Малороссии не имела большого значения. Как не беспокоился он и о правах «своего» народа. Его гнев наложился на большую боль казаков и запорожцев, ждавших возмездия за годы унижений, а сам Хмельницкий хотел лишь вернуть любимую женщину и добиться справедливости после смерти сына.
Шляхтич Чаплиньский совершил налет на хутор Богдана, жестоко избил его сына, отчего тот скончался, и увез любовницу Елену. Взыскать за обиду по суду у Хмельницкого не получилось. Ему чуть ли не прямо сказали, что он не найдет правды хотя бы даже и потому, что его противник считается выше по статусу. Тут кстати пришлось и то, что казачество обманулось в своих ожиданиях. Дело в том, что все тот же издавна «повязанный» с запорожцами король Владислав собрался воевать с Турцией. И готовясь к этой кампании, вел с «низовым товариществом» секретные переговоры, в ходе которых, судя по всему, наобещал даже больше обычного. Но сейм не дал согласия на войну. И договоренности «зависли».
Поднять Сечь Хмельницкому труда не составило. Он лично, проведя переговоры в Крыму, заручился поддержкой татар. Поначалу к казакам прибыл отряд Тугай-бея, а потом подошли войска под командованием самого хана Ислям-Герая.
22 апреля 1648 года казацко-татарское войско двинулось из Сечи в пределы Речи Посполитой. И уже 6 мая Хмельницкий нанес полякам сокрушительное поражение под Желтыми Водами. Через девять дней войско во главе с великим гетманом коронным Николаем Потоцким было разгромлено в ходе Корсунской битвы. Поляки понесли тяжелейшие потери. А сам Потоцкий оказался в плену.
20 мая умер король Владислав. С одной стороны, поляки оказались в ситуации «бескоролевья», что давало дополнительные шансы повстанцам. А с другой, казакам теперь не с кем было вести переговоры. Ведь они рассчитывали на то, что Владислав пойдет навстречу старым боевым товарищам. Теперь же, в ситуации хаоса, борьба приобрела еще большее ожесточение, и постепенно вызрела идея создания собственного государства.
Говоря об этой кровавой распре, редко вспоминают о том, что в ней были не только боевые потери. Например, еврейское население Украины подверглось настоящему геноциду. Вот что пишет «Еврейская энциклопедия» об ужасах бунта:
«В еврейском народном сознании события „Хмельниччины“, в частности 1648 г., когда потери евреев были особо велики и неожиданны, запечатлелись как „гзерот тах“ („Господни кары“ – эпоха зверской жестокости и бед. <..>) Так, по оценке Вейнриба, на всей территории Речи Посполитой, охваченной восстаниями и войнами, в 1648–67 гг. погибло, а также умерло от эпидемий и голода сорок-пятьдесят тысяч евреев, что составляло 20–25 % еврейского населения страны по максимальным оценкам; еще пять-десять тысяч бежали (или не вернулись из плена). Истребление около четверти еврейского населения страны, в которой была сосредоточена самая многочисленная и образованная община мирового еврейства, оказало глубокое влияние на еврейский мир. Раввины видели в событиях „Хмельниччины“ признаки скорого прихода Мессии. В еврейском фольклоре, литературе и историографии „Хмель-злодей“ – одна из самых одиозных и зловещих фигур».
Почему же именно по отношению к евреям чинились такие исключительные зверства? Потому что в ту пору они оказались заложниками шляхетской политики. Самим ясновельможным панам было скучно и обременительно заниматься хозяйством, и они перепоручали его евреям-арендаторам. Бытовала даже поговорка: «Каждый князь должен иметь своего Менделя». Эта ситуация во многом и обусловила описанную выше трагедию.
Но сам Хмельницкий боролся, конечно, не за права и свободу «украинского народа». Украинские историки вроде Михаила Грушевского даже упрекали его в том, что он слишком много «хитрил и мудрил», заключая союзы то с крымцами, то с «москалями», а надо было, мол, на национальные силы опереться.
Гетман же не мыслил ни «национально», ни «государственно». Он стремился отвоевать именно для казаков право жить по-казачьи, то есть никому, кроме своих старшин, не подчиняться, податей не платить и иметь право собирать налоги с трудового населения. Иными словами, он вовсе не желал отделения от Речи Посполитой. Согласно свидетельствам современников, у него был шанс опустошить Польшу и взять саму Варшаву, но он им сознательно не воспользовался. Он поначалу вовсе не стремился разрушать Польско-Литовское государство.
Хмельницкий готов был и дальше служить королю своей саблей, но взамен желал признания Украины казачьей территорией. Беды и чаянья «простого люда» его не сильно волновали, почему и смотрели казаки сквозь пальцы на то, что их союзники-татары не упускали случая угнать православных поселян в полон.
Но сама логика событий, предельная ожесточенность противостояния заставили гетмана Богдана осознать, что жить в одном государстве с поляками уже вряд ли получится.
Весь 1648 год был для Хмельницкого победоносным. В сентябре – победа под Пилявцами. В декабре он триумфатором вступил в Киев. Тем временем Ян Казимир был избран новым королем Речи Посполитой. Богдан выдвинул ему перечень условий прекращения боевых действий. Среди них: ликвидация Брестской унии, ограничение передвижений польских войск по «казацким» территориям, запрет польским магнатам владеть землями восточнее и южнее Белой Церкви, утверждение казацкой власти в Левобережье.
Гордая шляхта все это отвергла. Война продолжилась. Войско Речи Посполитой получило подкрепление за счет наемников, освободившихся по окончании Тридцатилетней войны. Под Зборовом сошлись две армии. Но боя не случилось, поскольку король подкупил крымского хана и тот «убедил» Хмельницкого заключить мир.
По его условиям, число реестровых казаков возрастало до сорока тысяч, однако не вошедшие в реестр обязаны были возвратиться в прежнее свое положение. Все должности в Киевском, Брацлавском и Черниговском воеводствах должны были замещаться только православными. Уния отменялась. Киевский митрополит должен был стать членом сената.
Два последних пункта не были выполнены. Прочие тоже явно никак не устраивали шляхту. Ясно было, что это не мир, а перемирие.
В 1651 году война возобновилась. Для казаков боевые действия шли уже куда менее удачно. В начале июля под Берестечком союзник казаков крымский хан Ислям-Герай со своим войском неожиданно покинул поле боя. Хмельницкий бросился за ним, чтобы выяснить, что происходит. Но татары задержали его и увезли с собой. Оставшиеся без вождя и без крымской поддержки казаки потерпели поражение.
Последовавший за этим Белоцерковский мир серьезно урезал права казацкой автономии. И менее чем через год война возобновилась. Казаки одержали крупную победу под Батогом. Но вскоре татары вновь показали свою ненадежность. И Хмельницкий понял – он не сможет ни заставить короля и шляхту принять требования казаков, ни одержать над ними решающую победу. В этой ситуации у него не было иного выхода, кроме как обратиться к царю Алексею Михайловичу.
Для Московского царства решение о принятии Войска Запорожского под свое покровительство было непростым. Пришлось созывать Земский собор для того, чтоб государь мог снять с себя единоличную ответственность за этот выбор. Ведь он означал войну с Речью Посполитой. И решение было принято. Его убежденным сторонником был патриарх Никон.
В знаменитой Переяславской раде, якобы вынесшей всенародное решение о присоединении к Москве, участвовала старшина, представители нескольких казацких полков и жители Переяслава. Мещанство прочих городов к обсуждению вопроса не привлекалось. Крестьянство тем более. Казачество прежде всего решало свою задачу и рассматривало православного царя как гаранта своих вольностей. Очень быстро обнаружилось, что в этом они заблуждались.
То, что конфликт неизбежен, стало ясно еще в ходе самой судьбоносной рады. Хмельницкий потребовал, чтобы царские послы принесли от имени своего государя присягу «вольностей наших не нарушать». Московских людей возмутила сама постановка вопроса. Самодержец никаких присяг никому не дает. Довольно с казаков и царского слова.
В ответ казаки заявили, что польские короли не считают зазорным присягать своим подданным. Этот аргумент царские послы и вовсе сочли оскорбительным – как можно равнять избираемых шляхтой королей с их государем? Кроме того, заявили они, «у нас государское слово пременено не бывает». То есть любые сомнения должны быть отброшены. Хмельницкий и его сподвижники зашли уже слишком далеко, и дать задний ход у них не было возможности. Скрепя сердце они заявили, что «во всем полагаются на государеву милость и веру». Но эта кардинальная разница в менталитетах, в правовом сознании очень скоро приведет к кровавым и разрушительным последствиям.
Впрочем, главное условие договора Москва выполнила – вскоре начала успешное наступление на теперь уже общего врага. И Речь Посполитая оказалась на краю катастрофы. За событиями внимательно наблюдала Швеция. И, дабы не упустить выгодную возможность, она тоже начала агрессию против Польши – с тем, чтобы полностью взять под свой контроль побережье Балтики. Стремительное наступление шведских войск в польской историографии назовут «Потопом». Многие польские магнаты присягнули тогда шведскому королю Карлу X.
В этой катастрофической ситуации Ян Казимир попробовал договориться с Хмельницким. Когда это не удалось, он, при посредничестве императора Священной Римской империи Фердинанда I, заключил в 1656 году перемирие с Москвой.
Последним военным проектом Хмельницкого стала попытка послать запорожцев на помощь шведам, против поляков. Дело в том, что Карл Х предлагал осуществить раздел Польши, в котором, помимо самого Стокгольма, приняли бы участие Бранденбург, Трансильвания, Гетманщина. Москва к этим планам никакого отношения не имела – по той простой причине, что Алексей Михайлович на тот момент уже сам вел войну с Швецией. Кампания, впрочем, оказалась тяжелой и в итоге никаких выгод не принесла. Но гетман уже не узнал об этом. Когда послы царя прибыли к Хмельницкому, чтобы предъявить претензии по поводу его сношений со шведами, старый гетман был уже смертельно болен.
После его ухода в лучший мир на Украине началась новая фаза хаоса, которая в истории получила грозное имя «Руина».
⁂
Не сразу Хмельницкий пошел на поклон к российскому царю. Были разные варианты дальнейшего развития Гетманщины. Но в конечном итоге он сделал тот исторический выбор, который предопределил на целые столетия союз России и Украины.
Евгений Спицын, историк, публицист
Tasuta katkend on lõppenud.