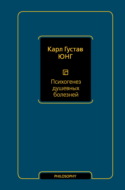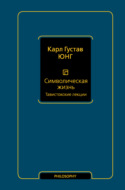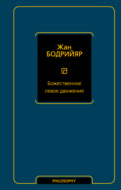Loe raamatut: «Психогенез душевных болезней», lehekülg 3
65 «Начало депрессии совпало с раздором между мужем пациентки и ее братом, вследствие которого последний перестал бывать в их доме. Больная искренне любила своего брата… Кроме того, она упомянула об определенном периоде своей болезни, когда ей впервые “все стало ясно”, то есть когда подозрения, что ее презирают и намеренно оскорбляют, превратились в уверенность. Эту уверенность она обрела, принимая у себя золовку, которая в продолжение беседы обронила: “Если бы со мной случилось нечто подобное, я бы просто пожала плечами”. Поначалу фрау П. не обратила внимания на это замечание, однако позднее, после того как гостья ушла, ей начало казаться, будто в этих словах содержался упрек, намек на то, что она привыкла легкомысленно относиться к серьезным вещам. С этого момента пациентка уже не сомневалась, что стала жертвой всеобщего злословия. Когда я осведомился, почему она приняла эти слова на свой счет, больная ответила, что в этом ее – хотя и не сразу – убедил тон, которым говорила золовка (последнее является характерной деталью при паранойе). Я попросил больную припомнить, о чем говорила золовка до этого высказывания, и узнал, что та рассказывала о всевозможных трудностях, возникавших у нее с собственными братьями, после чего мудро заметила: “В каждой семье происходит то, что хотелось бы скрыть. Но если бы со мной случилось нечто подобное, я бы не придала этому значения”. Фрау П. была вынуждена признать, что ее депрессия связана с этим, а не с последующим комментарием. Поскольку она вытеснила оба высказывания, которые, возможно, напоминали ей об отношениях с братом, и сохранила в памяти лишь ничего не значащую последнюю фразу, ощущение упрека оказалось сопряжено именно с последним замечанием. Так как его смысловое наполнение не давало никакого повода для подобного толкования, больная переключилась с содержания на тон, которым были произнесены слова».
66 После этого разъяснения Фрейд обращается к анализу голосов. «Прежде всего необходимо было понять, почему фразы столь нейтрального содержания, как, например, “Вот идет фрау П.”, “Она подыскивает новый дом” и прочие, оказывали на нее такое гнетущее воздействие». Впервые пациентка услышала голоса после того, как прочла роман О. Людвига «Хайтеретай». После чтения она отправилась на прогулку и, проходя мимо деревенского дома, услышала голоса, которые сказали ей: «Вот как выглядел дом Хайтеретай! Вот колодец, а вот и кусты! Как счастлива она была, несмотря на бедность!» Затем голоса процитировали несколько абзацев из только что прочитанного произведения, хотя в их содержании не было ничего примечательного.
67 «Анализ показал, что во время чтения ее мысли блуждали и что наибольше впечатление на нее произвели совершенно другие места в книге. Против этого материала – аналогий между парой из романа и ее семьей, воспоминаний об интимных сторонах ее супружеской жизни, о семейных тайнах – возникло вытесняющее сопротивление, поскольку материал этот, посредством легко прослеживаемой цепочки мыслей, был связан с ее сексуальными страхами и в конечном счете пробуждал память о детских переживаниях. Вследствие внутренней цензуры, реализуемой вытеснением, безобидные и идиллические фрагменты, связанные с запретными содержаниями по принципу контраста и близости, закрепились в сознании и смогли “заявить о себе”. Например, первая из вытесненных идей относилась к сплетням, которые распускали соседи об уединенно живущей героине. Здесь пациентка без труда усматривала аналогию с собой: она тоже жила в сельской местности, ни с кем не общалась и думала, что соседи ее презирают. Недоверие к соседям имело под собой реальную основу: выйдя замуж, больная поначалу была вынуждена довольствоваться маленькой квартирой. За стеной спальни, у которой стояла кровать молодоженов, находилась комната соседей. Сильная сексуальная застенчивость впервые проявилась в замужестве – очевидно, вследствие пробуждения воспоминаний о детских отношениях, а именно игр с братом в мужа и жену; она постоянно беспокоилась, что через стену соседи могут услышать слова и шум, и этот стыд преобразился в ее сознании в подозрительное отношение к соседям».
68 При дальнейшем анализе голосов Фрейд часто устанавливал, что слова имеют «характер дипломатичной неопределенности; обидный намек обычно был тщательно скрыт, связь между отдельными высказываниями маскировалась странным тоном голоса, необычными речевыми оборотами и т. п. Все это особенности, которые свойственны слуховым галлюцинациям параноиков и в которых я усматриваю следы компромиссного искажения».
69 Я намеренно предоставил слово автору этого первого, чрезвычайно важного для психопатологии анализа паранойи, ибо не знал, как сократить остроумную аргументацию Фрейда.
70 Вернемся к вопросу о природе диссоциированных представлений. Теперь мы видим, какое значение Фрейд придает предполагаемым Гроссом диссоциациям: они есть не что иное, как вытесненные комплексы, обнаруживаемые у истериков112 и – что не менее важно – нормальных людей113. Как оказалось, секрет вытесненных идей заключается в психологическом механизме общей значимости, представляющем собой вполне обычное явление. Фрейд проливает свет на проблему несоответствия между содержанием сознания и чувственным тоном, рассматриваемую Странски. В частности, он показывает, что нейтральные и весьма тривиальные представления могут сопровождаться интенсивным чувственным тоном, перенятым у вытесненной идеи. Этим Фрейд открывает путь к пониманию неадекватного чувственного тона при dementia praecox. Едва ли необходимо объяснять, что это значит.
71 Результаты исследований Фрейда можно подытожить следующим образом. Как по форме, так и по содержанию симптомы параноидной dementia praecox выражают мысли, которые в силу их болезненного чувственного тона стали несовместимыми с личным сознанием и потому подверглись вытеснению. Этот вытесненный материал определяет характер бредовых идей и галлюцинаций, а также поведение пациента в целом. Следовательно, всякий раз, когда возникает апперцептивный паралич, результирующие автоматизмы содержат в себе отколовшиеся комплексы представлений – на свободу вырывается целая армия прежде сдерживаемых мыслей. Именно так мы можем обобщить результаты анализа Фрейда.
72 Независимо от Фрейда, Тилинг114 на основании клинических наблюдений приходит к схожим выводам. Он также склонен приписывать личности почти неограниченное значение в отношении происхождения и специфической формы психоза. Влияние индивидуального фактора и индивидуальной психологии в целом, несомненно, недооценивается в современной психиатрии, не столько, вероятно, по теоретическим причинам, сколько вследствие беспомощности практикующего психолога. Таким образом, путь, предложенный Тилингом, представляется весьма перспективным; во всяком случае, он ведет нас гораздо дальше, чем считал возможным Найссер115. Однако на вопросе об этиологии, лежащем в самом корне проблемы, мы вынуждены сделать остановку. Ни по Фрейду, ни по Тилингу, индивидуальная психология не объясняет происхождения психоза. Наиболее явственно это следует из анализа Фрейда, приведенного выше. Выявленных им «истерических» механизмов достаточно, чтобы объяснить происхождение истерии, но как же тогда развивается dementia praecox? Можно понять, почему содержание бреда и галлюцинаций имеет такой характер, а не какой-либо иной, но почему возникают неистерические бредовые идеи и галлюцинации, мы не знаем. Возможно, существует некая глубинная физическая причина, перекрывающая все причины психологического толка. Предположим (вслед за Фрейдом), что любая параноидная форма dementia praecox следует механизму истерии, но почему паранойя необычайно устойчива и стабильна, а вот симптоматика истерии отличается высокой степенью изменчивости?
73 Здесь мы сталкиваемся с новым фактором в этой болезни. Непостоянство истерических симптомов обусловлено непостоянством аффектов, тогда как паранойя характеризуется фиксацией аффектов, как отмечает Найссер116. Эту крайне важную для теории dementia praecox идею он формулирует следующим образом117: «Усвоению подвергается лишь очень незначительная часть сведений, поступающих извне. Пациент способен оказывать все меньшее и меньшее влияние на ход своих мыслей, в результате чего обособленные группы идеаторных комплексов возникают гораздо чаще, чем в норме. Их содержания связаны воедино только личным отношением, присущим им всем; кроме того, они не объединены никаким другим способом; в зависимости от текущей констелляции то один, то другой комплекс будет определять ход дальнейшей психической работы и ассоциаций. Таким образом, наступает постепенный распад личности; она становится, так сказать, пассивным наблюдателем впечатлений, поступающих из внутренних источников раздражения, безвольной игрушкой порождаемого ими возбуждения. Аффекты, которые в норме призваны регулировать наши отношения с окружающим миром и способствовать приспособлению к нему – которые служат средствами защиты организма и движущими силами самосохранения, – отчуждаются от своего естественного назначения. Сильный, органически обусловленный чувственный тон бредовых мыслей приводит к тому, что, каким бы ни было эмоциональное возбуждение, они и только они воспроизводятся снова и снова. Подобная фиксация аффектов подрывает способность радоваться и сопереживать, тем самым приводя к эмоциональной изоляции, развивающейся параллельно интеллектуальному отчуждению».
74 Здесь Найссер описывает уже знакомую нам картину «апперцептивного отупения»: дефицит новых идей, паралич всякого целенаправленного (адаптированного к реальности) прогресса, распад личности, автономия комплексов. Сюда он добавляет еще «фиксацию аффектов», т. е. закрепление чувственно окрашенных комплексов представлений. (Аффекты обычно имеют интеллектуальное содержание, хотя оно не всегда бывает осознанным.) Этим объясняется эмоциональное обеднение (для которого Масселон подобрал удачное слово «застывание»). На языке Фрейда фиксация аффектов означает, что вытесненные комплексы (носители аффектов) больше не могут быть исключены из сознательного процесса; они остаются активными и тем самым препятствуют дальнейшему развитию личности.
75 Во избежание недоразумений должен сразу добавить, что в нормальной психической жизни длительное преобладание сильного комплекса неминуемо ведет к истерии. Но симптомы, вызванные истерогенным аффектом118, отличаются от симптомов dementia praecox, посему мы вынуждены допустить, что для возникновения dementia praecox необходимо совершенно иное предрасположение, нежели для развития истерии. Чисто гипотетически мы могли бы предположить следующее: истерогенный комплекс продуцирует обратимые симптомы, в то время как аффект при dementia praecox содействует возникновению аномалий в метаболизме – возможно, появлению токсинов, вызывающих более или менее необратимые повреждения мозга, в результате чего наступает паралич высших психических функций. Приобретение новых комплексов замедляется или вообще прекращается; последним остается патогенный (или, скорее, осадочный) комплекс, а развитие личности окончательно останавливается. Несмотря на кажущуюся непрерывность каузальной цепи психологических событий, ведущей от нормы к патологии, не следует упускать из виду и вероятность того, что в некоторых случаях нарушение метаболизма (в том смысле, в котором его понимал Крепелин) может быть первичным; комплекс, который оказывается самым новым и последним, «застывает» и определяет содержание симптомов. Наш опыт пока не позволяет полностью исключить такую возможность.
Заключение
76 Приведенный выше обзор научной литературы, на мой взгляд, ясно показывает, что все эти, казалось бы, совершенно не связанные друг с другом воззрения и исследования тем не менее сходятся в одной точке. Наблюдения и предположения, выдвинутые во время изучения различных проявлений dementia praecox, указывают прежде всего на наличие исходного нарушения, известного под разными названиями, такими как «апперцептивное отупение» (Вейгандт); диссоциация, abaissement du niveau mental (Масселон, Жане); дезинтеграция сознания (Гросс); дезинтеграция личности (Найссер и др.). Акцентируется склонность к фиксации (Масселон, Найссер), из которой последний выводит эмоциональное обеднение. Фрейд и Гросс подчеркивают факт существования отколовшихся представлений. Фрейд первым продемонстрировал «принцип преобразования» (вытеснение и косвенное возрождение комплексов) при параноидной dementia praecox. Тем не менее механизмов, описанных Фрейдом, недостаточно для объяснения того, почему в результате развивается dementia praecox, а не истерия; как следствие, в случае dementia praecox мы вынуждены допустить наличие специфических сопутствующих истоков аффекта (токсинов?), которые обусловливают конечную фиксацию комплекса и нарушают психические функции в целом. Не следует исключать и возможность того, что эта «интоксикация», первоначально вызванная соматическими причинами, в дальнейшем может присоединиться к последнему комплексу и патологически его трансформировать.
2. Чувственно окрашенный комплекс и его общее влияние на психику
77 Теоретические предпосылки, необходимые для понимания психологии dementia praecox, как таковые исчерпываются содержанием первой главы, ибо все основное, строго говоря, изложено Фрейдом в его работах, посвященных истерии, неврозу навязчивых состояний и сновидениям. Тем не менее наши представления, выработанные на экспериментальной основе, отличаются от таковых у Фрейда; возможно, и понятие чувственно окрашенного комплекса несколько выходит за рамки его воззрений.
78 Фундаментальной основой нашей личности является аффективность119. Мысль и действие – это, так сказать, лишь симптомы аффективности120. Элементы психической жизни: ощущения, представления и чувства – присутствуют в сознании в виде неких единиц, которые – если провести аналогию с химией – можно сравнить с молекулами.
79 Например, я встречаю на улице давнего друга, и в моем мозгу немедленно возникает образ, функциональная единица – образ моего друга Х. В этой единице, или «молекуле», можно выделить три составляющих, или «радикала»: чувственное восприятие, интеллектуальный компонент (представления, образы памяти, суждения и т. д.) и чувственный оттенок121. Эти составляющие неразрывно связаны между собой, в силу чего вместе с образом памяти на поверхность поднимаются и все сопряженные с ним элементы. (Чувственное восприятие представлено одновременным центробежным возбуждением соответствующих сенсорных областей.) Стало быть, у меня есть все основания говорить о функциональной единице.
80 Предположим, что из-за необдуманных слов моего друга Х я оказался вовлечен в очень неприятную историю и долгое время страдал от ее последствий. История эта содержит огромное количество ассоциаций (ее можно сравнить с телом, состоящим из бесчисленного множества молекул); она охватывает людей, предметы и события. Функциональная единица «мой друг» – это лишь одна фигура из многих других. Вся совокупность воспоминаний эмоционально окрашена – в указанном случае острым чувством раздражения. В этом чувственном тоне задействована каждая молекула, так что, независимо от того, появляется она сама по себе или же в сочетании с другими, она всегда несет в себе эмоциональный оттенок, который проступает тем отчетливее, чем яснее мы видим его связь с ситуацией в целом122.
81 В качестве примера приведу одно событие, свидетелем которого мне довелось стать некоторое время назад. Однажды я прогуливался с неким крайне чувствительным и истеричным молодым человеком. В какой-то момент в деревне зазвонили колокола, и мы услышали прекрасный, гармоничный перезвон. Мой спутник, обычно очень чуткий к колокольному звону, внезапно принялся ругаться; он заявил, что этот отвратительный трезвон невыносим, что сама церковь безобразна, а деревня убога. (Деревня была расположена в весьма живописном месте.) Столь примечательный неуместный аффект заинтересовал меня, и я принялся расспрашивать своего спутника. В ответ тот начал поносить местного пастора. По его словам, у пастора была мерзкая борода, он писал плохие стихи. Мой спутник тоже был склонен к поэзии. Таким образом, корни аффекта крылись в поэтическом соперничестве.
82 Этот пример показывает, как каждая молекула (колокольный звон и т. д.) участвует в чувственном тоне (поэтическое соперничество) всей ткани представлений123, которую мы называем чувственно окрашенным комплексом. В этом смысле комплекс представляет собой более высокое психическое единство. Исследуя психический материал (например, с помощью ассоциативного эксперимента), мы обнаружим, что практически все ассоциации принадлежат тому или иному комплексу124. Конечно, доказать это на практике довольно трудно, но чем тщательнее мы их анализируем, тем отчетливее видим связь отдельных ассоциаций с комплексами. Их отношение к личному комплексу не вызывает сомнений. У здорового человека личный комплекс – это высший психический авторитет. Под ним мы подразумеваем всю совокупность идей, относящихся к «я», вкупе с могучим и постоянно присутствующим чувственным тоном нашего тела.
83 Чувственный тон – это аффективное состояние, сопровождающееся соматическими иннервациями. «Я» – психологическое выражение прочно связанных комбинаций всех телесных ощущений. Таким образом, личность есть самый устойчивый и сильный комплекс, который (если позволяет здоровье) выдерживает все психологические бури. Именно по этой причине представления, имеющие к нам непосредственное отношение, всегда отличаются наибольшей стабильностью и вызывают у нас наибольший интерес; иначе говоря, они обладают самым высоким тоном внимания. (Под «вниманием» Блейлер понимает аффективное состояние125.)
Острое воздействие комплекса
84 Реальность такова, что в мирный круговорот эгоцентрических представлений постоянно вторгаются идеи с сильным чувственным тоном, т. е. аффекты. Угрожающая ситуация оттесняет безмятежную игру идей и ставит на их место комплекс других чувственно окрашенных представлений. Все остальное новый комплекс отодвигает на задний план. Сейчас он наиболее отчетлив, ибо полностью тормозит все прочие идеи; из эгоцентрических представлений он допускает только те, которые соответствуют его ситуации, и при известных условиях может подавлять до полного (временного) забвения все противоречащие представления, сколь бы сильными они ни были. Теперь он обладает самым интенсивным тоном внимания. (Таким образом, неверно говорить, что мы направляем внимание на что-либо, – состояние внимания устанавливается вместе с соответствующим представлением126.)
85 Откуда комплекс черпает свою тормозящую или стимулирующую силу?
86 Мы видели, что личный комплекс, благодаря своей прямой связи с телесными ощущениями, наиболее устойчив и богат ассоциациями. Осознание угрозы вызывает страх. Страх есть аффект; следовательно, он сопровождается изменениями в организме, сложным ансамблем мускульных напряжений и раздражениями симпатической нервной системы. Восприятие находит путь к соматической иннервации и тем самым помогает связанному с нею комплексу одержать верх. Страх провоцирует изменения бесчисленных телесных ощущений, что, в свою очередь, вызывает изменение большинства ощущений, на которых основывается нормальное «я». В результате последнее теряет тон внимания (или ясность, или стимулирующее и тормозящее влияние на другие ассоциации). Оно вынуждено уступить место иным, более сильным ощущениям, связанным с новым комплексом, хотя обычно растворяется не полностью, а остается на заднем плане в качестве «аффективного»127, ибо даже очень сильные аффекты не в состоянии изменить всех ощущений, лежащих в основе «я». Как показывает повседневный опыт, аффективное «я» представляет собой слабый комплекс, обладающий значительно меньшей объединяющей силой, нежели аффективный комплекс.
87 Предположим, что угрожающая ситуация быстро разрешилась; в этом случае комплекс вскоре утрачивает часть тона внимания, ибо телесные ощущения постепенно приобретают свой нормальный характер. Тем не менее в своих физических, а также психических проявлениях аффект продолжает как бы вибрировать еще некоторое время: колени дрожат, сердце колотится, лицо горит или сохраняет бледность, «человек с трудом может оправиться от испуга». Периодически, сначала с короткими, а затем с более длительными интервалами, образ страха, обогащенный новыми ассоциациями, возвращается и вызывает повторные волны аффекта. Подобная персеверация аффекта в сочетании с высокой интенсивностью чувства является одной из причин соответствующего увеличения богатства ассоциаций. Следовательно, обширным комплексам всегда присуща яркая чувственная окраска; наоборот, сильные аффекты всегда оставляют после себя обширные комплексы. Объяснение здесь простое: с одной стороны, крупные комплексы включают в себя многочисленные соматические иннервации, в то время как, с другой, сильные аффекты вследствие мощной и постоянной стимуляции тела констеллируют множество ассоциаций. Обычно отголоски аффекта могут сохраняться бесконечно долго (в виде проблем с желудком и сердцем, бессонницы, тремора и т. д.). Однако постепенно они ослабевают; идеи, связанные с комплексом, исчезают из сознания и только иногда возникают в сновидениях в более или менее завуалированной форме. Комплексы, напротив, сохраняются годами, проявляясь в специфических нарушениях ассоциаций. Их постепенное угасание характеризуется одной общей психологической особенностью – готовностью вновь проявиться почти в полную силу в ответ на аналогичные (хотя и гораздо более слабые) раздражители. Продолжительное время после этого сохраняется состояние, которое я назвал «комплексной чувствительностью». Ребенок, однажды укушенный собакой, будет вскрикивать от ужаса всякий раз, едва только завидит это животное вдалеке. Люди, получившие дурные известия, впоследствии с опаской вскрывают свою корреспонденцию. Эти следствия, способные сохраняться очень долго, позволяют говорить о хроническом воздействии комплекса.