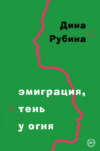Loe raamatut: «Дизайнер Жорка. Книга первая. Мальчики»

© Д. Рубина, текст, 2024
© ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Глава первая
Двор
– Жорка! Жо-о-орка! Ты где опять затырился, засранец! Вот погоди, найду, будешь уши свои оборванные как грыбы собирать. Вот найду, ох, найду-у-у!
Не найдёт. Она никогда его не находит. Поорёт и захлопнется…
Жорка очень зримо представляет себе, как Тамара захлопывается: лязгают зубы, губы защёлкиваются на замочек, медленно, на шарнирах опускается крышка черепа, который проворачивается и завинчивается, для надёжности, на костяной резьбе позвонков. В ушах Тамары – замочные скважины, в каждой крякает ключ. И вот стоит она, закрытая шкатулка, стоит и стоит себе, никому не надоедает, не орёт, не угрожает отослать его в Солёное Займище – «свиней с Матвеичем пасти». Стоит и стоит, пока он не отопрёт её и не запустит в дело…
В который раз ему приходит на ум, что в человеческой голове можно бы устроить парочку нехилых тайников. Он и сам лежит сейчас в тайнике, в одном из своих укрытий, разбросанных по двору. Он второе лето уже тайник обустраивает. Это пещерка в поленнице дров, сложенных под навесом у самого забора. Между поленницей и дощатым забором есть зазор для лучшей просушки древесины. Проникнуть туда нормальному человеку немыслимо, но Жорка, тощенький, плоский, как шпрота, втискивается бочком. Осторожно вытягивает несколько поленьев, расставляя по бокам упоры – вертикальные сваи, – чтобы не завалило его тайную пещерку… Забирается внутрь и проползает к продольной щели меж двумя чешуйчатыми полешками.
Удобная позиция: перед ним – весь огромный двор. Вон за спиной встревоженной Тамары ступает с крыльца соседка с полным тазом выстиранного белья. Видать, опять поругалась с Шестым, обычно тот сам развешивает стирку – свои кальсоны, необъятные панталоны жены. Ясно, поругались: высокий восточный голос Шестого из окна их кухни:
– Я вас очччень уважаю, Катерина Федосеевна, но я вас посажу!
– Ой, напугал, посадит! – звонко кричит та, мощно протряхивая на обеих вытянутых руках мокрые сиреневые рейтузы, протяжные и тяжёлые, как занавес клубной сцены. – Меня и в тюрьме покормят, а ты без меня с голоду подохнешь!
Жорка лежит в тайнике и в продольную щёлку между поленьями (сам вырезал ножичком) наблюдает за Тамарой. Какое наслаждение следить за ней, оставаясь невидимым! Скоро ей надоест скандалить в пустоту, она плюнет себе под ноги, повернётся и уйдёт в дом. Или станет базарить с соседкой – вон, та уже занимает кальсонами нашу верёвку. Впрочем, вряд ли у Тамары хватит пороху сцепиться с Катериной Федосеевной.
Та чуть ли не каждый год брала себе мужей «на пробу». У соседей они получали порядковые номера. Ныне это был Шестой: маленький, вечно чем-то разгорячённый то ли чечен, то ли даг, то ли ногайский татарин, с курчавыми плечами и заливистым голосом. Этот слегка подзадержался – видать, певучий их дуэт чем-то Катерине Федосеевне полюбился.
Самым удачным её мужем был Первый, тот, что погиб в Польше и там же, под Варшавой, похоронен. Теперь Катерина Федосеевна имеет право каждый год ездить к нему на могилу. Уезжает она всегда в драном, на живульку смётанном полупердине, в таможенной декларации записывая его шубой; в Варшаве покупает уж истинно ШУБУ – роскошную, натурального меха. В ней и возвращается, величаво проплывая таможню, – так океанский лайнер, минуя маяк, входит в бухту: шуба – она шуба и есть, правильно? «Моя заявлена, – говорит Катерина Федосеевна, если вдруг таможенник попался прилипучий, – вон в декларацию гляди. Может, те лупу дать для разгляду?»
По возвращении домой – гениальная спекулянтка! – продаёт шубу с большим наваром.
Ну, а дома сегодня Жорка, пожалуй, и вовсе не покажется, потому как, по всем приметам, дядь Володя сегодня уйдёт в запой.
Когда у дядь Володи начинался запой, об этом мгновенно узнавали все соседи: он выносил в палисадник стол, ставил на него проигрыватель и стопку пластинок, рядом водружал бутылку, а то и две, и некоторое время прохаживался гоголем, изображая «культурного человека».
Поначалу шаляпинский бас погромыхивал над двором: «Блоха?! Аха-ха-ха-ха! Бло-ха!!!»
Блоху сменял Мефистофель, со своим знаменитым: «Люди гибнут за металл!» После Мефистофеля, как по часам, на крыльце возникала Тамара, жалобно подвывая: «Во-ов… но не на-адь…» «Сгинь, мымра глухая!» – гремел дядь Володя в одной с Шаляпиным тональности. Это, собственно, и знаменовало начало запоя.
Зелье в бутылке стремительно убывало, оперные арии сменялись эстрадой: «А-ах, арлекину-арлекину…» – раскатывала Пугачёва, похохатывая, заводя весь двор, так что соседки, прополаскивая в тазу посуду на своих кухнях, подпевали: «Есть одна на-гра-да – смех! А-ха-ха-ха-ха…»
По мере Володиного погружения в бездну неутолённой любви и печали песни становились всё задумчивей и философичней: «…И когда я ве-ерила, се-ердцу вопреки-и… Мы с тобой два бе-ерега у одной ре-ки…»
Далее всё шло по нарастающей: со второй бутылки слетала крышечка, настроение песен становилось торжественно-патриотичным: «День за днём идут года-а… Зори новых пАкАлений…» В какой-то момент дядь Володя пускался в пляс, горланя охрипшим тенорком: «Ле-енин всегда жи-во-ой…» – значит, дело близилось к развязке.
«Не ссыте, ****-граждане! Я закон ***-блюду!» Ровно в 22.55 он ставил гимн Советского Союза и – вытянувшись сушёной воблой – выслушивал его с зачина до резины финального аккорда, правой ладонью отдавая честь, левую положа на сердце. Этот этап запоя можно было считать торжественной увертюрой…
…ибо на следующий день с утра начиналось первое действие данной оперы: скандалы с верхнего этажа подъезда и до самого низу. После энной бутылки водки дядь Володя приступал к обходу соседей. Минут двадцать, цепляясь за перила и препираясь сам с собой, вздымал себя на третий этаж, где, будучи левшой, в первую очередь ломился в квартиру профессора Фёдорова – ту, что слева. Получив там ***** (выражение самого профессора), отлетал к противоположной двери, к профессору Случевскому, получал и там того же, и, рывками скатываясь на второй, а затем и нижний этаж, всюду скандалил и дрался, и просил на жопу орден, пока, наконец, украшенный фонарями и ссадинами, на славу отмолоченный, не вываливался во двор, где мочился на развешенные для просушки простыни…
Тут на него, с мухобойкой в руке, выбегала другая Тамара, Тамарка-татарка, защищая свои простыни от ядовито-жёлтой мочи алкаша. Рука у неё была тяжёлой, дралась она умело и хлёстко. Тогда на защиту кормильца шла в бой Володина жена Тамара-глухая, крича: «На больного человека, *****, на больного человека!!!». Их поединок вокруг дядь Володи, который путался под ногами, меж кулаками и коленями двух женщин, пытаясь их разнять, становился грандиозным финалом оперы.
Где в это время были остальные жильцы? На лучших местах в зале! Высыпав на галереи («Уж ложи блещут»), болели громко, увлечённо, вдохновенно: такой спектакль! Свешиваясь из окон, орали: «Тамарка! По яйцам ему, гаду, союз, ***, ему нерушимый!!!» – и в этом могучем единении, в этом народном порыве, не было, вот уж точно, ни научной элиты, ни рабочего класса, ни эллина, ни иудея.
Следующие дня три дядь Володя просто тихо пил; за окном кухни на первом этаже маячила сивая макушка его тяжёлой поникшей головы.
Выйдя из запоя, побрившись, опрыскав кадык одеколоном «Гигиенический», он пускался в обход соседей по той же траектории, сверху вниз: вежливо стучал в каждую дверь и со скорбным достоинством приносил свои глубокие извинения.
Происходило это безобразие только в дни получки. В остальные дни месяца Владимир Васильич Демидов, человек молчаливый и сдержанный, работал бригадиром ремонтников на судостроительном заводе имени Третьего Интернационала, для чего каждое утро тащился на трамвае через Жилгородок на другой конец города.
* * *
Перед Жоркой в щели́ его тайного убежища – полуденный двор их волшебного многоколенного дома. Главное, арка просматривается, где, в конце концов, должен возникнуть Агаша, его дружок-закадыка; хотя, кажется, этот момент никогда не наступит. Да нет, закончатся же когда-то уроки в школе, куда сам Жорка сегодня решил не ходить – что он там забыл? Что забыл он там именно сегодня, когда математики нет по расписанию, а водонасосная станция под Желябовским мостом должна спускать из Кутума воду? Вот это кайф для пацанов! В такие дни они всем двором бегут на Кутум охотиться на раков. Раки там чумовые, огромные! Главное, надеть резиновые сапоги и не забыть ведро.
Дно Кутума покрыто глубокими лужами, там и сям обнажена глинистая земля, заваленная камнями. Ты спускаешься вниз (набережная Кутума метров на пять, а то и больше, выше уровня речки) и бродишь меж камней, переворачивая их палкой. А под камнями копошатся, пятятся, дерутся раки. Собираешь их в вёдра, моешь в принесённой воде, а когда стемнеет, разводишь на берегу костёр.
Из подобранных железяк-арматурин пацаны сооружают треногу, на неё подвешивают котелок. Когда вода закипит, солят её и забрасывают раков… Жуткое, но обалденное зрелище: вода бурлит седыми бурунами, рак вздрагивает, дёргается, крутится, как веретено. В воду хорошо бы добавить пиво, от него рачье мясо нежнее. Жорка всегда надеется стащить у дядь Володи бутылку «Жигулёвского», да у того разве залежится!
Когда раки становятся красными, как жгучий перец, воду сливают, и, смешиваясь с речной свежестью, в воздухе разливается райское благоухание! Ох, и вкусные кутумские раки – крупные, мясистые! До ночи сидят ребята вокруг костра, отколупывая рачьи шейки, клешни, тщательно обсасывая корявые рачьи ножки…
Их никто не гоняет: пацанва не безобразит, никого не задирает, делом занята. А костёр – ну что ж, пионерский, можно сказать, атрибут: все мы были пионерами, взвейся кострами, орлёнок-орлёнок… Интересно, а орлиное мясо – съедобное?
– Это вам не ульяновская Волга: это – дельта, здесь всегда пахнет изобильной свежей рыбой.
Вообще, внутри Астрахани много рек, и довольно больших. Кроме длиннющего родненького Кутума (через весь город вьётся!), имеются Прямая Болда, Кривая Болда, или Криуша, Канал имени 1 Мая, который все почему-то зовут просто Канава («Где живёшь?» – «На Канаве»), Приволжский затон… Ну и сама Волга, понятно. И мосты, мосты, мосты… Потому мир для пацанов делится на болдинских, криушинских, селенских и косинских. Бывает, стенка на стенку ходят, дерутся с колами в руках, хотя редко кого ухайдокают крепко, но это если в драку не ввяжутся болдинские. Те – самые отвязные, оно и понятно – окраина.
Жорка лежит, животом ощущая колкие чешуйчатые поленья, панорамирует в щёлку двор и наслаждается тем, что сам невидим и неуязвим. Его нет! Ну, почти. Он же не дурак, знает, что наука ещё не достигла, хотя Торопирен уверяет, что грядёт то времечко, когда человек в любой момент исчезнет и в секунду перенесётся… куда захочет! «Куда, к примеру?» – уточняет Жорка. «Да хоть к ядрене фене!» Ну, это адрес приблизительный, посмотрим-поглядим, Торопирен (субъект, безусловно, великий) порой свистит как дышит. Например, уверяет, что может управлять любым самолётом. Ха! Да он во время войны сам пацаном был, в эвакуации, где-то в Бухаре загорал. Ну и где там самолёты?
Нет, Жорка мечтает стать невидимым для других: вот сидит он в чьём-то выпученном глазу, крошечная мошка. Ему часто снятся такие прятки-сны: внезапно увиденная в стволе дерева щель, в которую он втягивается ящеркой; или круглая трещина у самого хвостика астраханского арбузища. А после культпохода шестого «А» в Картинную галерею имени Кустодиева долго снились музейные статуи: мраморные, грозно молчащие, в незрячих глазах – отверстие зрачка. Его всегда завораживала, всегда тревожила гениальная конструкция человеческого глаза, его непроницаемость – в отличие от уха, например.
Спустя лет сорок он сделает остроумный тайник в резной фигурке окимоно: японский монах верхом на карпе – XVII век, китайская резьба, слоновая кость, тонированная чаем. Изящные вещицы эти окимоно, хрупкое величие человеческого гения.
Именно в глазах того карпа будет смутно проблескивать редкой чистоты бриллиант, извлечённый из знаменитой тиары некой венценосной особы и благополучно вывезенный из аэропорта Антверпена, наводнённого полицией.
Ёмкость уха он тоже неоднократно использовал в своих целях, а тончайший пластырь телесных оттенков, с помощью которого лепил ухо Гусейну, прокажённому, заказывал впрок в маленькой театральной мастерской на улице Lamstraat, в городе Генте.
Весь мир казался ему перекличкой тайников. У каждой материи и каждого предмета была своя тайниковая физиономия: лукавая или простодушная, невозмутимая или угрожающая. Утюг был не просто утюгом, а возможным схроном для мелких предметов. Тостер на кухне, настольная лампа, кусок мыла, сухая вобла, обычная инвалидная трость… наконец, стена (о, стена – это неограниченные возможности спрятать что угодно!) – ждали мгновенного клика его изощрённого тайникового ума, дабы превратиться в укрытие. Он шёл по асфальтовой мостовой, и под ногами у него простиралась тайниковая прерия, океан неисчислимых возможностей по созданию схронов. Мир под его взглядом распадался, множился, расчленялся на тайники, закручивался и намертво завинчивался над тайниками.
В то время он уже носил имена в зависимости от страны пребывания. Целая колода имён, правда, одной масти: Жорж, Георг, Юрген, Щёрс – выбирай, какое нравится. От фамилии избавился давно. Никто её и не знал, и не видел, кроме пограничника в будке паспортного контроля. Ни в деловых переговорах, ни в тёрках никогда не мусолил фамилию. Казалось, он и сам её подзабыл. Просто: Дизайнер, как в том, ещё советских времён анекдоте: «Вижу, что не Иванов».
Между тем фамилия его была именно что – Иванов. Но представлялся он: «Дизайнер Жора» – Георг, Жорж, Юрген, Щёрс… Так его и Торопирен именовал, в мастерской которого он ошивался в детстве и отрочестве всё свободное время: «Дызайнэр! Ты – природный дызайнэр, Жора!» Звучало чуть насмешливо и кудревато, тем более что Торопирен слегка катал в гортани мягкий шарик «эр» и вообще говорил с каким-то странным-иностранным акцентом. «Только тебе учиться прыдётся. Много учиться! – и улыбался чёрными пушистыми глазами болгарской женщины, и тыкал в потолок аристократическим пальцем британского механика. Руки у него были противоречивые: красивой формы, гибкие, даже изысканные, но обвитые жгутами вен, как, бывает, растение выводит из тесного горшка наружу узлы корней. – Учиться разнимать материю жизни. Понюхать, пощупать, слезами полить, матом покрыть… и снова её собрать, но уже в собственном поръядке. Об-сто-ятельно, умоляю тебя. Нышт торопирен!»
Вообще-то, по-настоящему Торопирена звали Цезарь Адамович Стахура. Цезарь, ага, ни много ни мало. Сам он произносил это имя с византийской пышностью, с ударением на А, слегка раскатывая второй слог: Цэза-ары… «И он говорит мне, **** сутулая: «Цэзары Адамыч, при всём моём к вам почтении, эта работа столько не стоит!» Работал он спецом-на-все-руки в НИИ лепры – да-да, в лепрозории на Паробичевом бугре. И хотя проживал в нашем же огромном дворе, неделями, бывало, ночевал на работе, в одноэтажном домике с подвалом, куда никого, кроме Жорки, не пускал. В этой своей закрытой, отлично оснащённой мастерской он изготавливал сложнейшие лабораторные приборы, вроде настольного стерильного бокса для манипуляций с культурами клеток – в Союзе тогда не выпускали боксов такого типа. Каких только инструментов не нашлось бы в его берлоге: великая рать кусачек, пилочек, ножничек, тисков-тисочков… И разложены все ак-ку-рат-ней-ше по родам войск, так сказать, в истинно немецком порядке. А был ещё такой специальный часовой микроскоп, куда вставлялись разнокалиберные, похожие на крошечные торпеды приборы с именем французского сыщика: пуансон. Множество, целый взвод пуансонов. Каждый, как солдатик в окопе, сидел в специальной лунке в старинном ящичке, на крышке которого написано: «Potans Bergeon».
И это правда: любой самолёт был ему, боевому лётчику, точно преданный пёс.
Правда и то, что Большая война обошла его боями – по возрасту. Зато успел он попасть на другие войны в другой стране, где вдосталь повоевал и вдосталь налетался. После чего, прокрутив парочку смертельных виражей (типа ранверсмана или хаммерхеда, фигур высшего, но уголовного пилотажа), приземлился тут у нас в Астрахани, где косил под поляка, хотя частенько пропускал словечко-другое на идиш.
Польша тогда вообще была у нас в моде: Анна Герман, Эдита Пьеха, «Пепел и алмаз» Вайды, «Солярис» Станислава Лема… Ну а «Червоны гитары», а новый джаз, – не говоря уж об остроносых лаковых туфлях, вишнёвых галстуках-бабочках, об элегантных костюмах, серых в полоску? Польша была отблеском Запада и, несомненно, самым весёлым бараком в социалистическом лагере…
…Стахура, да. Цезарь Адамович. Любопытно, что вот уж этот виртуоз криминального мира, давно объявленный в розыск Интерполом, уверял Жорку, что имени-фамилии своих никогда не менял.
Глава вторая
Семейная коллекция
1
…Чепуха! Менял, конечно, но в довоенном варшавском детстве. Вернее, меняли за него, мнением пацана особо не интересуясь.
Отец его, Абрахам Страйхман, сын и внук варшавских часовщиков, всем существом своим наточен был на чуткий секундный ход времени: его предки поколениями вникали в работу тикающих механизмов и за пару веков собрали недурну́ю фамильную коллекцию шедевров часового и механического искусства.
Был Абрахам невысоким изящным человеком с остроконечной эспаньолкой, в народе называемой шпицбрудкой, с обширной лысиной, по субботам увенчанной бархатной ермолкой, с быстрым и зорким взглядом серых глаз. Подвижный и чуткий от природы, по роду профессии, однако, он подолгу застывал над разъятым часовым организмом, зажатым в потансе (микроскопе-станочке), и в эти минуты, с лупой-стаканом на правом глазу, с пуансоном в руке, походил то ли на единорога, то ли на рыцаря перед схваткой. А скорее, на рыцаря верхом на единороге.
Вонь палёного этот проницательный человек чуял задолго до поджога, до полицейской облавы, до погрома. «Мне это воняет», – задумчиво говорил он, просматривая по утрам газеты и принимая решения внезапные, на посторонний взгляд – странные, а то и вовсе дикие, озадачивая не только соседей, но и собственную семью.
Первый этаж дедовского каменного дома на Рынко́вой улице занимала мастерская, святилище часового божества, она же – торговый зал, уставленный витринами с часами наручными и карманными, с часами-шкатулками, часами-табакерками, часами-веерами и часами-браслетками, часами-медальонами и даже крошечными часами-кольцами.
Солидный был магазин, с товаром на любой вкус: были здесь представлены и дорогие изделия знаменитых домов, вроде Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Breguet, Gustav Becker; часы с хронографом, вечным календарём, минутным репетиром. Но были и расхожие часики для публики попроще.
Здесь же, в отгороженном углу за шкафом стоял рабочий стол Абрахама Страйхмана, за которым производилась починка и отладка всевозможных, в основном старинных часовых механизмов, от которых отступились другие, не столь изощрённые и опытные, как Страйхман, мастера.
Семья проживала в том же доме, в шести комнатах на втором этаже.
И вот уж в этих комнатах…
Нет, в квартире Абрахама Страйхмана имелась, конечно, и необходимая мебель: кровати (нужно же на чём-то спать), обеденный и ку́хонный столы со стульями (нормальным людям полагается же где-то есть), диван и кресла в гостиной (в доме и важные господа бывают!); ну, и в лампах недостатка не было: люстры, настенные светильники, мелкие лампочки с остро направленным лучом для разгляду – чуть не по дюжине в каждой комнате, ибо было на что посмотреть, было чему подивиться в этом доме. Всё же свободное пространство, каждая пядь всех шести комнат, включая даже кухню и прихожую, было отдано царству часов.
Все стены, консоли, полки и полочки, круглые резные подставки на высокой ноге, навесные, угловые и напольные этажерки, жардиньерки и стеллажи, ломберные столики, за которыми никто никогда не играл в карты (глупство, «крэтыньске заенче», идиотское занятие!) – всё было уставлено и увешано часами.
В спальнях детей – старшей Голды, десятилетнего Ицхака, а также младшенькой Златки – тоже тикали, звенели, куковали и мелодично били на разные голоса неумолчные часы, часы, часы…
Было их в квартире триста восемьдесят семь, и никто не гарантировал, что в один прекрасный день отец не поднимется из мастерской с торжественным и счастливым лицом, бережно обнимая каминные или настенные, или интерьерные, или волоча на спине напольные – триста восемьдесят восьмые – особенно редкие, прямо драгоценные часы, которые он выкупил у хозяев по совсем пустяковой цене. И не вопи, Зельда, ша, вот тут есть местечко между креслом и подоконником, а если не встанет, то кресло долой: кому здесь рассиживаться? Зато послушай этот бой – послушай этот бой: серебряное горлышко его выводит, и так потаённо, так издалека, будто ангел с небес, – чистый ангел!
Весь дом звучал…
Он звучал днём и ночью, неустанно отбивая, отзванивая, выводя обрывки мелодий, выпевая и звонко отстукивая серебряными молоточками четверти и половины, и весомый полный час.
Зельда называла свои дни и ночи «сумасшедшим домом», но точно как бывалые санитары в доме скорби не обращают внимания на крики, стоны и визг умалишённых, так и вся семья Страйхман спала как убитая под звон и бой, и протяжный гуд, и чирик-чирик, и наперебойное «ку-ку!» и звяканье рюмочек, и короткую паровозную одышку, и туманный гул пароходной рынды, и витиеватую трель волшебной флейты, и виолончельный вздох усталых пружин… Обитатели этого дома годами, десятилетиями плыли в ночи, сопровождаемые добрыми голосами старинных часов, а прожитые их предками жизни призрачными часовыми охраняли границы их снов, пока неустанное время отбивало полный час, четверти и половины…
* * *
Любая страсть, любая одержимость делом ли, удовольствием или собранной дедом и отцом громоздкой коллекцией часов может утомить человека не заинтересованного. Вполне достаточно нескольких слов о наследственном безумии хозяина дома на Рынковой улице, чтобы читатель составил себе представление о плотности заселения тикающими механизмами этой, в сущности, не огромной квартиры. Но…
Но как не перечислить, как не описать, хотя бы словечком, отдельные жемчужины фамильного наследия zegarmistrzа, Абрахама Страйхмана!
Были здесь изрядной ценности каминные часы из первых французских, еще с 1760 года, что работали до восьми дней без завода: готический замок из редкого сплава латуни и серебра. Фаянсовый циферблат (расписанные вручную римские цифры, серебряные стрелки, оплетённые чернёной вязью) помещался в башне, по зубча́той площадке которой двигались двое часовых, каждый час меняясь местами. Причём серебряные их фигурки были выточены с таким ювелирным мастерством, что на лице каждого (а они были абсолютно идентичны!) можно было заметить лихо закрученные усы и окладистую бороду, волосок к волоску. Пока они плыли навстречу друг другу, слегка покачиваясь в бороздках, часовой механизм негромко выпевал французский военный марш XVII века «M’sieur d’Turenne»:
M’sieur d’Turenne a dit aux Poitevins
Qui a grand soif et lui demande à boire…
В семье часы так и именовались: «Мсье Тюренн», были просты в заводе, запускались по пятницам, перед Шаббатом.
Красное дерево, золочение, бронза – какая разница, что за материалы пошли на изготовление следующего чуда, если каждый гость просто застывал на пороге гостиной при взгляде на эти австрийские часы: на витые колонны, портик и арку голубого фарфорового циферблата, над которым с двух сторон нависали два полуголых ангела с лукавыми лицами, далёкими от святости. В семье эти часы носили прозвище «Два прощелыги». Их обожала кухарка Зося. Трогать не смела, это никому, кроме отца, и не дозволялось, но, проходя мимо, умильно крестилась и говорила: «Ну до чего ж чертовские рожи у этих ребят!»
В углу стоял Thomas Schindler, Canterbury – эпоха правления короля Георга III – английские напольные часы, музейный экземпляр. Они носили простое и гордое прозвище «Монарх», и восхищённому зрению некуда было деться от избыточности рококо: тут и медный циферблат с изысканной гравировкой на посеребрённом круге, и по всему корпусу золотые накладки в виде морских коньков, дельфинов и ветров, дующих сквозь щёчки-мячики кипящими струями, как из брандспойта.
Рядом с этой золочёной ярмаркой стихий с камина глядело само благородство: старинные французские часы, ампир, бронза, севрский фарфор; на лазурном гребне застыл воинственный греческий бог третьего ранга – голышом, но в шлеме и с копьём в поднятой руке.
Главным украшением гостиной был большой картель с браслетом и консолью из шпона палисандрового дерева – стиль Регентства, период Наполеона III. Перед этими часами гости застывали, совершенно очарованные: корпус из прочеканенной бронзы нёс на себе целую поэму образов: листья и грозди вперемешку с целой стаей мелкой лесной нечисти – каждая фигурка отлита отдельно, каждая наособицу, а вместе – сложная композиция. Венчала всю эту королевскую рать чаша Святого Грааля – непременный божественный атрибут династии Меровингов. Дед Абрахама привёз эти часы из Любека лет пятьдесят назад. Каждый час они подавали голос протяжным скрипичным арпеджио, вопросительно замирая на самой высокой ноте.
…Ну-с, побежали, побежали дальше…
Были в коллекции резные деревянные избушки и пагоды, и миниатюрные храмы с портиками, башенками, флагштоками; с медными и серебряными аппликациями, с алтарными рогами многих оттенков разнообразной древесины. Были каминные часы в фарфоре и дереве, и часы, выполненные в технике ормолу, украшенные резьбой и фигурами античных персонажей – каждый со своей физиономией и своим нравом.
О, это население часовой империи: зевсы и адонисы, артемиды и вулканы, фавны и нимфы, русалки и тритоны; целый дивизион разномастных ангелочков, вездесущих, как мухи; целый табун летящих коней; целая стая орлов и лебедей; целая псарня гончих; целый прайд львов; наконец, целых три Леды – две бронзовые, одна чугунная-позолочённая, – в изнеможении поникших под могучими лебедиными крылами…
В столовой, на стене издавна жили часы-фонарь с Британских островов: квадратный корпус из латуни, большой круглый циферблат, колокол глубокого печального тона. Середина XVI века. Под скорбный голос «Фонаря» Абрахам листал газеты, помыкивая, почёсывая бровь, качая головой и задумчиво бормоча своё: «Мне это воняет»…
…Однако следуем дальше, ибо коллекция трёх поколений Страйхманов одушевляет каждый угол, каждый закуток этой квартиры.
Все четыре стены комнаты Голды, старшей дочери Абрахама, демонстрировали весёлый оркестр настенных часов, сработанных в стиле музыкальных инструментов: банджо, лютней, гуслей… Кроме того, здесь бытовали тринадцать (!) часов с кукушкой, – и когда птички показывались в круглых или квадратных оконцах, вся комната перекликалась и похохатывала их оживлёнными глуповатыми голосами. Тут же висели «картинные часы», вписанные в позолочённую раму в стиле бидермейер. Эту диковину Голда выпросила у отца ещё в восьмилетнем возрасте на свою свадьбу. «Скоро ли та свадьба!» – улыбаясь, заметил отец. Никогда ни в чём не мог отказать любимице. «Не волнуйся, не за горами», – парировала языкатая девчонка.
В комнате пятилетней Златки, как наиболее крепко спящей особы, стояли по углам три «генерала». Двое были похожи, как братья: узкобёдрые стройные гренадеры, напольные часы английского мастера Джозефа Тейлора, конец XVIII века. Зато третий механизм, простоватый на вид, вроде шкафа, поставленного на попа, но с двумя мощными рогами в навершии – тот, берите выше: не генерал, а маршал: плечистый и могучий Густав Беккер. Это орган был с четвертным боем, а не часы, потому как механизм его, как и механизм органа, оснащён был трубами! Огромные гири на цепях сияли за стеклом – свинец в латунном цилиндрическом корпусе, – а самая большая гиря весом в 13 кг! Басовитый голос Беккера перекрывал все прочие голоса дома, и можно было представить, вернее, сочинить, вернее, если повезёт, приснить себе, как Маршал Густав ведёт своё часовое войско на завоевание Города.
Однако истинным богатством, истинными чудесами и благословением дома были два произведения минского часовщика Абрама Лейзеровского, гения и затейника.
С ним водил знакомство и совершал сделки ещё отец Абрахама Страйхмана, Ицхак Страйхман, тоже незаурядный часовой мастер и ювелир. Они познакомились в 1909 году на международной выставке часов в Санкт-Петербурге, где сложные механизмы Лейзеровского потрясли и участников, и организаторов, и посетителей выставки. Вернее, два мастера встретились в субботу в Большой хоральной синагоге на миньяне, разговорились после богослужения, и уж потом все дни выставки не разлучались – идиш для обоих был родным языком.
Деда Страйхмана захватила маниакальная идея приобрести хотя бы один чудесный механизм минского мастера. Они переписывались много лет, и Лейзеровский то давал слабину, то вновь запирался, не в силах расстаться со своим уникальным созданием. Но тяжело заболев и уже понимая, что время его на исходе, желая оставить семье средства к существованию, гениальный мастер вызвал Ицхака Страйхмана к себе. Тот примчался в Минск, и сделка – буквально на смертном одре Лейзеровского – сладилась! Дед приобрёл две главные драгоценности своей коллекции, в которые вложил все свои деньги, да ещё продал несколько дорогих экземпляров часов, и кроме того, до самой смерти выплачивал немалый долг Варшавскому обществу взаимного кредита и какие-то меньшие суммы друзьям-часовщикам, а уж завершил платежи его сын Абрахам, нисколько не тяготясь драгоценным долгом.
Так что ж это были за чудо-механизмы?
Одни часы представляли собой крепость высотой в полтора аршина. Циферблат помещался в башне, по верху которой безостановочно, в такт ходу, двигался часовой с винтовкой. Второй солдат каждые четверть часа выходил из будки, брал винтовку, делал выстрел, ставил винтовку рядом с собой. Под башней проведена была железная дорога. Каждый час из крепости выползал паровоз с тремя вагонами. Навстречу ему выскакивали три солдата: один звонил в колокол, другой водружал флаг, третий опускал шлагбаум. Часы были суточного завода, но заводил их отец (собственноручно!) только на Хануку.
Другие часы Лейзеровского заводились на Песах. Это был за́мок, и из одних чеканных ворот в другие тоже проходила железнодорожная колея. Каждый час дежурный на платформе давал звонок, раздавалась музыка – восемь тактов марша лейб-гвардии Драгунского полка. Из средних ворот выкатывалась публика, которую встречал жандарм. По своим, скрытым под платформой колеям плыли под руку пары: господа в цилиндрах, дамы в шляпках и платьях с турнюрами… Из правых ворот выезжал поезд с пассажирами. Ровно через пять минут сторож флажком давал сигнал об отправлении, поезд трогался, пыхтел, скрывался в левых воротах, а публика укатывалась обратно.