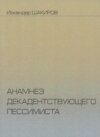Loe raamatut: «Анамнез декадентствующего пессимиста», lehekülg 29
В Нём каждый откроет себя, помыслит о своём, увидит отражение… Человек на определённой стадии своего развития приходит к убеждению, что Бог – это лишь зеркальное его отражение. Здесь, именно здесь подражает богу человек, открывая свое истинное лицо в бесконечном множестве ситуаций. Я всегда говорил, что Бог – мой идейный соратник. И это является безусловным доказательством того, что все сахабы получили мощные знания и фаиз ильми-халь, в то время как поколение табиин по сравнению с сахабами в этом вопросе были, как лампа против солнца. Муфтии выступают с заявлениями, в которых призывают мусульман не вступать в подобные организации, подчеркивая, что мусульмане по рождению уже состоят в «партии Аллаха». «Бог – это Лампа Ламп и Архистратиг». Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Это – великая прибыль.
Во многих аятах подчёркивается, что ни один человек не останется на земле вечно, что люди пришли в этот мир для испытания, что попытки избежать смерти не дадут результата. Кроме того, сообщается, что каждый будет возвращён к Аллаху, и призывается к размышлению о тех благах, которые Аллах даровал человеку. Эта формула исповедания ислама, заявляющая о том, как высоко величие Единого Бога и почетно рабство Ему…
Но возможно ли предположить, что божество игриво и многое позволяет? С чем бы сравнить… вам приходилось резать стекло ножницами в воде? – при некоторой практике, выходит довольно сносно; всё равно что измерять дамской шпилькой глубину дырок в розетке под током.
Но в Боге я нуждался не больше, чем Он во мне. Самое высокое в тебе пыталось подражать мне. "Глаз, коим я взираю на Бога, есть тот же самый глаз, коим он взирает на меня". Бог, царь небесный, имеет меньше влияния чем, например, центурион или полицейский.
Это – предсмертный хохот язвительного висельника. Как вы думаете, что испытывает повешенный в последний момент жизни? Достаточно известно – сексуальный оргазм. Является ли смертельное мгновение максимумом? Считается, что оно связано с высшей степенью боли или с высшим накалом зла: боль, например, становится смертельной, если она превышает некий поддающийся цифровому выражению максимум. В отличие от "молчаливой" смерти, боль бывает многословна. Может быть, страх боли отчасти связан со страхом оказаться вне коммуникациии, лицом к лицу с ничто. Здесь мне возразят, что это естественно: судороги – явление обычное, когда организм умирает. Оригинального здесь мало – никакая смерть не оригинальна, не оригинально и то, что иные принимали судороги агонии за родовые муки, смерть – за рождение новой жизни. Это тоже объяснимо: умирающему свойственно выдавать свое состояние за жизнь в превосходной степени, такую жизнь, какая и здоровому не приснится, вообще самое развитое чувство умирающего – это ревность к жизни.
Ибо те, кто верят в личного Бога, которому не безразлично хорошее и плохое, галлюцинируют, вне всяких сомнений, хоть Господь и благословляет их, он все равно безотчетно благословляет безотчетность. Иисус как-то чересчур исстрадался.
Этот старец настолько светел, что иной раз сама одежда белеет на глазах у собеседника. На лбу шишка набита, на плече свищ – от непрестанных молебствий. Крестит очко в уборной, когда – садится. Одним словом – погряз в христианстве. Променявши идею на мускул, изгубили свою жизнь во имя религиозных химер. Латентный гомосексуалист, лишивший себя радостей любви во имя превратно понятого общественного договора, млеет в чаду плотского вожделения.
И, конечно, человек не должен вмешиваться ни в чью жизнь – это часть свободы. Тогда каждый был бы непринужденным с самим собой. Никто не должен вмешиваться в жизнь никого другого. Но в прошлом каждый совал нос в дела другого. Идея Бога – это идея любопытного Тома, который не оставляет тебя в покое даже в ванной, который продолжает подглядывать в замочную скважину, наблюдая: что ты там делаешь? Это уродливо! Все религии мира говорят, что Бог постоянно наблюдает за тобой, – это уродливо, что это за Бог? Ему что, нечем заняться, кроме как подглядывать за каждым, преследовать каждого? Кажется, это предельный детектив!
По моему мнению, термин "бог" есть по преимуществу продукт человеческой жажды совершенства и завершенности. Идея божества вызвана нашим эмоциональным желанием устойчивости, постоянства. Она выражает наше ощущение вечности, наше стремление преодолеть хаос, опасность, непостоянство и несчастья. Бог является надеждой человека на идеальный мир, в котором нет юдоли страданий. Создавая образ всевышнего, мы ищем кого-то вне нашего мира, ведущего нас безопасным путем сквозь море несчастий, существо, которое, сотворив весь мир, спасет нас от небытия и смерти.
Эффективность религиозных технологий намного выше, чем вера в коммунизм и светлое будущее. Это связано с тем, что человеку предлагается снизить энергетические расходы мозга за счёт простого набора универсальных форм поведения. При этом никто не несёт даже теоретической ответственности за неудачи их применения.
Что есть вера? – Лишь нежелание умирать. Хорошо… Тогда зачем ты всего этого хочешь? Не лучше ли было просто жить в покое и мире? – Когда я живу в спокойствии и в мире, я вообще не знаю, есть ли я… Я путаюсь в благонамеренных штампах, а ведь я рожден человеком. И мне нужна кровь. Тогда каждую секунду я буду чувствовать то, что я существую, что я дышу, что во мне кипит кровь, что я сильнее вас. Я ненавижу спокойную жизнь, в ней есть ложь… Ведь если есть в принципе страдание, то я должен совершить это, чтобы увидеть, что это такое… Иначе, зачем я живу?
– Я напомню вам один из вечных вопросов. – Почему Господь допускает то, что происходит в мире, – преступления, убийства, войны? Почему? Потому что пути Господни неисповедимы и нашим слабым человеческим разумом мы не можем постигнуть Его божественной мудрости? Но если это так, то мы и остального понять не можем, и, впрочем, Господь, может быть, не требует от нас понимания, зная, что оно нам не по силам?
Один из наиболее деморализующих факторов, наблюдаемых нами, – привычка порицать себя. Некоторые люди занимаются этим постоянно. Видимо, они упиваются рассказами о том, каких низких результатов добиваются и сколь они сами ничтожны в сравнении с другими. Как это ни печально, по иронии судьбы ответственность за наше самоуничижение в значительной степени несет церковь. Мы часто слышим на молитвенных собраниях постоянные поношения самих себя. Люди называют себя несчастными грешниками, жалкими червяками, копошащимися в пыли, а вовсе не королями и королевами – мужчинами и женщинами, сотворенными Богом. Священники на кафедрах и люди на молитвенных собраниях сообщают Господу Богу о том, сколь мало они значат. Вместо того, чтобы смело отстаивать свое неотъемлемое право на благородство, на королевское достоинство, мужское и женское, они скулят, просят прощения и пресмыкаются. Человеческие существа были созданы с прямой осанкой, чтобы они могли встать, поднять глаза и без смущения посмотреть в лицо миру. Библия учит тому, что мы должны заявить о своем первородстве. Не следует разыгрывать перед Создателем Урию Хипа; это вызывает презрение и развращает. Привычка к самоуничижению подрывает уверенность в себе, уничтожает независимость и подавляет волю. Что подумал бы отец о ребенке, который подошел бы к нему с просьбой, выраженной в позорном духе самоуничижения? Некоторые люди, похоже, обладают даром держаться в тени. Они пробираются бочком, всегда стараясь находиться в задних рядах или меньше попадаться на глаза. «Ни одного человека, – утверждает Эмерсон, – нельзя обманом лишить успеха в жизни, если он сам себя не обманет». Оскорбительно низкая самооценка не должна быть вашей спутницей жизни. Высокая оценка жизни и самого себя – мощное средство формирования характера. Вам не удастся сбить себя с толку до тех пор, пока вы не перестанете верить в себя. Да и других обманывать вы скорее всего тоже не будете.
Отпрыск рода раввинов Карл Маркс в статье «К критике гегелевской философии права» писал следующее: «Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против этого действительного убожества. Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа».
Таким образом, самый умеренный аргумент против религии одновременно и самый радикальный, и самый обезоруживающий: религия – человеческое изобретение. Ее изобретатели не могут договориться даже о том, что же на самом деле сказали или сделали их спасители, пророки и гуру. И уж тем менее способны они объяснить нам «значение» позднейших открытий, которые поначалу тормозились или проклинались их религиями. Однако послушайте современных верующих: они по-прежнему знают! Да не просто знают, а знают все. Не просто знают, что бог существует, что он создал и держит под контролем все на свете, но знают, чего «он» хочет от нас, включая наш рацион, ритуалы и взгляды на секс.
Спор с религией – источник и основа всех споров, потому что в нем начало (но не конец) философии, науки, истории и познания человеческой природы. В нем же начало (но отнюдь не конец) всей полемики о добродетели и справедливости. Религия неискоренима именно потому, что наша эволюция продолжается. Религия не отомрет, пока мы не перестанем бояться смерти, темноты, неизвестности и друг друга. Поэтому я не стал бы запрещать ее, даже если бы мог. Какое великодушие, скажете вы. Но подумайте: будут ли правоверные столь же снисходительны ко мне? Религия, увы, не способна на такую любезность. Религия отравляет все, к чему прикасается.
Не скажу, что вера в такое вызывает у меня зависть (на мой взгляд, она слишком похожа на тоску по вечной диктатуре), но меня гложет искреннее любопытство. Почему эта вера не приносит счастья тем, кто ее исповедует? Разве они не считают себя обладателями чудесного секрета, за который, как за спасительную соломинку, можно уцепиться даже в самую трудную минуту?
Природа религии вынуждает ее вмешиваться в жизни неверующих, еретиков и последователей других вероучений. Она может разглагольствовать о блаженстве в мире ином, но хочет власти в мире этом.
Возможно, у каждого из нас есть тайное влечение к смерти или нечто похожее. На рубеже 1999 и 2000 годов немало образованных людей говорили и публиковали несусветную чушь о грядущих потрясениях и драмах. Разговоры эти были ничуть не лучше примитивной нумерологии.
Религия не только хочет монополии на воспитание детей в начале жизни, но и считает себя вправе распоряжаться ее финалом. Культ смерти и упорный поиск предвестий конца, вне всякого сомнения, суть плоды затаенного желания увидеть этот конец и избавиться от тревог и сомнений, что всегда подтачивают веру.
Даже сравнительно надежная симметрия Солнечной системы, при всей очевидной нестабильности и энтропии, беспокоила Исаака Ньютона и побудила его предположить, что бог время от времени поправляет орбиты планет. Этим Ньютон навлек на себя насмешки Лейбница, спросившего, почему бог не смог все как следует настроить с самого начала. Именно благодаря страшной пустоте остального космоса нас так впечатляют уникальные, прекрасные условия, сделавшие возможной разумную жизнь на нашей планете. Учитывая наше тщеславие, как они могут нас не впечатлять? Тщеславие позволяет нам закрывать глаза на то неумолимое обстоятельство, что на всех остальных небесных телах даже в пределах нашей системы либо слишком холодно, либо слишком горячо для любых известных форм жизни. Более того, это относится и к нашей голубой планете. Жара и холод превращают обширные участки Земли в бесплодные пустыни, и опыт научил нас, что мы живем на острие климатического ножа. Что до солнца, то оно рано или поздно раздуется и проглотит свои подопечные планеты, словно ревнивый вождь или племенной божок.
Как всегда, стоит отбросить лишние допущения, и гадание о том, кто создал нас созидателями, становится столь же бесплодным и бессмысленным, как и вопрос о создателе нашего создателя. Аристотель, чьи размышления о перводвигателе и первопричине послужили началом этого спора, умозаключил, что логика требует существования сорока семи или сорока пяти богов.
Мы должны смириться с тем, что эволюция не только умнее нас, но также бесконечно более равнодушна, жестока и капризна. Исследования ископаемых животных и данные молекулярной биологии говорят о том, что около 98% всех видов, когда-либо живших на Земле, прекратили существование. В истории за периодами расцвета жизни всегда следовало великое «вымирание». Чтобы уцелеть на остывающей планете, жизнь сначала должна была появиться в фантастическом изобилии. Мы наблюдаем то же самое в миниатюре и в наших маленьких человеческих жизнях: мужчины производят неизмеримо больше семенной жидкости, чем необходимо для создания семьи, и мучаются – не без некоторого удовольствия – острой потребностью куда-нибудь ее пристроить или хоть как-то от нее избавиться. (Религия бесцельно усугубила муки, объявив грехом различные несложные способы облегчения этого зуда, который, надо думать, у нас от «творца».) Буйное, бьющее через край обилие насекомых, воробьев, лосося или трески есть титаническая растрата жизни, обеспечивающая, да и то не всегда, выживание достаточного количества особей.
Мы все понимаем, что человек может простить зло, причиненное лично ему. Вы наступаете мне на ногу, и я вас прощаю; вы крадете мои деньги, и я вас прощаю. Но как понимать человека, которого никто не грабил и чьих ног никто не топтал, но заявляющего при этом, что он простил вам топтание чужих ног и кражу чужих денег? Чушь собачья – вот самое мягкое определение для таких заявлений. Но именно это сказал Иисус. Он говорил людям, что их грехи прощены, не советуясь с теми, кто пострадал от их прегрешений. Он без тени сомнения вел себя так, словно все их проступки были прежде всего проступками против Него.
Венгерский исследователь Игнац Гольдциер, чьи слова приводятся в недавней работе Резы Аслана, одним из первых показал, что многие хадисы суть не что иное, как «стихи из Торы и Евангелий, обрывки изречений раввинов, древние персидские афоризмы, отрывки из греческих философов, индийские пословицы и даже „Отче наш“, воспроизведенный почти слово в слово». В хадисах можно отыскать огромные куски более-менее прямых цитат из Библии, включая притчу о нанятых в последний момент работниках и слова «пусть левая рука твоя не знает, что делает правая».
(Мухаммед истово верил не только в существование дьявола, но и в «джиннов» – мелких демонов пустыни.) Даже некоторые жены Пророка замечали его способность получать подходящие «откровения» по мере насущной необходимости и, бывало, подтрунивали над ним по этому поводу.
Одно-два поражения – и мы никогда не стали бы заложниками деревенских склок, бушевавших в Иудее и Аравии еще до появления первых серьезных летописей. Мы могли стать адептами совсем другой веры – но и тогда нам говорили бы, что истинность нашей веры не так уж важна, коль скоро она помогает учить детей отличать добро от зла. Иными словами, вера в бога – один из знаков готовности верить во все подряд. Неверие в бога, напротив, вовсе не означает неверия ни во что.
Никогда не было так уж трудно понять, что религия плодит ненависть и конфликты, и что опирается она на невежество и суеверия. Это не отменяет древний вопрос Эпикура: Если он желает предотвратить зло, но не может, он бессилен. Если может, но не желает, он злонамерен. Если и может, и желает – откуда берется зло?
Человеку свойственны гордость, ревность, мстительность. Если этими качествами обладает человек, то почему ими не может быть наделено божество? Объясняет ли этот аргумент существование зла в мире? Почему мы не можем заключить, что Бог является злобным существом, лишь которому можно безнаказанно поклониться, не опротивев при этом самому себе? Как заботливая мать: она может и упустить что-то, но всегда будет чувствовать, что что-то не так. Значит, зря я просил прощения.
Нигилист должен, наконец, задаться вопросом: «Не есть ли ложь нечто божественное… не покоится ли ценность всех вещей на том, что они являются ложными? не является ли отчаяние следствием веры в божественность истины… не являются ли именно смыслополагание, ценность, смысл, цель ложью и фальсификаторством (подделкой), не должны ли мы верить в бога не потому, что он истинен, но потому что он ложен?».
Я не понимаю христиан. Они трясут дерево жизни, не дав ему покрыться плодами, и по ветру рассеивают его благоуханный цвет. Идет эта баба к обедне пред целой семьей впереди. Сидит, как на стуле, трехлетний ребенок у ней на груди.
О Господи, до чего же мне омерзительны гнусные дела рук твоих и эти тошнотворные уроды, которые кадят тебе и которые действительно созданы по твоему образу и подобию! (Когда священник рассказывает о том, что человек создан по образу и подобию Божьему, поднимается горбун и спрашивает: «А как же я?» Находчивый священник отвечает: «Как горбун вы абсолютное совершенство»).
Ненавидя тебя, я бежал от твоего конфетного царства и от россказней твоих марионеток. (А вот марионетка не чувствует собственной пустоты, отказывается от нее, позволяет ей сгинуть…)
Ты – гаситель наших порывов и усмиритель наших мятежей, пожарник нашего пламени, агент нашего слабоумия. Еще до того, как я заключил тебя в формулу, я попирал твою алхимию, презирал твои проделки и все уловки, которые составляют твой наряд Необъяснимого. Как щедро оделил ты меня желчью, которую твое милосердие позволило тебе сэкономить на своих рабах. Поскольку нет лучшего отдыха, чем под сенью твоей никчемности, для спасения какой-нибудь твари достаточно положиться на тебя или на твои подделки. И я не знаю, кто заслуживает большего сочувствия: твои приспешники или я; мы все восходим по прямой линии к твоей некомпетентности, к тому, как ты творил, мастерил, изготовлял свои самоделки с кашей и сумятицей в голове. Deus otiosus – буквально бог в отпуске, безработный, бездельник, излишний и ненужный. Но, как ни крути, приходится признать, что он, в общем-то, двоечник.
Из всего, что было извлечено из небытия, существует ли что-нибудь более ничтожное, чем этот мир или идея, предшествовавшая его рождению? Повсюду, где что-нибудь дышит, одним увечьем становится больше: нет такого сердцебиения, которое не подтверждало бы ущербности живого существа. Плоть меня ужасает: эти мужчины, эти женщины – требуха, хрюкающая от спазмов. Не хочется признавать своего родства с этой планетой, ведь каждый миг – это бюллетень, брошенный в урну моего отчаяния. Решительно, я все меньше и меньше ненавижу своих прежних хозяев.
Исчезнет ли твое творение или будет существовать долго – не имеет значения! Твои подчиненные все равно не сумеют достойно завершить то, что ты начал строить, не имея таланта. Однако они, конечно, сбросят пелену ослепления, которую ты накинул им на глаза. Но хватит ли у них сил отомстить за себя, а у тебя – защититься? Этот биологический вид насквозь прогнил, но ты прогнил еще больше. Оборачиваясь к твоему Врагу, я жду дня, когда он украдет твое солнце и повесит его в другой вселенной.
Богини покинули меня, да и демоны тоже. Ты же знаешь, я не верю в бога, и у меня нет никого, кроме тебя. Поверишь в Бога – станешь художником. Не поверишь в Бога – станешь художником. Вечное тебе спасение будет. Смысл, смысл жизни, где он? – Темнота, тайна, нельзя. Бога я не прийму, пока не одурею, да и скучно – вертеться, чтобы снова вернуться на то же место. После воскресения человеческие тела примут шарообразную форму.
Если кто-нибудь серьезно и верит в солипсизм, то держит это при себе. Мысли о Боге неиссякаемы и велики, как море. Господи, дай о Себе знать. Подтверди, что Ты меня слышишь. Не чуда прошу – хоть какой-нибудь едва заметный сигнал. Ну, пусть, например, из куста вылетит жук. Вот сейчас вылетит. Жук – ведь вполне естественно. Никто не заподозрит. А мне достаточно, я уже догадаюсь, что Ты меня слышишь и даешь об этом понять. Скажи только: да или нет? Прав я или не прав? И если прав, пусть паровоз из-за леса прогудит четыре раза. Это так нетрудно – прогудеть четыре раза. И я уже буду знать. И если это случится, всей душой, всем своим пробитым навылет сердцем я уверую, что Господь меня простит – как я прощаю Его. Ин гад ви траст! Ням-ням, хрум-хрум, Боженька мой добренький, тук-тук, пук-пук.
Амр бин Ас был одним из выдающихся политиков своего времени. Находясь при смерти, он в смятении что-то вынул и сказал: «Положите мне это под язык». На вопрос: "А что это?" – ответил: «Это благословенная ворсинка из бороды Пророка». Он верил в то, что с ней ему будет легче отчитаться за свои поступки.
Потомок царя Соломона и царицы Савской африканский правитель Менелик II свято верил в силу Библии, и когда чувствовал себя плохо, отрезал страницы Святого Писания и съедал их (говорят, что за свою жизнь император съел Книгу Царей).
Калмыки в степях заставляют ветер вертеть мельнички, нутро которых начинено бумажками с молитвами. Чем больше раз обернётся мельничка, тем ближе калмык к богу. Самая независимая страна – это Монголия – ни хрена от нее не зависит. Многотерпеливе и многомилостиве, иже праведные любяй и грешные милуяй!
– А ведь каких-нибудь восемь веков назад…
– Послушайте, при чем здесь Монголия. Мы входим в цивилизованную семью христианских стран. Речь идет об обновлении православия, о путях экуменистических, при чем же здесь невесть во что верующая темная Монголия? Да и кумыс русскому человеку вовсе не привычен.
Не знаю, верю ли я в Бога. Я страстно молилась Ему, когда меня везли сюда, когда я думала, что скоро умру (слышу, как Ч.В. говорит: вот вам и доказательство, что не верите). Когда молишься, становится легче. Получаются какие-то кусочки, обрывки. Не могу сосредоточиться. Я так долго думала о многом, что теперь не могу остановиться на чем-нибудь одном. Но от этого становится спокойнее на душе. Если даже это только иллюзия. Как это бывает, когда подсчитываешь, сколько денег истратила, и сколько осталось. Он не верит в Бога. Поэтому мне так хочется верить.
Глава 44. Игра исчезновения
Смерть – это то, что бывает с другими, наследственный враг. Враги молчаливы. То, чем нельзя обменяться. Смерть уносит нас потихоньку, по одному. От страха и благоговения перед нею, лица людей разумных бледнеют и увядают. Смерть стоит, ожидая на пути, а человек же все гуляет да веселится. Смерть находится от нас на расстоянии между глазом и бровью. Это даже ближе, чем потратить время на напоминание о ней. Однако где разум недальновидного человека? Уж и не знаю.
Поскрипим ещё. Между прочим, все помрём и ты умрёшь… обыкновенной смертью, как умирают старушки – тихонечко, беззлобно. Тихая, сосредоточенная готовность: кончины наши безболезненны, непостыдны, мирны. «Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво – потому что не лжёт, не ломается, не боится, не жалеет». Смерть хороша тем, что ставит всех нас на свое место.
И этак до гробовой доски. От смерти позорной не спасёт таблетка. В конце концов, вас заколотят в гроб и бросят в яму. И все в мире вздохнут и рассмеются счастливо. Останутся только ботинки. Имя. «Жил. Страдал. Любил.». Без дат рождения и смерти. Род приходит, и род уходит, а земля пребывает вовеки. За веком век, за веком век, ложится в землю любой человек, несчастлив и счастлив, зол и влюблён, лежит под землёй не один миллион.
Поэтому идея осуществить реестр живых существ, первая реальная кодификация и опись населения встречается как раз в Ветхом Завете, где подробным образом перечисляется, кто кого родил, кто где летал, кто куда пошел. Именно там возникает история, предполагающая уникальность отдельных конкретных событий и личностей, которые действовали и никогда больше не будут действовать, никогда ни во что не превратятся, и само существование которых наполнено исключительным смыслом, именно потому, что они были, а теперь их нет.
Я не считаю себя пессимистом, но должен сказать со всей ответственностью, что если вдуматься повнимательней в существо жизни, то станет ясно, что все кончается смертью. В этом нет ничего особенного, и было бы даже недемократично, если б кто-нибудь из нас вдруг уцелел и сохранился. Конечно, всякому жить хочется, но как подумаешь, что Леонардо да Винчи тоже вот умер, так просто руки опускаются.
И все было бы ничего, когда бы в этом вопросе соблюдались полное равенство, братство и железная закономерность. Если бы мы, например, уходили с лица земли в организованном порядке, большими коллективами, серийно, по возрастным, например, или по национальным признакам. Отжила одна нация положенный срок и кончено, давай следующую. Тогда бы все, конечно, было проще, и неизбежность этой разлуки не имела бы такой волнующей и нервирующей остроты. Но в том-то и состоит главная сложность и вместе с тем пикантная прелесть существования, что ты никогда не знаешь в точности, когда ты перестанешь существовать, и у тебя всегда остается в запасе возможность превзойти соседа и пережить его хотя бы на лишний месяц. Все это сообщает нашей жизни большой интерес, риск, страх, ажиотаж и большое разнообразие.
Смерть, она нам – как мать малым детям. Умирающий участвует в игре исчезновения. Лишь в дальнейшем смерть становится одинокой и "одичавшей". Обычного человека смерть предуготавливает постепенно. Сначала он видит бабушку в постели, вот она уже не встаёт, она исчезает. Потом жизнь предъявляет ему утонувшего одноклассника, затем – родители. И, наконец, на него накатывает старческая тоска. Страх смерти состоит из двух частей – страха чужой и страха своей. Сначала эгоистичный страх смерти близких, затем – боязнь своего исчезновения.
Удивительно, насколько меньше написано книг о смерти – куда меньше, чем о жизни. Смерть куда интереснее любви – хотя бы потому, что смерть у всех, а с любовью у многих возникают вопросы. Смерть – это вообще синоним слова «смысл». Жизнь конечна, и вот положил кто-то большую часть её на обустройство своей норы, на строительство дома, в котором от немощей и болезней он не проведёт ни дня. Человек копил, отказывался от всех радостей – и дом твой некому передать. Сын забыл его, дерево стучит в окно сухими ветвями.
Страх заболеть уже сильнее самой болезни. Страх разориться убивает радость от денег – безумно страшно лишиться здоровья и денег, просто потому, что кроме здоровья и денег ничего больше нет – и приходится экономить, экономить, экономить… «Человек, который боится заболеть – уже болен: страхом». Наверное, это неприятно читать, понятно – мы же все, типа, выживаем из последних сил, а «деньги – у других, сволочей». Но дело в том, что культура существует только на деньги богатых людей. Правда, не все богатые одинаково полезны.
Задача решена не им, весь подготовительный период насмарку – хорошо ещё, если лаборант будет читать журнал наблюдений. Деление это, впрочем, условно – знавал я обывателей, у которых было тайное дело не хуже чем у капитана Ахава и скучных профессоров, которые умирали посреди дачных сосен, а кроме дачи, почитай, у них в жизни особых достижений не было. Внимательное и спокойное всматривание в смерть для определения смысла жизни – признак взрослого человека. Есть в смерти и опасность некоторой суеты – например, испугавшись, человек начинает суетиться в ожидании смертного часа. И делает что-то, как он думает, возвышенно-поэтическое – опять же сажает дерево, чтобы под ним сидели внуки, а в семье меж тем неладно, и дети в такой особенности, что внуков, может, и не будет. Начинает что-то делать нелепо и бестолково. А ведь всё можно симулировать – любовь, счастье, а смерть это такая штука, что с ней не забалуешь. В итоге обывателя гораздо больше волнует уровень комфорта своей смерти, чем его посмертная участь.
Специалисты в области человековедения считают, что большинство людей, заканчивающих жизнь сознательным самоубийством, в детстве неоднократно слышали от родителей слово "исчезни".
«По второму разу всё скучно, – зевая, оттянул он кожу с белков, – оттого и умирают один раз…».
«И все-таки смерть – дело привычки», – настаивал кто-то в голове на своём.
"Ничтожество мира", ненависть к жизни тусклой, умеренной рождают интерес к "тайнам вечности и гроба", к познанию "инобытия", смерти. На свете что непостояннее, чем жизнь? Но смерть – единственное, что определённо в жизни.
Безответный усопший представляет собой чистый концепт. Бывает так же доступен, как коллекция засушенных насекомых или экспозиция мумий. Подготовленный сюрприз, сказали бы мы, и давняя новизна…
Глава 45. Опоздание
Было сказано: в пустыне нет красоты, красота – в сердце бедуина. В пустыне простор для смерти. В пустынном доме тела твоего… Ма шер, отдай мне мои вязаные сны, или хотя бы будь в них: будем же честны, пока я здесь, на кухне – в немоте протяжных вдохов, а, меж тем, смотри, дано мне те… возьми его… и сделай что-нибудь… Ты будешь и красивей, и умней. А я… я просто буду рядом, на том конце где путь неочевиден, я буду родинкой и плюшевым медведем, а кто-то будет сыном и отцом.
Я опоздал, меня нет в этой стране в этом городе, я опоздал, меня нет в этих книгах и в этих библиотеках, я опоздал с приходом, я задержался где-то, меня нет в суете улиц, в толкотне магазинов, меня нет в ваших вопросах обо мне ничего не известно этим деревьям и этому небу, этот шашлычный дымок не вдохнут мои ноздри, я не успел появиться в твоем доме, в твоих глазах, в шерсти твоей собаки, в руках твоей дочки, и не возник на пороге, гроза прошла без меня я не услышал грома, я опоздал, я не сделался кем-то, не изменил событий, страшный сон, все прошло без меня, ты выходила во двор и не знала что я где-то рядом, ты сушила белье, гуляла с собакой, целовала дочурку и уходила домой, я не плакал в твоих объятьях, мир шёл по своей дороге над самым краем пропасти, я опоздал, меня здесь нет… Сегодня просто не мой день. И не моя неделя. И не моя жизнь.
Этих острых и ломких краев завещанье. Не содержит угроз или замысловатых созвучий. Только факты, стесняющие, как увечья. Тоже женщина. Тоже мужчина.
Я навестила наш бывший дом. Своей ущербностью он был человечнее нас. Оторванные друг от друга стулья застыли в своем заблуждении. Воспоминания слонялись меж ними, перебивая друг друга и нарушая хронологический строй. Старый стол, который при всех переездах был изумлён и встревожен, смотрел из угла на новые полки, как брошенная в затоне баржа.
Тоска предусмотрена природой, говорила она, но природой предусмотрено и забвение. Тот, кто тревожит призрак ушедшего, не дает покоя ни себе, ни тому, кто упокоился. Ошибочно делать мнение покойного критерием поведения живых. Нельзя требовать от мира, чтобы он хранил верность одному мигу, который представляется истинным. Зачем оборачиваться вспять. Будут и другие минуты, нисколько не хуже.