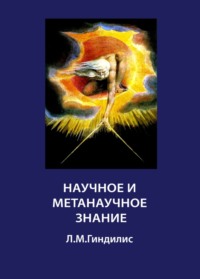Loe raamatut: «Научное и метанаучное знание», lehekülg 4
Изучение тонких миров, по существу, уже началось (хотя и ведется пока часто вслепую, без должного теоретического обоснования). Об этом свидетельствуют исследования психических явлений, исследования и области экстрасенсорики и некоторые сугубо физические исследования. Особый интерес представляют новейшие разработки в теории физического вакуума.
Физический вакуум представляет собой низшее энергетическое состояние квантовых полей. В этом состоянии энергия минимальна, а все квантовые числа – электрический заряд, масса, импульс, угловой момент импульса и др. – равны нулю. В вакууме полностью отсутствуют реальные частицы. Иногда его так и определяют – как состояние, в котором отсутствуют какие-либо реальные частицы. Очень грубо его можно представить как то, что останется в пространстве, если убрать из последнего все частицы и все кванты любых физических полей. Тем не менее это не пустота, ибо в вакууме постоянно происходит рождение и аннигиляция так называемых виртуальных частиц. Вакуум – это особое состояние материи, обладающее определенной плотностью энергии, давлением и определенными физическими свойствами.
В статье «Живая Этика и наука» («Дельфис», 1994, № 1, с. 51–56)22 нами было высказано предположение, что физический вакуум представляет собой ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ материи, отделяющее трехмерный физический мир (физический план Бытия) от миров тонких энергий (других планов Бытия). По-видимому, он соприкасается с ближайшим к физическому «полуфизическим» эфирным планом23.
Хотя вакуум представляет собой низшее энергетическое состояние всех существующих в данную эпоху физических полей, сам он может находиться в различных энергетических состояниях, в том числе в «возбужденных» состояниях, когда плотность энергии его очень высока. Так в раннюю эпоху возникновения Вселенной, вблизи так называемого планковского времени плотность вакуума составляла 1074–1094 г/см3. Так что эта «пустота» была необычайно плотной! В современную эпоху существования Вселенной плотность вакуума много меньше. Однако это его состояние, по-видимому, не является энергетически самым низким. Согласно некоторым физическим теориям, в современную эпоху вакуум находится в возбужденном метастабильном состоянии. Переход его в самое низшее – основное энергетическое состояние – сопровождается гигантским выделением энергии, несопоставимым ни с какими другими мыслимыми физическими процессами (отсюда даже возникла безумная идея создания вакуумной бомбы!). Если эти представления справедливы, значит освоение тонких энергий (лежащих «за пределами» физического вакуума) может дать человечеству новые мощные энергетические источники, с которыми надо обращаться крайне осторожно и бережно. В теории вакуума физики подошли к границе известной нам Реальности. Поэтому здесь можно ожидать прорыва в новую неизведанную область.
Торсионные поля – реальность Тонкого Мира?
Одна из теорий физического вакуума, развиваемая Г. И. Шиповым и А. Е. Акимовым [5], приводит к появлению так называемых торсионных полей или полей кручения (torsion означает кручение или скручивание), которые характеризуют возбужденное состояние вакуума. Как известно, всякое поле порождается каким-то источником. Так источником электрического поля служат электрические заряды, источником гравитационного поля – массы. Можно сказать, что масса играет роль гравитационного заряда. А что является зарядом торсионного поля? Оказывается, элементарный «вихрь», или точнее – спин, характеризующий момент вращения элементарной частицы вокруг собственной оси. Если электрическое поле обеспечивает взаимодействие между электрическими зарядами, гравитационное поле обеспечивает взаимодействие между массами, то торсионное поле обеспечивает взаимодействие между спинирующими частицами.
Торсионные поля обладают некоторыми удивительными свойствами. Они свободно проникают через все известные нам виды материи без всякого ослабления. Не ослабевают они и с расстоянием пропорционально 1/R2, как это имеет место для электрического и гравитационного полей. Интенсивность торсионного поля вообще (до определенного предела) не зависит от расстояния. Скорость его распространения на много порядков превышает скорость света. Нижняя граница скорости составляет 109 с (с – скорость света), а ее истинная величина, видимо, равна 1019–1020 с! Это не противоречит теории относительности, так как торсионные поля, по существу, относящиеся к тонким планам, выходят за границы ее применимости. Таким образом, с помощью торсионных полей возможна передача информации на межзвездные расстояния практически мгновенно. В отличие от электрических полей, для которых одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются, в торсионных полях имеет место обратная зависимость: одноименные заряды притягиваются, а разноименные отталкиваются. Это проливает новый свет на известное герметическое положение: «подобное притягивает подобное»24.
Торсионное излучение тесно связано с живыми организмами, которые, как представляется, являются мощными источниками торсионного поля. Высказывается предположение, что «биополе» человека также имеет торсионную природу [6]. Таким образом, можно полагать, что торсионные поля действительно относятся к миру тонких энергий. Все это накладывает на исследователей особую ответственность. Здесь необходимо соблюдение высоких нравственных принципов. Наука, имеющая дело с тонкими энергиями, не может больше игнорировать проблему нравственности.
Возможно, торсионные поля имеют отношение и к функциям сознания. Согласно гипотезе А. Е. Акимова, сознательная деятельность человеческого мозга сопровождается локальной перестройкой структуры пространства-времени и возникновением элементарных торсионных полей (фритонов), которые можно рассматривать как материальные носители сознания [7]. Следует отметить, что еще в 70х годах Н. И. Кобозев выдвинул идею о том, что нейронная сеть головного мозга заполнена «газом» сверхлегких частиц-психонов, которые поглощаются атомно-молекулярными структурами мозга. Свойства этих частиц25 таковы, что именно они первыми получают информацию из пространства и передают ее в нейронную сеть [8]. Причем при некоторых условиях перенос информации может осуществляться непосредственно в мозг, минуя органы чувств. Близкие идеи развивает В. Ю. Татур [9]. Торсионные поля позволяют подвести под эти идеи прочный физический базис. Если все действительно обстоит таким образом, то мы являемся свидетелями продвижения физики в область сознания. Можно полагать, что это начало выполнения программы, сформулированной Тейяром де Шарденом (см. выше).
Вместе с тем следует заметить, что идеи о фритонах и вообще о связи торсионных полей с высшими функциями сознания носят пока все же гипотетический характер. Иногда роль торсионных полей чрезвычайно преувеличивается, а физический вакуум отождествляется с самыми высшими слоями Бытия, даже с Абсолютом, Богом… На наш взгляд, это совершенно неправомерно. Возбужденные состояния физического вакуума, как уже говорилось, могут описывать состояние материи в ближайших к физическому слоях Тонкого Мира, но вряд ли эти состояния можно соотнести с высшими планами Бытия.
На рис. 3 приведена схема планов Бытия по М. Генделю [10]. Согласно этой схеме, Солнечная система эволюционирует на 7-м Космическом плане. Обычно описываемые в «эзотерической» литературе «планы» Бытия – от физического до Атмы и от Атмы до самых высочайших планов Паранирваны и Махапаранирваны – по существу, представляют собой субпланы Солнечного плана. Можно полагать, что переход к каждому последующему субплану связан с принципиальным изменением состояния материи, не менее радикальным, чем при переходе от физического субплана к астральному (камическому). Проникновение в каждый новый субплан, по-видимому, будет связано с познанием совершенно новых закономерностей. Парадигма, справедливая для низших субпланов, не годится для описания высших (как физическая парадигма не годится для описания Тонкого Мира). Тем более это относится к переходу между Планами. Так что до Первичной Космической Субстанции, или Единого Проявленного, нам еще чрезвычайно далеко. Не говоря уже о «Едином Неведомом» – Абсолюте, о котором мы не можем сказать ничего, кроме того, что это «ТО», что лежит за пределом, которого может достичь человеческое сознание (по крайней мере, на современном этапе эволюции).

Рис. 3. Схема планов Бытия по М. Генделю [10, с. 127, диаграмма 6]. Добавлена область Непроявленного (вверху рисунка) и название субпланов Солнечного плана, согласно восточной традиции, которые даны справа более мелким шрифтом
Семантическая Вселенная
Интересные идеи об устройстве Мироздания развивает в последние годы Л. В. Лесков [11], [12]. Опираясь на работы известного московского математика В. В. Налимова о существовании семантического поля как определенного слоя реальности, на работы Н. И. Кобозева, теорию торсионных полей и другие новейшие достижения в теории физического вакуума, Лесков выдвигает бинарную модель Мироздания. В основе ее лежит представление о том, что Вселенная (Универсум) содержит два слоя реальности: мир материальных объектов и информационное, или семантическое, поле26. Физическим референтом (носителем) семантического поля, согласно Лескову, является определенная разновидность вакуума, точнее вакуумноподобное состояние, которое он назвал «мэоном» (что по-гречески означает «вакуум»). Мэон может взаимодействовать с элементарными частицами вещества, участвуя, таким образом, в актах энергоинформационного обмена. Сознание, носителем которого является мозг, выполняет функции оператора информации, или биокомпьютера, обеспечивая взаимосвязь с семантическим потенциалом мэона. Эту модель Лесков назвал мэон-биокомпьютерной концепцией или сокращенно МБК-концепцией. Согласно МБК-концепции, Вселенная представляет собой своеобразный лист Мебиуса, одна сторона которого соответствует евклидову пространству материального мира, а другая – семантическому пространству мэона.
В материалистической философии (и в науке) под понятием Вселенной обычно имеют в виду физическую Вселенную, или мир материальных объектов (соответствующий физическому плану Бытия), который противопоставляется духовному миру, или сознанию, отражающему «объективно существующий» материальный мир. МБК-концепция снимает это противопоставление материи и сознания. Она исходит из представления о единой системе мира, органически объединяющей оба начала (материальное и духовное). Для обозначения этого Единства Лесков предлагает, вместо термина «Вселенная», вернуться к термину «Универсум».
Исходные импульсы самодвижения Универсума задаются семантическим полем. Один из таких импульсов проявился около 15 миллиардов лет тому назад в форме «Большого Взрыва», приведшего к возникновению физической Вселенной.
Мэон как первооснову физической Вселенной можно, согласно Лескову, уподобить хаосу27, «деструктурированному началу мира, лишенному выраженной топологии и времени, но способному выступать в роли конструктивного фактора эволюции» [12, с. 18].
Сознание обеспечивает взаимосвязь между различными слоями реальности Универсума – семантическим полем мэона и миром материальных объектов. При этом оно выполняет роль оператора смыслов. Элементами сознания в его простейших формах наделены практически все объекты материального мира (точнее можно было бы сказать – все объекты Универсума).
«Признание сознания универсальным свойством реального мира и всеобщий характер принципа эволюции, – отмечает Лесков, – могут послужить основой для телеологической интерпретации процессов саморазвития Универсума. Отсюда остается один шаг к концепции Сверхсознания или к возрождению панпсихизма в форме признания самой Вселенной разумной» [12, с. 20]. Лесков не решается сделать этот шаг, но он отмечает, что МБК-концепция дает веские основания для гипотезы о достаточно широкой распространенности космических цивилизаций во Вселенной (Космических Иерархий – по терминологии «Живой Этики»). Рассматривая эволюцию космических цивилизаций, Лесков приходит к выводу, что «ноосфера, вышедшая на соответствующий уровень эволюции, может в той или иной форме выступить в роли Конструктора новых очагов разумной жизни» [12, с. 21]. При этом – подчеркивает Лесков – у нас нет никаких научных оснований отождествлять этого Конструктора с Богом. Но думается – добавим мы – имеются все основания отождествить такого Конструктора с Иерархией Строителей Космоса «Живой Этики».
Очень важным представляется замечание Лескова о необходимости и неизбежности научного обоснования этического императива (принципы нооэтики). Эту мысль подчеркивал еще К. Э. Циолковский. «Надо истинную мораль, – писал он, – извлечь из естественных начал Вселенной, из ее общих законов и сделать ее таким образом убедительной и приемлемой всеми людьми» [13]. Эта мысль постоянно подчеркивается и в «Живой Этике». Семантическая философия Универсума, по мнению Лескова, может быть использована в качестве одной из теоретических предпосылок для решения этой задачи.
МБК-концепция позволяет глубже понять взаимосвязи и взаимоотношения между наукой, мистикой и религией. Лесков указывает на интересные параллели с идеями Б. Рассела, Д. Бома, М. Хайдеггера, Н. А. Бердяева, с положениями восточной философии. «Идейная перекличка прозрений великих мудрецов, – пишет он, – тысячелетия назад создавших эти учения, с современными научными представлениями невольно заставляет думать о редкой силе интуиции, благодаря которой им удалось верно угадать многие скрытые тайны Универсума» [12, с. 24]. Поскольку в рамках МБК-концепции Универсума отсутствует антитеза материя-сознание, это открывает хорошие возможности для диалога науки и религии. При этом – отмечает Лесков – такой диалог вовсе не требует от его участников отказа от их собственных основополагающих принципов. Как самостоятельные направления духовной деятельности людей науку и религию сближает утверждение общечеловеческих ценностей и норм нравственного поведения. «Единственное направление „теории“, плодотворный контакт с которым невозможен, – это научный обскурантизм, закрывающий дорогу для свободного творческого поиска» [12, с. 25].
Является ли физический план самым плотным?
Вернемся вновь к схеме Генделя. Самый низкий на этой схеме – физический план Бытия, он же является и самым плотным.
Поэтому его иногда называют плотным планом. Плотность материи физического плана меняется в очень широких пределах от 10–29 г/см3 для межгалактической среды до 1014 г/см3 для нейтронных звезд. Возникает вопрос – существуют ли в Мироздании более низкие и более плотные, чем физический – суб-физические планы Бытия? В герметических источниках, насколько нам известно, указания на это отсутствуют. Вместе с тем, исходя из мировоззренческого принципа Коперника-Бруно, согласно которому место человека в Мироздании никаким образом не должно выделяться, не должно быть исключительным, – можно ожидать, что план человеческой эволюции не является самым низким. Существуют как более высокие (тонкие), так и более низкие (сверхплотные) планы. Если это так, то переход от физического плана к более низкому должен сопровождаться столь же радикальным изменением состояния и свойств материи, как и при переходе от физического плана к тонкому. И конечно, там должны действовать какие-то другие закономерности – «другая физика».
Можно ли найти какие-то намеки в современной физике на возможность существования подобной реальности? Кажется, на этот вопрос можно ответить положительно. К такой новой реальности, по-видимому, относятся «черные дыры». Общая теория относительности предсказывает образование подобных объектов при неограниченном сжатии (коллапсе) гравитирующих масс. Теоретически сжатие идет вплоть до математической точки, а плотность при этом возрастает до бесконечности. Но практически это означает, что вблизи сингулярности теория просто перестает работать. Это происходит после того, как тело сожмется до планковского размера 10–33 см или плотность достигнет критического значения 1094 г/см3. Как подчеркивает Ф. А. Цицин в своей очень интересной и глубокой статье [14], подобный объект, строго говоря, не является релятивистской черной дырой – это уже объект пострелятивистский и постквантовый, относящийся к иному, более глубокому уровню физической реальности. Есть все основания ожидать, – полагает Цицин, что современная астрофизика, отправившись на поиски черных дыр, «может наткнуться на новый неизвестный материк – объекты, процессы и явления принципиально новой природы, не охватываемые нашей фундаментальной физикой, принадлежащие более глубокому уровню физической реальности…» [14, с. 82]. Не относится ли эта реальность к ближайшему суб-физическому плану?
* * *
Построение полной картины физического знания, относящегося к физическому (или плотному) плану Бытия – что, по-видимому, уже близко к завершению – создает новый мощный исток, новые возможности, «стартовую площадку» для проникновения в миры иных измерений, в более тонкие (а может быть, и более плотные) планы Бытия.
Литература
1. Зельманов А. Л. О бесконечности материального мира // Диалектика в науках о неживой природе. М.: «Мысль», 1964. С. 227–269.
2. Зельманов А. Л. Многообразие материального мира и проблема бесконечности Вселенной // Бесконечность и Вселенная. М.: «Мысль», 1969. С. 274–324.
3. Долгин Ю. И. Эзотеризм и экзотеризм // Дельфис, 1995, № 1(3).
4. Тейяр де Шарден. Феномен человека. М.: «Наука», 1987.
5. Шипов Г. И. Теория физического вакуума. М., 1993.
6. Лесков Л. В. Мэоническая Вселенная // Земля и Вселенная, 1995, № 3. С. 59–69. Петрович Н. Т. Проблема радиоконтакта с внеземными цивилизациями (проблема SETI) // Зарубежная радиоэлектроника, 1995, № 2/3. С. 3–28.
7. Акимов А. Е. Эвристическое обсуждение проблемы поиска новых дальнодействий. М., 1991.
8. Кобозев Н. И. Исследование в области термодинамики процессов информации и мышления // Избр. труды. М., 1978, Т. 2.
9. Татур В. Ю. Тайны нового мышления. М., 1990.
10. Гендель М. Космогоническая концепция Розенкрейцеров. КФДР, 1993. Кн. 1.
11. Лесков Л. В. Семантическая Вселенная // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 1994. № 2.
12. Лесков Л. В. Семантическая Вселенная: МБК-концепция // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 1994. № 4. С. 12–26.
13. Циолковский К. Э. Этика или естественные законы нравственности. Цит. по [12, с. 26].
14. Цицин Ф. А. Черные дыры сегодня и завтра // Земля и Вселенная.
1993, № 4. С. 75–82.
1.4. Статус науки в современном российском обществе28
Наука переживает сложный период в своем развитии, когда общество готово перейти от «осанны» к требованию «распни ее». Такое положение сложилось недавно. Начиная, по крайней мере, с эпохи Возрождения, роль науки неизменно связывалась в общественном сознании с прогрессом человеческого общества. При этом она рассматривалась не только как средство улучшения материальных условий жизни, но и как свидетельство торжества человеческого разума, проявления его беспредельных творческих способностей. В начале ХХ века такой взгляд на науку был особенно характерен для русских философов-космистов. Хотя они и принадлежали к совершенно различным направлениям мысли – от религиозных философов до представителей естественнонаучной традиции, – общее положительное отношение к науке, вера в могущество человеческого разума и во всесилие науки как средства устроения бытия человека характерны для всех космистов29.
В советское время авторитет науки, поддерживаемый государством и официальной идеологией, был очень высок. Именно с наукой связывались выдающиеся достижения советского общества – в таких областях, как освоение Космоса, атомная энергия и др. Изменение идеологических ориентиров в России сказалось и на отношении к науке. На это наложилось и общее изменение отношения к науке во всем мире.
В последние десятилетия ХХ века общая положительная оценка, временами переходящая в эйфорию, сменилась критическим, а часто даже негативным отношением к науке. Такая переоценка связана с тем, что сейчас особенно ярко проявились отрицательные черты созданной с помощью науки техногенной цивилизации. Быстрое исчерпание природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, не говоря уже о создании средств массового уничтожения, поставили человеческую цивилизацию на грань самоуничтожения. Более того, прогресс внешних материальных форм жизни на фоне деградации духовных ценностей всё в большей мере приводит к «дегуманизации» общества, к построению сугубо «машинной» цивилизации. Ответственность за подобное положение вещей современный человек склонен возлагать на науку. Критическое отношение к науке проникло в массовое сознание. Ругать науку стало модным. Парадокс состоит в том, что, взваливая на науку всю ответственность за современное состояние общества, люди не понимают, что переход к экологически сбалансированному, устойчивому развитию, за которое теперь все ратуют, невозможен без науки. Собственно сама проблема устойчивого развития общества поставлена именно на научной основе и в рамках самой науки.
Одна из особенностей современного состояния науки состоит в том, что она находится в преддверии глубочайших преобразований, накануне ломки всей старой парадигмы, построения новой картины мира. В этом переходном состоянии наука сталкивается с серьезными трудностями как внешнего, так и внутреннего порядка. Не берусь судить о состоянии мировой науки в целом, остановлюсь лишь на некоторых особенностях современного состояния российской науки.
Думаю, что наука в России сталкивается с тремя трудностями или тремя опасностями. Первая – давление со стороны официальной идеологии; вторая – давление со стороны псевдонауки; третья – опасность, проистекающая со стороны самой науки, из ее внутренних трудностей и проблем.
Долгое время советская наука развивалась под неусыпным контролем со стороны официальной государственной идеологии. Контроль этот был неодинаков в различных областях знания, но в той или иной мере он затрагивал всю науку. Горбачевская перестройка освободила общество, и науку в частности, от тотального контроля со стороны государства. Однако «свято место пусто не бывает». В последние годы мы становимся свидетелями возникновения новой государственной идеологии под эгидой Русской Православной Церкви. Удивительная особенность этого процесса состоит в том, что в отличие от КПСС, РПЦ не имеет никаких официальных рычагов и механизмов давления на науку. Тем не менее, ее давление явно ощущается. Ученые и руководители науки добровольно принимают на себя идеологические ограничения, вытекающие из конфессиональных интересов Церкви. Особенно остро это сказывается в области образования30.
Вторая опасность, на мой взгляд, связана с давлением со стороны псевдонауки. В условиях ломки старой парадигмы чрезвычайно активизировались деструктивные, разрушительные элементы. Не имеющие опыта научных исследований, не знакомые с научной методологией, часто не умеющие логически мыслить и не обладающие элементарной дисциплиной мышления, эти люди самоутверждаются в наскоках на науку, разоблачая её действительные и мнимые ошибки. Маскируя собственное невежество, они облекают свои построения в оболочку наукообразных построений, думая таким образом создать «новую науку». Это сорняк, бурно разрастающийся в пограничных, еще «неокультуренных» областях знания. Совершенно естественно, что научная парадигма защищается от этого агрессивного вторжения чуждых элементов. Но проблема в том, что именно здесь, за пределами парадигмы, зарождаются и истинные ростки нового знания. Задача в том, чтобы отличить зерно от плевел, чтобы вместе с водой не выплеснуть и ребенка31.
Как отличить науку от псевдонауки? Часто это пытаются сделать по предметному признаку, относя одни явления к сфере науки, а другие – к псевдонауке. Я думаю, это неверный подход. Поскольку сфера приложения науки постоянно расширяется, граница между тем, что принадлежит и не принадлежит науке, постоянно смещается. Так электрические и магнитные явления, известные с глубокой древности, долгое время относились к оккультному знанию и лишь сравнительно недавно были включены в научную парадигму, составив основу научного прогресса нового времени. Поэтому границу надо искать не в предмете, а в методологии. Если исследование поставлено и ведется в соответствии с научной методологией, то его нужно отнести к сфере науки.
Обычно считается, что науку отличают два существенных признака: она имеет дело с воспроизводимыми явлениями и ей свойственно опираться на эксперимент, экспериментировать с изучаемыми объектами. Это совершенно справедливо, но оба условия нельзя абсолютизировать. Действительно, во многих областях исследований мы постоянно сталкиваемся со случайными, спорадическими, невоспроизводимыми явлениями. Таковы вспышки сверхновых звезд, падение метеоритов, редкие атмосферные явления, землетрясения и т. д. Каждое из этих явлений в отдельности случайно, непредсказуемо, невоспроизводимо, но, тем не менее, изучать их можно, в частности, статистическими методами32.
Экспериментирование в науке также не всегда возможно. Например, нельзя экспериментировать при изучении истории, но на этом основании мы не можем отказать ей в статусе науки. Также нельзя проводить эксперименты с астрономическими объектами и геофизическими явлениями. Здесь их заменяют наблюдения. О математическом эксперименте если и можно говорить, то, по-видимому, с очень большой натяжкой.
Одним из отличительных признаков научного знания считается его «фальсифицируемость» – возможность сформулировать и проверить противоположное утверждение.
Наряду с перечисленными признаками, важными, на мой взгляд, компонентами научной методологии являются:
– исходное допущение о принципиальной возможности совершенствования, развития любого достигнутого знания (я бы назвал это антидогматической установкой);
– критический подход, требующий проверки любых фактов и заключений;
– добросовестность и тщательность анализа данных;
– грамотное применение методов анализа;
– обоснованность выводов.
Эти требования можно назвать этическими, отнеся их к этике науки. Я думаю, что они должны выполняться не только внутри научной парадигмы, но при исследовании внепарадигмальных явлений, то есть тех явлений, которые пока не имеют признания в науке. Более того, я считаю и хочу это особо подчеркнуть, что для подобных явлений эти требования должны соблюдаться еще строже. Это обусловлено двумя обстоятельствами. Первое: там, где всё ясно, где всё хорошо отработано, можно позволить себе некоторую нестрогость в обосновании, поскольку есть надежные критерии проверки окончательных выводов. Но там, где много неясного, сомнительного – нужна особая строгость. И второе: в изучение внепарадигмальных явлений вовлекается большое число людей из различных вненаучных сфер, не имеющих опыта исследовательской работы, не знакомых с научными методами. Поэтому, чтобы не произошло полного размывания этих методов, требования к ним должны выполняться особенно строго.
Что касается псевдонаучных исследований, то для них характерна амбициозность, поверхностность изучения явлений, поспешность выводов, невежество и агрессивность33. Причем две последние черты находятся в прямой зависимости: чем глубже невежество, тем сильнее агрессивность.
Следует остановиться на отношении к вере. Считается, что наука и вера несовместимы. Я думаю, это очень упрощенный подход. Конечно, если речь идет о слепой фанатичной вере, то она несовместима с наукой. Но вера, которая есть еще не вполне осознанное знание, – такая вера играет в науке огромную и неоценимую роль. Именно она толкает и ведет первопроходцев по неизведанным путям. Другой вид веры – признание научного авторитета – доверие, основанное на знании.
С этим связана и еще одна проблема – отношение к древним знаниям. Некоторые современные ученые пренебрежительно относятся к древнему знанию, которое заключает в себе огромный и пока еще не освоенный потенциал знания. Этот снобизм необходимо изживать и чем скорее – тем лучше. С другой стороны, иные приверженцы древних знаний настойчиво призывают ученых обратиться к великим религиозно-философским источникам древности и в них искать ответы на вопросы современной науки. Проповедуя высокие этические принципы, они порой бывают очень агрессивны в навязывании своего мнения. Они не понимают, что нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Не понимают, что великая Истина, которая заключена в этих источниках, соответствует уровню человеческого сознания того времени и ее нельзя механически пересаживать на современную почву. Не понимают, что «именно под знаком объединения с наукой древнее Учение сольется с нею и станет ее частью» [1, 250].
Теперь об опасностях, исходящих изнутри науки. Основная функция науки состоит в добывании нового знания. Она терпимо относится к любым самым «сумасшедшим» идеям, если они не выходят за пределы признанной научной парадигмы. Но идеи, выходящие за пределы парадигмы, наука безжалостно и бескомпромиссно отторгает. Подобная позиция понятна и отчасти оправдана: всякая сложившаяся система должна защищать себя. Но здесь кроется и серьезная опасность – опасность кристаллизации научных предрассудков. История науки полна примерами таких предрассудков и борьбой за их преодоление. Казалось бы, исторический опыт должен был научить большей терпимости. Но этого не происходит. Там, где дело касается внепарадигмальных явлений, наука демонстрирует догматизм, который вполне подобен религиозному. В чем причина живучести научных предрассудков? Остроумный и глубокий, на мой взгляд, ответ дается в книге «Община»: «Помните, что не безграмотный народ будет яриться против действительности, но эти маленькие грамотеи свирепо будут отстаивать свою близорукую очевидность. Они будут думать, что мир, заключенный в их кругозоре, действителен, всё же остальное, им невидимое, является вредной выдумкой. Что же лежит в основе этой нищенской узости? Та же самая, вид изменившая, собственность. Это мой свинарник, и потому всё вне его – ненужное и вредное. Это моя очевидность, и потому вне ее ничего не существует» [2, 206]. Возможно, кому-то могут не понравиться эти слова. Но, я думаю, что ученый, сохранивший чувство юмора и самокритичность, отнесется к ним со вниманием.
Сейчас многие ученые и научные коллективы разными путями подходят к изучению тонких энергий и основанных на них явлениях феноменального мира. Это вполне квалифицированные люди, обладающие необходимыми знаниями и умением работать. Их отличие от ортодоксальных ученых состоит лишь в том, что они решили освободиться от всяких предрассудков и держать свой ум открытым. В одной только Москве (о других городах я не знаю) можно назвать несколько вполне квалифицированных семинаров, постоянно работающих уже не один год, где в свободной творческой дискуссии обсуждаются новые идеи, выходящие за пределы признанной парадигмы. Многие из вновь созданных академий и университетов вполне терпимо относятся к исследованиям внепарадигмальных явлений. Я бы погрешил против истины, если бы стал утверждать, что в этой сфере всё обстоит благополучно. Нет, это далеко не так. Можно наблюдать много уродливых явлений. Не всегда различима грань между научным исследованием в пограничных с парадигмой областях и псевдонаукой. Но не следует забывать, что речь идет о процессе развития нового знания. Не всё сразу получается. Новорожденная красавица весьма часто выглядит уродкой. И из гадкого утенка вырастает прекрасный белый лебедь. Я боюсь, и я говорю это с болью, что если наша академическая наука (к которой я себя тоже причисляю) не изменит своего отношения, не станет более терпимой к тому, что делается за пределами признанной ею парадигмы, не откроется для творческих дискуссий и обсуждений с коллегами, стоящими на иных позициях, – то она может оказаться за бортом будущего развития науки и даже постепенно выродиться в научную секту. На мой взгляд, такая опасность существует, и я бы очень не хотел, чтобы она реализовалась. Это сильно задержит наше продвижение в будущее, ибо академическая наука – академическая в широком смысле, не только РАН, но и вузовская наука, имея в виду наши ведущие вузы, – обладает сейчас самым большим научным потенциалом. Надо развивать этот потенциал. Надо повышать критическую планку при отборе новых идей, но в то же время надо «открыть глаза», найти в себе силы преодолеть накопившиеся предрассудки.
Как отмечает А. Д. Панов, «традиционная научная методология возникла и развивалась преимущественно на основе опыта лабораторных исследований и опыта наблюдений над регулярно повторяющимися небесными (астрономическими и метеорологическими) явлениями. В результате методология оказалась хорошо адаптированной именно к такому контексту». Однако в таких областях как квантовая теория макрообъектов, квантовая космология, она сталкивается с принципиальными трудностями. В результате «возникает парадокс, который заключается в том, что методически неприемлемые теории приводят к весьма полезным практическим результатам. Как такое возможно?». По мнению Панова, «ответ состоит в следующем. Парадокс является следствием механического распространения традиционной методологии за те рамки, в пределах которых она была установлена (главным образом – лабораторная физика). Методологические принципы науки (понятие научной строгости) имеют границы применимости, как и любой частный научный закон. <..> Важно, что выход за границы традиционной методологии фактически уже произошел, но, как правило, очень слабо рефлексируется учеными, работающими в соответствующих областях. Для полного снятия парадокса нужна явная декларация новой методологии, в которой принципы наблюдаемости и воспроизводимости традиционной методологии заменены некоторыми их обобщениями. В связи с этим возникает вопрос о статусе объектов, которые реальны в контексте теорий нового поколения, но принципиально не являются наблюдаемыми для нас как наблюдателей. Наиболее ярким объектом этого типа является Мультиверс инфляционной космологии и представляющие его „другие вселенные“. Вопрос о том, реальны эти объекты или не реальны, имеет смысл только в рамках традиционной методологии, но эти объекты существуют вне этих рамок. Фактически такие объекты имеют некоторый третий статус, который можно назвать „модельной реальностью“» (Панов А. Д. Из выступления на семинаре Секции «проблем космического мышления и Живой Этики» Московского космического клуба 2.04.2010 //Труды семинара. Том 1. Вып.1. М., 2011. – С. 67–68. См. также: Панов А. Д. Методологические проблемы космологии и квантовой гравитации. // Современная космология. Философские горизонты. Под ред. В. В. Казютинского. М., 2011. – С. 185–215). На необходимость изменения научной методологии указывает также М. Б. Менский (см. цитируемую выше его книгу «Человек и квантовый мир», 2005). #
Tasuta katkend on lõppenud.