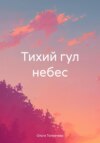Loe raamatut: «Тихий гул небес», lehekülg 5
Лесная принцесса
…Происшествие на болоте накрепко сдружило Дроню и лесника. С той поры мальчик часто гостил у Петра Ивановича – благо, что деревня, в которой жила Дронина семья, находилась в паре таежных верст от сторожки, на другом берегу реки. И лесник привязался к мальчугану, как к родному сыну, а если им долго не удавалось свидеться, сильно скучал. Ждал и Дроню, и Аннушку к себе на каникулы.
Узнав о мечте мальчика смастерить самолет, помог с деньгами. Разглядев в нем непраздный интерес к летательным аппаратам, посоветовал после окончания школы поступить в авиационный техникум.
Петр Иванович рассказал ему и о геологах, которых однажды сопровождал на Дальнее болото. Показал фотографии и вырезки из старых газет. На одной из них мальчик увидел бородатого человека по фамилии Дронов. Выходит, это отец его?
Серьезный и не особенно жадный до разговоров геолог руководил экспедицией и хорошо запомнился леснику.
Озорная смешливая Аннушка была мастерицей придумывать развлечения.
То принималась затейница с птицами разговаривать, и Дроню приглашала в компанию. Чирикала, точно синичка, смущая залетных птиц. Притворившись дятлом, наказывала ему палкой стучать, в такт своей щебетне резкий, ритмичный звукиздавать. А Дроня рад радехонек играм.
Заливались трелью, сидя на крыльце, вторя лесной песне, а так ли на самом деле пернатые поют, даже Петру Ивановичу – бывалому охотнику, невдомек было. Плел корзину лесник в сторонке, помалкивал. Слушая детский птичий концерт, в бороду посмеивался.
Однажды захотела Аннушка построить для Тимки новое жилище. Думая о том, что настанут времена, когда холостяк бельчонок обзаведется семьей, дети дружно собирали мох и веточки. Появится у зверьков потомство, рассуждали, и им найдется интересное занятие: дрессировать малышей. Увлекшись затеей, Дроня пилил и строгал дощечки для домика – старался угодить Тимке.
Часто ребята ходили на пристань посмотреть на большой пароход с мачтами, мечтая о времени, что как только повзрослеют, отправятся в далекое путешествие.
На обратном пути Аннушка непременно тянула Дроню на кладбище. Не по душе мальчику был этот маршрут, но он плелся за подружкой, не желая подавать виду, что не по душе ему эта прогулка, неприятно. И что за страсть к могилам ходить, молча возмущался. Боялся, дрожал как осиновый лист, но терпел, тренировал волю.
Бывало, лесник вместе с Дроней встречал дочку у пристани. Когда кораблик показывался из-за поворота реки, мальчик чувствовал, как мощные удары сердца сотрясают грудь. С каждой минутой волнение становилось все ощутимей, а когда Аннушка сходила на берег, Дроня внезапно робел перед ней.
Приветливая, веселая и не по годам рассудительная девочка озорно смеялась и из ее глаз на мальчика проливался теплый лучезарный поток – тихий и успокаивающий. Дроня от смущения краснел и заикался и еще глубже втягивал шею в плечи, становясь ниже ростиком. Он казался себе нескладным, недостойным внимания лесной принцессы. Неуклюжие руки – ненужные плети – все время ему мешали. Стараясь не выказывать себя, мальчик все больше хмурился, а оттого выглядел совершенным дикарем.
Справившись с чувствами, Дроня принимался рассказывать подружке обо всем, что его занимало – о реактивном самолете, о шмеле с комаром и о геологе Дронове – отце своем, которого он непременно отыщет, как только повзрослеет.
Сам того не ведая, Дроня влюбился.
Дуб
– Эй, молчун! Оглох?
Дрон не слышал, что его окликали.
На строительную площадку подвезли буфет. Наступил перекур в работе.
Толстая Манька в валенках и в белом халате поверх шубы разливала из термоса чай. Она торопилась – ждали клиенты другого объекта, и громко созывая землекопов к прилавку на раздачу, сердилась за их медлительность. По воздуху плыл аромат кипятка.
После многочасовой напряженной работы лопатами и отбойными молотками руки землекопов плохо им служили. Железные кружки, нагретые горячей водой, больно обжигали пальцы.
– Печенье в лотке! – буркнула буфетчица, протягивая Дрону чай.
Он молча кивнул и отошел с кружкой в сторону. Запрокинув голову к небу, прикрыв глаза, подставил солнцу щеку. Ловил лицом свет.
На соседнем дереве громко трещал скворец.
Привольно растущий дуб с мощными корнями, который Дрон далеко обходил стороной, внедряясь в землю, оживлял унылый пейзаж. Вдруг представил, как приятно в жару было бы укрыться в тени раскидистой кроны. Два взрослых человека едва ли могли бы обхватить ствол, взявшись за руки, прикинул.
Дуб отбирал от стройки много полезного места. Корни мешали рыть ямы. Чтобы экономно распорядиться землей, которая здесь имела хорошую цену, с каждым годом все дорожая, начальнику пришлось поломать голову.
Сначала думалось дерево спилить. Если копать ямы впритык, экономя на проходах, размышлял Керим, то на освободившуюся площадь удалось бы втиснуть десяток могил. Выгода очевидна.
По правилам, семье усопшего полагался бесплатный надел на два погребения, но люди охотно приобретали землю «впрок», для будущих поколений. Опасаясь обесценивания денег, вкладывали средства в кладбищенскую недвижимость. На сухих, обустроенных, приближенных к дороге участках, цена земли равнялась стоимости квадрата жилплощади в городе. Кризис, инфляция, скачки на биржах подогревали азарт покупателей.
В городе шептались, мол Керим втихую землей приторговывал. Сплетничали, возмущались, но серьезных доказательств предъявить не могли, и потому ни у кого не возникало желания вывести успешного менеджера на чистую воду.
Поразмыслив, Керим принял решение не мелочиться и дерево не губить. Распорядился нарезать у дуба большие добротные участки. Чувствовал в ладонях зуд – верный признак того, что не прогадает. Желающих обрести покой под сенью векового дуба найдется немало, рассуждал он. Глупо отказываться от возможности подзаработать. Проект был малозатратен и экономически выгоден.
Звездочка, зоренька
ЗВЕЗДОЧКА, ЗОРЕНЬКА
Несмотря на добротные зимние сапоги, меховую шапку и толстый шерстяной шарф, Василий Иванович продрог. Прикрыв глаза, он уже больше часа неподвижно стоял у могилы. Бледное солнце ласкало лицо, не согревая. Ледяные потоки воздуха с оттаивающей земли незаметно подбирались к его сухопарому телу, сквозь одежду.
На пригорке гомон птиц и журчание ручьев становились все явней, но здесь, в царстве холода, тепло было призрачным. Настоящую весну еще ждать и ждать, подумал старик, пытаясь двинуть задеревеневшими ногами, в попытке немного согреться. Пошатнувшись, крепче схватился за ограждение.
На небольшом столике у березы лежала его матерчатая сумка с пожитками. Он принес с собой в термосе чай, завернутый в газету пирог и толстую потрепанную тетрадь, с которой не расставался.
Старик прожил долгую терпеливую жизнь, типичную для людей своего поколения: с лишениями, заботами о хлебе насущном и неутолимыми надеждами на лучшую долю. Ничем примечательным или геройским в ней он похвастать не мог. Жизнь как жизнь, как и у многих.
Поскулить, пожалиться на судьбу он, конечно же, мог, но стыдился. Порой, в особо благостном расположении духа, считал, что Господь был к нему милосерден. Втихую самому себе осторожно признавался, что, по сравнению с иными, судьбой был обласкан. Вслух говорить о том опасался, боясь накликать беду.
В эту тетрадь старик всегда что-то записывал: свои рассуждения или умные мысли посторонних людей, которые он где-нибудь прочитал или услышал. Иногда ему удавались стихи. Когда настрой был на лирику, рождались строчки любви. Если что-то печалило, писал о родине, нечто высоко-патриотическое.
В последнее время многое в обществе старика неприятно удивляло. Душа кричала и плакала. Перо бранилось.
Отца своего Васятка не помнил. В лихие годы талантливого агронома, выпускника академии, по навету недоброго человека объявили предателем. Скоропалительно осудив, отправили в лагерь, и он сгинул.
Кроме него, старшего сына, у матери детей было, что гороха в поле – мал мала меньше. «Беда! Пропадут ребятишки!», – скулили соседи.
Василий не пропал, а выстоял. Долго профессию себе не выбирал – не модничал. О трудовом призвании в умных книжках читал, но лишь ухмылялся, не завидуя. Рассуждал о призвании с легкой иронией и оглядкой на обстоятельства. Смекнув, что офицеров советской армии государство жильем и приличным пайком наделяло, выбрал надежную профессию кадрового военного. Превратил практичную профессию в призвание.
Когда пришло время жениться, ему приглянулась смирная и покладистая портниха Тамара – девушка с кротким нравом и золотым сердцем, чуть старше него. Прикинул, что разумнее жизнь строить с серьезной, не избалованной жизнью спутницей. Трепет души и любовная страсть в расчет не брались. Если что-то порой шевелилось в груди… Так это сердце, считал. Мышца, которая толкает кровь.
За долгую жизнь он был свидетелем многих семейных драм, когда влюбившись без памяти, мужчины теряли рассудок. Часто за скороспелой свадьбой наступали трезвые будни, и семейная жизнь трещала по швам. Беда, считал офицер, когда прикипишь к пустому бесполезному человеку. Любовь окаянная, болезнь и сочувствие.
С Тамарой создали крепкую семью, с годами прижились-слюбились. Жизнь наладилась. Родились дети. Офицер стал писать стихи.
Василий Иванович раскрыл тетрадь.
«Я назову тебя звездочкой, только ты раньше вставай… Я назову тебя зоренькой, – только везде успевай…», – записал он однажды слова полюбившейся песни. Зачем влюбляться в кого попало, соглашался он с авторами красивой композиции, если, не теряя голову, можно с молодости сойтись с трудолюбивой не привередливой женщиной без прикрас. Как без крепкого тыла?
В этой пухлой тетради – целая жизнь.
Василий Иванович положил озябшую ладонь на страницу, испещренную буквами, и внезапно налетевший ветерок зашелестел страницами. Зашептал…
Вдруг старика охватила дрожь. Он глубоко вздохнул. Беззвучно заплакал, сотрясаясь худыми лопатками.
Грех жалиться, вслух сказал он кому-то и всхлипнул.
Семья – надежная крепость. У детей и образование, и добротная профессия.
С Тамарой, считай, только год не дожили до золотой свадьбы – не дотянула бедняжка до красной даты. Уходила тяжело, мучилась.
– Без смеха твоего… и голоса… Без ласки твоей… – надрывно выдавил он, обращая взор к небу. – Звездочка моя… Нету мочи…
Нельзя раскисать и роптать на судьбу, тут же боязливо подумал, – большой грех. И ноги ходят, и сердце стучит. В дни, когда чувствует себя сносно, в нем по-прежнему просыпается страсть покомандовать. Значит, еще жив, курилка.
Только к чему жизнь без любимой, вздохнул..
– Жизнь не мила, – Старик взглянул на фотографию на кресте. Тамара улыбалась ему.
Внезапно Василий Иванович услышал вдалеке натужный звук машины. Повернул голову и увидел, как в стороне от дороги, буксуя в глине, к свежим делянкам продирался катафалк, а за ним ползла лента автобусов и автомобилей. Крепкая, скованная льдом дорога, по которой они со сторожем ранним утром направлялись к могиле, превратилась в хлипкий студень.
Отвлекшись на громкий крик птиц, он обернулся к насыпи. У перевернутого бака с мусором, в котором лежали сухие ветки, истлевшие венки, камни и прочий хлам, вороны ссорились из-за еды. Черные траурные ленты, обтерханные и полинялые, валялись на снегу среди пустых бутылок, пластика, бумаги и остатков пищи.
Офицер брезгливо поморщился – терпеть не мог бесхозяйственности. Еще осенью его цепкий глаз подметил, что емкостей для хранения мусора на кладбище не хватает, а те, что имелись в наличии, быстро переполнялись отходами и освобождались нерегулярно. Птицы, бомжи, бродячие собаки и грызуны растаскивали грязь по территории.
Василий Иванович давно собирался наведаться к руководству и указать на антисанитарию и вопиющее бездействие. Рвался в бой навести порядок в подведомственном им учреждении.
Но пришла зима, и снег припудрил землю, запорошил ряды-улицы, заполнил рытвины на дорогах. Выбелил, выровнял, освежил и приукрасил пейзаж. Отвлек взор.
С приходом тепла снег просел и истончился, и перед глазами встала прошлогодняя, еще более удручающая, картина убогого ритуального быта.
Вдали громыхала техника. Сновали люди. Василий Иванович решил, что настало время встретиться с ответственными лицами. Когда речь шла о принципиальных вещах, офицер был непреклонен.
Закрыв поспешно тетрадь, сложив в сумку пожитки, старик решительным шагом направился к землекопам-строителям.
Перекур
Под курткой пекло.
Дрон чувствовал, как озорное, расточительное, по-ребячески задорное солнце растопило в груди лед. Губы дрогнули и помимо воли стали складываться в тихую, благостную, безмятежную улыбку. И сам он весь, как подсолнух, вдруг двинулся в рост. Щурясь, глотая запах талого снега, потянулся плечами и шеей, каждым своим позвонком, к высокому, ослепительно-синему небу. Стараясь не обращать внимания на косые взгляды ухмыляющихся сослуживцев, которые, находясь неподалеку, исподтишка наблюдали за ним, поплыл в тихом потоке блаженства и радости, без причины. Забавляя и одновременно раздражая мужиков, Дрон таял, но не мог сладить с собой: так хорош был весенний денек. Чтобы остудить жар, он рукой отыскал пуговицу, впустил под одёжку прохладу.
– Ты, Марфута, перестала нас пирогами баловать, – сказал Петька буфетчице, протягивая кружку для добавки чая. – Плесни-ка чуток. Вкуснее твоих не едал.
– Некогда с тестом возиться, – нехотя отозвалась Манька, не удосуживая алкоголика взглядом.
– И правда, Маня! Потеряла сыд!, – вступил в разговор долговязый Шурик, подойдя следом за шутником к лотку.
Играя косматыми бровями, он с интересом смотрел на суровую и неприступную, как скала, женщину и ухмылялся.
– Санэпидемстанция козни строит. С печеньем сподручней на выезде. Гигиенично, – буркнула буфетчица и повернулась к мужикам спиной.
– Приручила нас, черствая душа, к разносолам, а теперь что же? Врачи? Гигиена?
От горячего чая лицо Шурика разгладилось. Душа пела. Яркий солнечный денек призывал и его острить и балагурить. Работяги пытались растопить сердце женщины пылкими взглядами и неуклюжими заигрываниями, и он категорически не желал наблюдать неудовольствия буфетчицы.
– Мадам, вы ответственны за тех, кого приручили, – поддакнул Савелий – нескладный верзила в брезентовом костюме, заляпанном землей, без возраста и особых примет лица. – Антуан де сент Экзюпери. Маленький принц.
Савелия в бригаде считали академиком. В далеком, давно забытом прошлом, он корпел над диссертацией, а потом удачно защитился в Академии наук. Теперь при всяком удобном случае старался напомнить о важном моменте биографии, подчеркивая свое отличие от необразованных коллег. К месту и не к месту сыпал цитатами, важничал.
– «Белое небо крутится надо мною. Земля серая тарахтит у меня под ногами…» К нам, рудокопам, работникам приисков, нельзя относиться без должного почтения, сеньора Маня. «Я вытаскиваю, выдергиваю ноги из болота, и солнышко освещает меня маленькими лучами». Могли бы, драгоценная, проявить эмпатию, то есть душевную чуткость, – Савелий громко, театрально вздохнул.– Ты нам со своими плюшками, Марфута, заместо матери будешь… – Озираясь по сторонам, Петька откупорил бутылку и щедро налил в кружку водки. Резкий запах спиртного потянулся по воздуху. Залпом выпил.
Широко распахнув руки, под смешки и одобрительный гул дружков, пошатываясь, он шагнул к женщине-горе в намерении обняться:
– А ну дай, я тебя поцалую.
Манька энергично запротестовала и стала беззлобно отбиваться от Петькиных тисканий. От большой порции мужского внимания она зарделась и, сама того не желая, вдруг тоже широко разулыбалась.
– Душа моя, не желаете ли после работы составить компанию одинокому, недооцененному мужчине? – к Мане подошел и Василий – мрачноватый тип с прыгающим, колючим взглядом, – Как никто другой, надеюсь на взаимность. Конкуренции не потерплю, – Он показал Петьке кулак.
Сладкий весенний воздух и чай с печеньем обнаружили и в нем не раскрытый творческий потенциал.
– Опоздал, дружище! Я первый на раздаче! – возмутился академик. – Смирись, брат. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты…» Ты к лирике как относишься? В поэзии силен? – поглядывая на дружка с высоты роста, высокомерно спросил он Василия.
– Ты велик, Академик! Но моя сила – в корневом крене, – хохотнул тот в ответ и подмигнул Маньке. – Лирика – в корне! – Он живописно поскреб пятерней щеку, заросшую щетиной.
– Хватит лыбиться! Жрите скорее, кобели неугомонные! Некогда мне с вами лясы точить! – грозно прикрикнула Манька, в миг испортив всем настроение. – Это вам, бездельники, весну стеречь, а мне еще в Заречье с товаром. Таких, как вы, оголодавших, кормить. Во-он Керим-то идет, – Она показала рукой вдаль на приближающиеся фигуры бригадира со свитой. – Покажет вам начальник и лирику, и корневую силу.
– «Я ищу. Я делаю из себя человека»* (И.Бродский), – торжественно заключил Савелий, настраивая коллег на серьезный лад.
Оглашая воздух пронзительной трелью, в кустах веселился скворец.
Дрон макал печенье в стакан с кипятком и мокрым отправлял в рот – по воздуху плыл аромат жареных орехов и сливочного масла. Именно так, – опуская печенье в кружку, – они с Аннушкой пили чай в сторожке у лесника, с наслаждением глотая благоуханную сласть.
…Печенье крошилось. Дроне казалось, что, втягивая в рот горячую жидкость, он чересчур громко хлюпает. Торопливо отхлебнув, ставил чашку обратно на блюдце. Пока Аннушка не заметила его руку, изодранную в кровь болотными колючками, прятал ее под скатерть, хоронил рядом с другой.
Чай проливался на стол. Аннушка звонко смеялась над Дрониной суетой. Вставала за чайником, чтобы снова налить ему кипятка. А неловкий Дроня все больше хмурился. Держался стойко, как мог, только чтобы не расплакаться навзрыд, как девчонка, перед лесной красавицей, от смущения.
Деловой костюм Керим поменял на робу, обулся в резиновые сапоги выше колена. По скользкой дороге шел размашисто, казалось, не думая о том, что по неосторожности возможно падение в грязь. Его спутники – невысокая женщина в темном пальто, с сумкой через плечо, и кто-то еще, работягам неизвестный – еле поспевали за бригадиром.
– Людка, кажись, похоронный агент, – узнал незнакомку Шурик.
– Могилу идут выбирать.
– Наверное, кто важный умер.
Людмилу в городе знали как успешного руководителя похоронного агентства. От клиентов отбоя не было. Погребальная церемония в исполнении ее команды превращалась из заурядного события в душераздирающее зрелище. Коллектив процветал.
Шагая по рядам свежевыкопанных ям, Керим что-то оживленно говорил популярному менеджеру, указывая руками по сторонам. Они направлялись к дубу.
– Начальник-то наш юлит, – подметил Василий. – Того гляди, переломится.
– Выгоду чует, вот и старается, – лениво отозвался Шурик.
– Смотрите, к дереву прутся! – присвистнул Василий.
– На пригорке сухо и красиво. Клиенту дорогое место втюхать хочет. А что? Достойно, живописно. Лежать у дуба просителю придется по душе, – включился в разговор Савелий, оттаявший и подобревший на весеннем ветру. – «У Лукоморья дуб зеленый…», – запел.
– А по мне, все же у часовни лучше. Там асфальт, и снег регулярно трактор чистит, – возразил Петька.
– Суета в центре, как на базаре, – не согласился с ним Василий.
– Зато нескучно. Мило. Колокольный звон и прочие радости в праздник, – стоял на своем Петька.
– Это на любителя. Урбаниста, к примеру, и после смерти тишина и покой удручают. И на том свете душа просит огня, – хихикнул Савелий.
– Почем знаешь об том? В умных книжках читал? – съехидничал Шурик.
С важным выражением лица академик кивнул.
– А меня, мужики, если честно, скопление людей ввергает в депрессию, – пожаловался Семен, невысокий мужчина средних лет с тревожным взглядом.
Он стоял чуть в стороне от других, втянув голову в плечи, и все время пугливо озирался по сторонам, готовый в случае непредвиденной опасности первым дать деру.
– Превосходна уличная толпа в Генуе, – щурясь, произнес Савелий, растягивая и пружиня слова. – «Когда вечером выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься в толпе без всякой цели, туда-сюда, по ломаной линии, живешь с нею вместе, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа».
Медленно расплываясь в улыбке, академик с превосходством смотрел на недоумевающих работяг:
– Антон Павлович Чехов, коллеги, школьная программа. Каждый уважающий себя человек должен с сим чтивом ознакомиться, братцы, – прервав молчание, наконец, пояснил академик внимательной публике.
– Хороший был мужик Чехов. Нашего брата жалел, – тяжело вздохнул Шурик, косясь на прилавок, прикидывая, как бы незаметно от буфетчицы половчее стянуть из лотка печенье.
– Чего прячешься-то, пыжишься? – возмущенно воскликнула Манька. – На, жри! Бери, сколь хочешь! Али твой интерес не наблюдаю? Что ли не велю? – Она сердито толкнула по прилавку коробку. – Не в помои же нести! И ты карманы набей, – обернулась к Петьке, – сынка сладостью угостишь.
Петька подошел к буфету и запустил пятерню в ящик. Взял пару пачек и стал рассовывать печенье по карманам.
– И то правда, Марфута, благодарствую. Сынок у меня, я вам скажу, – произнес Петька, смущаясь, зажмурившись от внезапного приступа чувств. Восторженно замотал головой, не в силах совладать с порывом.
– Вот и славненько. Жрите, жрите, мужички, али мне жалко? – растрогалась от Петькиных слов буфетчица.