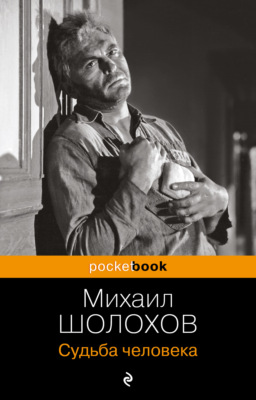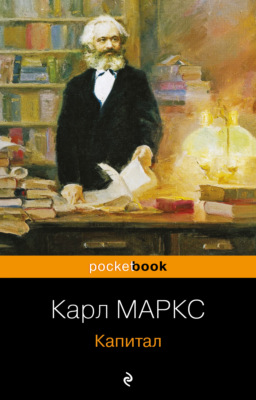Maht 300 lehekülge
1976 aasta
16+
Raamatust
Полночь – это дверь, ведущая в волшебную даль. За ней могут скрываться история первой любви и украденный попугай Хемингуэя, самозародившееся знойным летом зло в людском обличье и заводной Бернард Шоу, воскресенье в Дублине и отпуск в Мексике у подножья грозного вулкана.
Все это – в авторском сборнике зрелого Брэдбери, на полпути от «Золотых яблок Солнца» к «Вождению вслепую».
Teised versioonid
Ülevaated, 3 ülevaadet3
Сборник как калейдоскоп, в нем есть все: лето, солнце, светлая и бесконечная радость жизни; звёзды, планеты, миры; детство, когда прекрасен каждый миг; дружба, глубокая как колодец. Немного темноты, грусти и одиночества есть тоже, но без них Брэдбери не может...
Как обычно, испытала целый ворох разных чувств. Каждый рассказ особенный - целый мир на нескольких страницах.
Как всегда - здорово и волшебно.
Я прочла сборник « Далеко за полночь» ещё будучи подростком и центральный рассказ, который значится в названии книги, я считаю лучшим у Брэдбери. Невероятно атмосферный, провокационный рассказ с сильным сюжетом и неожиданной развязкой. Автор спросит у вас стало ли вам лучше или хуже, а может быть, не имеет значения, когда речь идёт о сострадании? Я прочла эту историю пятнадцать лет назад, но её центральный вопрос все ещё звучит в моей голове.
«Зачем? – спрашивали отцовские глаза. – Зачем ты привел меня сюда?» – Я… – начал я, но осекся. Потому что его рука вдруг сжала мою. По его лицу я понял: он сам нашел причину. Это был и его шанс тоже, его последний час, чтобы сказать то, что следовало сказать, когда мне было двенадцать, или четырнадцать, или двадцать шесть. И не важно, что я стоял словно набрав в рот воды. Здесь, среди падающего снега, он мог найти для себя примирение и свой путь. Его рот приоткрылся. Как трудно, как мучительно трудно было ему выдавить из себя эти старые слова. Лишь дух внутри истлевшей плоти еще отважно цеплялся за жизнь и ловил воздух. Он прошептал три слова, которые тут же унес ветер. – Что? – изо всех сил прислушался я. Он крепко обнял меня, стараясь держать глаза открытыми, борясь с ночной метелью. Ему хотелось спать, но прежде его рот открылся, исторгнув прерывистый свистящий шепот: – Я… юб-б-б-б-б-б… бя-я-я-я-я-я!.. Он замолк, задрожал, напрягся всем телом и попытался, тщетно, выкрикнуть снова: – Я… лю-ю-ю-ю-ю-ю-ю… б-б-б-б… я-я-я-я-я-я-я! – О отец! – воскликнул я. – Позволь, я скажу это за тебя! Он стоял неподвижно и ждал. – Ты пытался сказать: я… люблю… тебя? – Д-д-д-да-а-а-а-а!.. – крикнул он. И наконец у него совсем ясно вырвалось: – О да! – О отец, – произнес я, обезумев от печали и счастья, от радости и утраты. – О папа, милый папа, я тоже тебя люблю! Мы прижались друг к другу. И стояли, крепко обнявшись. Я плакал.