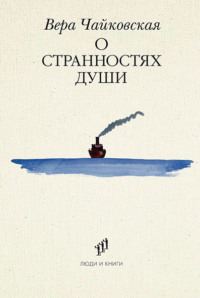Loe raamatut: «О странностях души», lehekülg 2
Петруха куда-то исчез и через минуту вложил в руку Николая Аристарховича кулек с черным хлебом. В другую солдатик сунул ему красную папку.
Осторожно положив все это на стол, Николай Аристархович где-то в указанном ему месте расписался и вышел из особняка на воздух. Было так светло, что он даже в первую минуту зажмурился. Следом за ним весело припрыгивал щенок.
«Француз! – осенило Николая Аристарховича. – Легкий и веселый французский нрав. Буду звать его Франсом».
Его пошатывало. Он остановился у колонны особняка перевести дух. Франс привстал на задние лапы и попытался мордой дотянуться до кулька с хлебом. Тогда только Николай Аристархович вспомнил про еду. Он с осторожностью положил папку с рисунком себе подмышку и руками, как в детстве, отломил от половинки батона два куска хлеба. Один, нагнувшись, поднес к пасти Франса – тот его мгновенно, не жуя, проглотил. А другой положил себе в рот. И тут его настиг ужасный спазм. Он не мог разжевать этот кусок, давился, с трудом глотал, слезы полились по лицу – первые слезы за несколько сухих и холодных послереволюционных лет. Он нагнулся к Франсу, погладил по жесткой рыжеватой шерсти, дал еще кусок хлеба – поменьше, чтобы не подавился. Что-то другое ему полагалось есть, но другого не было.
– Ничего, ничего, – утешал Николай Аристархович не то себя, не то пса.
Из особняка выскочил Петруха и со всех ног кинулся к ним.
– Вот, забыли! – он подал Николаю Аристарховичу оставленную в особняке фуражку. Увидел его залитое слезами лицо и стал извиняться за своего дядьку – в Гражданскую его сильно контузило.
– Сердечно благодарю, – некстати выговорил Николай Аристархович. – Не ожидал.
И вытер рукавом мокрое лицо – привычка его бывшей кухарки. Парнишка хотел погладить пса, но тот не дался и гордо отступил к Николаю Аристарховичу.
– Хозяина признал, – не без досады сказал парнишка, скорчил напоследок смешную рожу и исчез в особняке.
По дороге в мастерскую Павла весь хлеб был съеден. В мастерской Николая Аристарховича ожидала записка от хозяина. Тот писал, что зашел проверить, загасил ли он печь, ведь Николаю не до того. И сообщал о приезде своего приятеля из Питера с важными известиями. С дядей дело плохо, а сестра с семейством срочно бегут в Париж по дипломатической линии.
«С тобой уже не увидятся, – писал Павел. – Так что жду тебя вечером у себя. Спешить тебе некуда. Не хандри. Бывало и хуже. Вспомни о временах Пугачева. Да и разинская княжна пострадала ни за грош».
Где, где теперь была его апатия?
Боль за дядю, радость за сестру, за Лизу, приступы какого-то немыслимого счастья оттого, что завладел сразу двумя такими сокровищами – рисунком и собакой, – все это сделало его жалким, плачущим, вздрагивающим от любого шороха. Нет, в таком состоянии он к Павлу не пойдет! Волновало, как он довезет щенка в вагоне, где и людям было тесно. Но проводник за небольшую доплату пристроил Франса к циркачам, перевозящим свою дрессированную команду, в том числе и собачек. Вагон был выделен по распоряжению наркома просвещения. Освободившийся народ требовал зрелищ…
…Во Францию он попал через несколько месяцев. Луначарский не стал его удерживать, видимо поняв всю серьезность идейных расхождений.
Рисунок Кипренского теперь, как в детстве, висел над его кроватью в маленькой парижской мансарде.
Франс оказался собакой редкой старофранцузской породы. Знатоки восхищались формой его ушей и красивым золотистым окрасом.
Но главное, Николай Аристархович обрел в нем веселого и надежного друга. Критические писания были тут никому не нужны, и он вспомнил о своем давнем увлечении и стал рисовать для дягилевской труппы эскизы балетных костюмов. Совместные с Франсом прогулки в версальском парке наладили его сон.
И только Лиза вызывала тревогу. От милой девочки не осталось и следа. Она уже ничем не напоминала Марьюччу.
Прокуренный низкий голос, порочные круги под глазами, усталый взгляд. По-русски она принципиально не говорила. Учила английский, так как рвалась в Америку.
Да, Европа, видимо, и впрямь издыхала. Но здесь было все же лучше, чем в Крестах или на Лубянке.
И только когда Николаю Аристарховичу начинали с язвительностью в голосе говорить (особенно французы), что нет никакой загадки русской души, все это бредни и глупости, он холодно отмалчивался или уводил разговор в сторону, словно это была та сокровенная тема, которой лучше не касаться…
Бегущие
(триптих)
В Италию. Встреча со славянкой
Начало XIX века
Направляясь в выставочную залу академического здания, Антон Некритский прошел мимо буфетной, где приготовлялось угощение. В его честь Академия давала обед. От здешней еды он совсем отвык. Желудок ее не переваривал. И как он мог это есть столько лет? Правда, в отчем доме ели по-крестьянски просто. Отец – управляющий поместьем бригадира Дучкова – любил еду натуральную: творог, брынзу, фасолевую похлебку, печеный картофель. Маленький Антон эту еду тоже полюбил, но ее всегда не хватало. Пробавлялся сухариками, которые сушила в печке мать.
А в академическом пансионе еда была «казенная» – приторно-безвкусная. И ее тоже было мало. А сухариков никто не давал!
В Италии, завидев голодного пса, он вынимал из оттопыренных карманов сюртука горсть сухарей и кормил бедолагу прямо с ладони. В Италии всем должно было быть хорошо – и людям, и животным! И вот почему он покровительствовал бездомным собакам. Он сам привык там к красному вину, острой пицце, хорошо пропеченной на углях, зеленому перцу, сладкому и тающему во рту. И к винограду, который он ел в неограниченных количествах, напитываясь дурманящим и вселяющим силы соком, словно соком самой жизни!
Ах, как всего этого было мало в Петербурге – солнца, радости, пьянящего виноградного сока! Его удивляло теперь даже то, что он сумел здесь что-то написать и кому-то из академиков-преподавателей, а по большей части аристократам из высшего света и пишущей журналистской братии, – это нравилось. Чем? Он и сам теперь только диву давался.
Когда шел в залу, где были повешены его новые картины, привезенные морским путем из Италии, издалека еще услышал гул голосов. Весь Петербург слетелся поглядеть на нового Антона Некритского. Из Москвы тоже прикатили гости. Глазели не только на картины, но и на него. Как он? Изменился ли после заграничной вольной жизни? Он ловил на себе эти цепкие взгляды и поеживался. Знал, что несколько растолстел, а это при невысоком его росте не шло на пользу. Старался улыбаться, но губы сами складывались в упрямую гримасу. Ее прежде тоже не было – казался веселым и приветливым. И все равно он хорош собой, а два привезенных из Италии автопортрета являют это городу и миру.
Какой-то старичок генерал чересчур близко подошел к его «Танцующим вакханкам» и разглядывал их, прищурившись, через сложенное в трубку приглашение. Очевидно, он вообразил себя на поле боя – с подзорной трубой. И от таких зрителей Антон Некритский тоже отвык. Италия – страна, где даже лаццарони-нищие разбираются в искусстве.
Давний знакомец журналист Фефелов уже что-то строчил в углу, не глядя на картины.
Добрый приятель Некритского граф Воронов, судя по всему специально по случаю выставки приехавший в Петербург, подошел его поприветствовать. В бытность свою в Москве Некритский написал портрет его молодой жены. Это было в самом начале его головокружительной карьеры портретиста.
– А все же моя Катинька вне сравнений! – проговорил граф с лучезарной улыбкой на лоснящемся, почти не постаревшем лице.
А был он лет на пятнадцать постарше супруги. Как-то она? Узнает ли ее Некритский через столько лет? Некогда портрет молодой графини произвел на московскую публику чарующее впечатление. Все стали заказывать портреты «под Воронову», в таком же простом наряде и с наивно-прямодушным выражением лица, что сначала всех изумляло, а потом стало приводить в восторг.
Но он не привык повторяться. Он искал цветовые оттенки и нюансы, передающие впечатление от натуры наиболее выразительным образом. Он вглядывался в глаза, в их разрез, в складки губ, в некое «общее выражение», которое иногда бывает довольно трудно поймать, а еще труднее изобразить без карикатурности и утрировки.
Или дамы высшего света были в России все поголовно прямодушны и искренни, или его душа жаждала в те времена такой безыскусности и простоты, как проста и безыскусна была любимая им в детстве деревенская крестьянская пища, только все его героини избегали манерности и лукавства. И даже при его страсти к разнообразию светские дамы были на его портретах чем-то похожи. Все как бы чуть-чуть витали над землей, о чем-то грезя и мечтая, как грезил в те времена и он сам – все о ней, все об Италии, академическая пенсионерская поездка куда беспрестанно откладывалась. А он мечтал о счастье взаимной любви, которое там непременно обретет!
Не то чтобы в России ему не везло в любви. Скорее он сам отшатывался, страшась сделать какой-то неверный шаг, который снизит, опошлит и огрубит те высокие отношения, которые у него обычно завязывались с женщинами.
Он воспитывался сурово. Сызмальства – в академическом Воспитательном училище, потом в академических классах, похожих на мужской монастырь. И женщины его смущали, пугали и безмерно влекли. И изумляли.
Вот и Катинька Воронова, сидя однажды в кресле, на котором ему позировала, вдруг расшалилась, раскраснелась, стала бросаться в него вишней, лежавшей перед ней на фарфоровом блюде. Одна вишня ударила его по щеке, и он в замешательстве раздавил ее пальцами, так что на щеке остался влажный красный след. А Катинька подскочила и, смеясь, поцеловала его в щеку – как раз в этот след от раздавленной вишни.
Вишня в том году была крупной и сладкой. Но итальянского винограду все равно с ней не сравнить!
Катинька тогда потупилась и на миг застыла с измазанным вишней, приоткрытым от учащенного дыхания ртом. А он сделал вид, что рассердился. Собрал кисти и краски. И ушел. А так хотелось кинуться на колени и признаться в сжигающей его все эти летние месяцы, что жил в имении Вороновых, беззаконной безумной любви. Любви совершенно безнадежной. Но, может быть, не такой уж безнадежной? О, ему было так хорошо мечтать, ложась ночью в прохладную постеленную горничной Дуняшей постель, что Катинька его тоже любит. Но куда ему до нее, замужней и знатной, хотя и очень молоденькой, резвой и шаловливой?
И эта неисполнимость любовных желаний, не она ли прибавила портрету Катиньки Вороновой такой горькой, тайной, такой несказанной прелести? Жемчужно-серые оттенки слегка разбавлялись желто-розовыми, и все в этом портрете было эфемерно, воздушно, сияюще-чисто и бесконечно празднично.
И все женщины на его портретах с тех пор словно бы напоминали эту молоденькую графиню: были с красными, точно измазанными вишневым соком губами, а в круглых жарких глазах читался вопрос. И во всех он был тайно влюблен – иначе и портрета не напишешь! Ему тогда казалось, что портрет должен передавать то, что он испытывал: воспламенять и охлаждать, быть признанием и сохранять дистанцию.
Эта сдержанность нелегко ему давалась, но была залогом его успеха. Его оценили. О нем заговорили. Его полюбили. И он, сын вольноотпущенника – управляющего в имении у бригадира Дучкова, – купался в этой любви, числя в приятелях чуть не весь аристократический Петербург. Да и московские аристократы, взять тех же Вороновых, его хорошо знали и любили.
– Где же Катерина Семеновна? – спросил Некритский у графа. – Или осталась в Москве?
– Отчего же? Она где-то тут. Какая бездна народу! Я сам ее потерял! – Граф беспечно рассмеялся и пошел искать свою Катиньку.
Народ толпился в основном возле вакханок, но привлекал и портрет князя Григория Гагарина – русского посланника в Риме. Обе вещи были явственно другие, отличались от работ прежнего, прямодушного и аскетически-собранного художника. В этих он расковался, дал себе волю, заглянул в какие-то потаенные уголки собственной души. Сама идея танца вакханок, да не академически пристойного, а буйного и исполненного живой простонародной силы, могла прийти в голову только в Италии с ее солнцем и радостным ожиданием вечного счастья.
Оставшиеся в Италии пенсионеры знали, что изобразил он не просто итальянских девушек-натурщиц, которым надо было платить одно-два скудо за сеанс. Обе изображенные были ему близки, вошли в его жизнь. Обе выражали грани той новой эротики, которую он познал в Италии. Изображенная справа черноволосая вакханка с венком из оливковых ветвей на голове и бубном в руке полуповернулась к зрителям, искушая их пронзительным и ускользающим взглядом колдуньи. В Италии верят в сглаз гораздо сильнее, чем в России, и у итальянских красавиц глаза такого рода, что просто пригвождают к месту, в особенности если видишь их впервые. Так и он, едва приехав, сразу был атакован колдовскими взглядами дешевой натурщицы, словно в стоимость ее ремесла входили и любовные игры. С ней он впервые ощутил эту восхитительную поглощенность чувственной стороной любви, свободной от любых обязательств, даже от денег и обетов верности. Эту-то бешеную вакханку он изобразил на своей картине справа, вложив в ее образ всю силу неизвестной в России чувственной упоенности и ядовитой отравы женского колдовства.
Приятели-художники знали, что и левая вакханка писалась с существа, не вовсе ему чужого. Это была тринадцатилетняя девочка, дочка хозяйки, у которой он в Риме снимал апартаменты. Пригласив эту тоненькую, с яркой внешностью девочку попозировать для картины, Некритский в нее отчаянно влюбился и теперь, в России, лелеял планы через несколько лет вернуться в Италию и жениться на все еще юной красавице. Только бы она его дождалась.
И у этой вакханки танец вызвал кипение крови и бурный восторг, хотя проявляла она свои эмоции изящнее, а глаза, которыми первая убивала наповал, кокетливо опустила, что добавляло ее образу лирического очарования.
Вся картина строилась на таких цветовых контрастах, которые прежнему, мягкому, нежному и обволакивающему фигуры неким туманом, художнику и не снились.
Полуденное солнце обострило его зрение. Тут тени, грозно темнея, подчеркивали негаснущее сияние дня.
Да даже и в портрете князя Гагарина ухитрился он уйти от себя прежнего. В российских портретах краски ложились ровно и гармонично, почти не смешиваясь и сияя первозданной чистотой. Теперь было по-другому. Те тени, которые в картине с вакханками указывали на контраст света и тьмы, тут пролегли на челе князя, зачернили впалые щеки, сделали взгляд растерянным и убегающим, как у человека, внезапно потерявшего связь мыслей.
Портрет выдавал усложнение внутреннего мира художника, те тайные страхи и то пристальное внимание к душевной смуте, которые открылись ему в Италии в тоскливые одинокие вечера. В российских портретах все это отсутствовало. Там душа его персонажей, в особенности женщин, была проста и ясна, хотя сама эта ясность таила какую-то волнующую загадку.
На торжественном обеде произносились церемонные речи. Вначале выступил сам Алексей Оленин – президент Академии художеств, с которым перед отъездом в Италию Некритский окончательно рассорился. Поехал он не за счет Академии, хотя имел на это право, а благодаря поддержке меценатов. Но Оленин, всегда напоминавший Некритскому доброго, а чаще злого гнома – росту он был маленького, – словно бы забыл о ссоре. Он восхвалял высокие достоинства итальянских картин Некритского. Но что-то фальшивое и колкое в его речи все же проскользнуло. Оленин как бы мимоходом упомянул, что и до своего пенсионерства в Италии Антон Некритский был гордостью российской Академии. И петербургские учителя учили его, судя по всему (тут он кивнул в сторону итальянских картин), не хуже чужеземных.
Этот тезис подхватили и остальные выступавшие, словно им доставляло удовольствие сталкивать старого и нового Некритского. При этом старый их удовлетворял ничуть не меньше, чем новый. А возможно, и больше.
И когда поутру после выставки, глотнув с перепою холодного квасу, поданного верным Степанычем, Некритский прочитал в «Петербургских ведомостях» злобную статейку Фефелова, где утверждалось, что за годы своего итальянского пенсионерства, он не только ничего не приобрел, но многое утратил, он даже и не слишком удивился этой наглой нелепости. Дикий народ! В живописи ничего не понимают!
Но по какой-то странной связи мыслей он тут же припомнил Катерину Семеновну, милую Катеньку, идущую прямо к нему через полную народу академическую залу, – в светлом платье и точно в каком-то облаке, потому что его глаза мгновенно застлали слезы и он видел ее сквозь их пелену. Она шла и улыбалась, алея губами, столь ему памятными. И как ему безумно захотелось прямо тут, посреди многолюдной гудящей залы, упасть на колени и признаться, что он ее все еще любит и никогда не забывал…
Во Францию
Между шилом и мылом
Начало XX века
Ехать – не ехать? Нашел бы ромашку – погадал. Да все уже давно отцвели: начало осени. Какой, однако, кавардак в голове! Или это от голода? Гнусная, на рынке купленная селедка камнем лежит в желудке. А не надо было есть! Или хотя бы не всю. Но у Николаши другого не допросишься. Одно слово – философ. И жена такая же – витает в облаках. А их с Николашей академический паек они поменяли на дрова. И вот оказалось, напрасно старались! Николашу с супружницей в течение недели выдворяют из страны вместе с другими «врагами режима», то есть недовольными происходящим в нынешней России. Сплавляют на пароходе из Петрограда по особому распоряжению вождя и решению ГПУ. Николаше и размышлять не надо. Не поедешь – расстрел!
А он с кем тут останется? Жена давно в Берлине и шлет ему оттуда истерические телеграммы, требуя денег. Он в Берлин не захотел, заартачился, топнул ногой. Когда жена уехала, он и перебрался поближе к Николаше. В случайно освободившуюся дворницкую – крошечную запущенную комнатушку, но с большим окном. Окно и решило дело: был свет для работы. И вообще стало веселее: не так страшно, не так голодно. Даже начал что-то малевать маслом на каких-то картонках, найденных на чердаке. Николаше понравилось, хотя он и добавлял, что в искусстве не понимает. Ему в искусстве нравится не красота, а свобода. А свобода тут видна!
Но Глеб Натанович знал, что в новых его картинках все дело в радости, а не в свободе. Радости от приобретения более или менее надежного пристанища в ненадежном рухнувшем мире. Его собственный дом – с уехавшей в Берлин женой – таким пристанищем уже не был. Глеба Натановича Армана, известного в академических кругах художника, все последнее время безумно раскачивало, а Николаша был надежный и спокойный – настоящий аристократ. Правда, еще и бесконечно взволнованный. Но взволнованный он был всегда, а не только сейчас. Живя поблизости и дружески общаясь, Глеб Натанович тоже успокаивался. Взбадривался от клубившихся вокруг Николаши людей, от шумных споров, в которых сам он никогда участия не принимал. Его дело – малевать, а не разглагольствовать. И вот – выдворяют из страны! А он-то с кем тут останется?
С начала революции он ощущал себя ребенком, заблудившимся в лесу. Кто выведет? Кто поможет и спасет?
Глеб Натанович провел рукой по волосам, почему-то мокрым. Дождь, что ли? А он и не заметил. Огляделся – ноги сами привели его к Кремлю. А ведь и точно – он хотел поговорить с наркомом Луначарским. И пропуск лежит в кармане. Пусть его тоже внесут в этот проклятый список по линии Наркомпроса. Он уедет с философами на немецком пароходе. С милым Николашей и его безалаберной женой. Анатолий Васильевич его прекрасно знает, ценит его кисть: полгода давал стипендию из своего кармана. Глеб Натанович приходил на квартиру Луначарского, и домработница, найдя его в списке, отсчитывала деньги.
Благороднейший человек!
Тогда-то Глеб Натанович и написал на картонках несколько картин, в основном портретов, купленных Третьяковкой. И как его осенило? Словно революция прибавила ему страсти и напора, какой-то бешеной энергии, которая бурлила рядом, изменив прежнюю размеренную жизнь. А написал он вовсе не вождей, о нет! Старушку из «бывших», мальчишку – разносчика газет…
У мальчишки ему понравились большущие оттопыренные уши, словно паруса, придававшие шагам скорости. А у старушки, уплотненной каким-то нетрезвым людом, были красиво подвитые на стародавний манер белоснежные волосы, словно она носила чопорный парик XVIII века в разухабистой и нахальной послереволюционной Москве. Эти-то картинки не только одобрили в Третьяковке, но и Николаше они показались «свободными», да и сам Глеб Натанович оценил их выше прежних работ, хотя левые критики их изругали.
Проскочил к Луначарскому, минуя секретаря-машинистку, проводившую его испепеляющим взглядом огромных, как у актрисы немого кино, подведенных глаз.
– Куда вы, Глеб Натаныч? Сегодня неприемный день! Анатолий Василич занят!
Луначарский с задумчивым видом пил чай за большим, покрытым скучным сероватым бархатом столом, из граненого стакана с подстаканником, как в поездах дальнего следования. Размешивал сахар маленькой серебряной ложечкой и обмакивал в чай круглую белую сушку. Глаз не было видно, только пенсне загадочно поблескивало. В углу за колонной притаился роскошный концертный рояль, который страшно не соответствовал деловитой строгости кабинета. Там же стояли в рядок массивные золоченные стулья, тоже выпадавшие из общего настроения кабинета.
– Анатолий Василич, дорогой, так как же?
Глеб Натанович настолько был возбужден, что, войдя (скорее ворвавшись) к наркому, забыл поздороваться. Разбитые ботинки оставляли на красной ковровой дорожке мокрые следы.
Луначарский откусил кусочек размоченной сушки, глотнул из стакана чаю и поднял на Глеба Натановича насмешливо-ласковые глаза.
– Ага, это вы! Я переговорил о вашем деле кое с кем. Мне Николай Александрович телефонировал. Так значит, покидаете нас?
Луначарский все еще дожевывал сушку, получая от этого явное удовольствие. Даже глаза прикрывал, как довольный кот. И не забывал отпивать мелкими глотками горячий чай какого-то неестественно-желтого цвета. Морковный, что ли?
У них с Николашей еще осталось от старых запасов немного настоящего байхового. Такого сейчас и не купить! Селедка в желудке Глеба Натановича нервно съежилась. Вот что нужно было съесть на завтрак – сушку – и запить хорошим байховым чаем!
– Е́ду! – удивившим его самого, неестественно высоким голосом выкрикнул Глеб Натанович, словно споря с невидимым собеседником.
Луначарский взглянул на него поверх пенсне. В глазах – сожаление врача, ставящего неутешительный диагноз.
– Тогда, если не трудно, сходите по коридору через дверь. Возьмите разрешение у Давида. Без резолюции ИЗО неудобно, хотя, конечно, я и сам могу. Но неудобно. Он сегодня случайно тут. Вам повезло, что не во Вхутемасе.
Глеб Натанович потрусил по сводчатому коридору, сбивая красную ковровую дорожку и оставляя на ней влажные следы. Давида Петровича он застал уже вышедшим из кабинета, в шляпе и в не по сезону теплой куртке, делающей его птичью фигуру несколько солиднее. Завидев Глеба Натановича, он со вздохом стал открывать дверь в кабинет массивным, бронзового цвета ключом, словно сказочный персонаж, впускающий гостя в волшебную страну.
– Не говорите! Все знаю! Бумаги на вас готовы, – прокричал он каркающим голосом с немыслимым еврейским акцентом, кривя рот в какой-то дьявольской ухмылке. – И куда едете? И зачем? Я-то вернулся из тамошнего рая прямо в канун революции. Только тогда и очнулся! Пришел в себя! Нашел свой стиль! Учтите, будете там на последних ролях. Как это? Парижская школа, французский отстой, еврейский зверинец! А тут, я вам обещаю… И Анатолий Василич к вам расположен… Спору нет, ситуация непредсказуемая…
Выкрикивая все это, подписал резолюцию и выдал ее Глебу Натановичу. Видно, был уверен, что его слова не подействуют.
Тот осторожно взял листок и поспешил к Луначарскому.
Ха-ха, он обещает! А холод? А голод? А Лубянка? Ситуация не просто непредсказуемая, а архинепредсказуемая, как любит выражаться заболевший вождь. Вон даже и Николашу в какой-то момент свезли на Лубянку. Правда, быстро отпустили. А кто поручится, что его не посадят? Жаль, конечно, картин, купленных Третьяковкой, которые будут висеть тут без него. Поразительно, но принимали в Третьяковке как классика, захвалили в первый раз в жизни. Он и прежде не был обласкан критикой. Всегдашний маргинал, не правый, не левый, всегда на особицу, скорее архаист, чем новатор, но и архаист какой-то подозрительный. Весь в своего учителя Валентина Серова, вечного бунтаря. Академики в ужасе отшатывались. А вот в Третьяковке признали за своего, хоть левая критика и напустилась…
К Луначарскому в кабинет прорвался, опять пренебрегая негодующими вскриками секретарши.
Нарком сидел перед огромной кипой бумаг в каком-то философическом оцепенении, склонив лысую голову набок.
– А? Подписал Давид? – ласково проговорил, завидев в дверях Глеба Натановича. – Так все же едете? Жаль!
Пенсне таинственно поблескивает, словно он знает нечто такое, чего Глебу Натановичу никогда не узнать.
– Нет! Погодите подписывать, я сейчас!
Выскочил в приемную, где сидела секретарь-машинистка. Что-то стучала на машинке, зло на него поглядывая. Боже, какие глаза! Кажется, Мейерхольд ее обхаживает, или нет, какой-то другой режиссер, но тоже весьма даровитый. Стриженая, черненькая, одета без вычур. Но что-то в ней есть такое… Не она ли ему снилась все эти месяцы, что он живет в дворницкой вблизи от Николаши и временами таскается к Луначарскому по своим «неразрешимым» бытовым проблемам, которые тот благосклонно решает?
– Вы что-то хотели, Глеб Натаныч?
– Я? Хотел?
Артистичным жестом стряхнул с рукава сильно поношенной куртки мельчайшую пылинку.
– А если?.. Я, знаете ли… А вы такая…
Она со скучающим видом отвернулась к своей машинке. Можно представить, как ей надоели эти липучие интеллигенты!
– Нет, что такое! – в голосе Глеба Натановича, все еще неестественно высоком, послышались возмущенные нотки. – Вы неправильно поняли! Я… Меня вон в Третьяковке приобрели. Сказали, что традиции Врубеля. У меня, кстати, есть польская кровь. Польская и еврейская…
Она хмыкнула, весьма ехидно глядя на него своими огромными, подведенными черным карандашом глазами.
– Так чего же вы хотите, Глеб Натаныч? Это что же – предложение?
– Я? Предложение?
Ясно же, что она над ним издевается!
В полном смятении вбежал в кабинет Луначарского. Надо было еще что-то сказать. Не про картины и Третьяковку. Не про польскую и еврейскую кровь. Сказать: «Я вас люблю, мадам!» А что такого? Даже Гейне, помнится, это говорил. А она – кто-то ему нашептал – и впрямь, кажется, замужем. Не то за Мейерхольдом, не то за Шкловским. Но это все пустяки. Неважно. Теперь неважно. Он ведь тоже женат. Разве это браки? А тут что-то совсем другое. Тут вопрос жизни и смерти. И он бы ее писал. Стриженую. Черненькую. Совсем советскую. Большеглазую. Ослепительную. Советскую Венеру. Писал бы крестьянок в поле, заводских работниц с красными повязками на волосах, волевых и диких женщин – комиссарш. И во всех этих женщинах – ее и только ее! А там, что ждет там, в Париже, который еще недавно так манил? Он представил, как будет тупо ненавидеть всех, кто приехал раньше, кому обломилось, кто успел. Даже какого-нибудь совсем провинциального художника с Украины, никому не нужного и неинтересного. А еще больше будет ненавидеть тех, кто остался. Все бездари, лизоблюды, прихвостни власти! И чрезмерно буйный Шкловский, и чрезмерно шумный Кончаловский, и готовый ко всему приспособиться «революционный» Мейерхольд! И хитрая лиса Луначарский, и дегенеративный Штеренберг!
Луначарский со своего кресла с интересом за ним наблюдал.
Сколько он так простоял, застыв в размышлении? Минуту? Две?
– Подписывайте, Анатолий Василич, е́ду!
– Так все же решились?
Все внутри закричало: «Нет!!! Не хочу! Не надо! Оставьте меня здесь! Дайте мне мамочку, которая будет меня любить и жалеть. И восхищаться. А не эту надменную и насмешливую, прекрасную, как босоногая нимфа на краснофигурном кратере…»
Он приблизился к столу Луначарского, перегнулся через стол (он был высокого роста) и зашептал пересохшими губами:
– Анатолий Василич! Что делать? Вы знаете? Ехать или нет?
Тот поправил пенсне и в некотором смущении отвел глаза.
– Ну, это, дорогуша, у каждого свое. За вас вон Николай Александрович очень хлопотал. Вы из немногих, кто едет по своей воле. Остальных высылают, и бессрочно. А у вас – бессрочная командировка.
– Но вот вы, например, не едете.
И что у него с головой? Луначарский – важный государственный чиновник. У него машина с личным шофером. Доступ в кремлевскую столовую. И в эти, как их? Спецраспределители. И, говорят, жена – красавица-актриса. Он приходит домой из Кремля, оставляет портфель с бумагами в прихожей и начинает ее выкликать в гулкой, избежавшей уплотнения квартире: «Актрисуля моя, ау!»
– Подписывайте, Анатолий Василич, е́ду!
Или еще попробовать? Не сказал каких-то важных слов.
– Минуту, пардон!
Снова выбежал в приемную, сотрясаясь мелкой собачьей дрожью.
Машинистка сидит с обиженным выражением, разглядывая сломавшийся наманикюренный ноготок. Готова расплакаться – видно по лицу.
– Что? Глеб Натаныч, что вам еще?
Уже с какими-то истерическими нотками.
– У Гейне, помнится, есть одна строчка… Вы Гейне читали?
– Читала по-немецки. Я, между прочим, окончила Высшие женские курсы. С отличием. Это здесь я служу секретаршей, и некоторым кажется, что достаточно посулить французские духи…
– Я вас люблю, мадам! – вклинился он, схватившись за сердце, которое вдруг бешено застучало и неожиданно съежилось, совсем как недавно селедка в желудке.
У нее слезы покатились из глаз.
– И всегда, всегда малознакомые люди считают, что можно вот так… Что если я все потеряла – и мужа, и родителей… И если я одинока, то можно просто так взять и оскорбить!
– Я не оскорблял! – запальчиво выкрикнул он. – Я подумал, что я… Я вас действительно люблю! Честное слово! Я даже жене… Бывшей жене… Она в Берлине… Я даже ей никогда не говорил таких слов!
Слезы полились сильнее. Она достала из сумки платок и стала их вытирать.
Луначарский опасливо высунул лысую голову из кабинета.
– Что это у вас тут? Глеб Натаныч, так я подписываю? Вы последний в дополнительном списке.
И к машинистке, другим, почти нежным голосом:
– Кирочка, я вас отпускаю. Домой идите. Сегодня много было нервотрепки.
И снова Арману, строго и деловито:
– Вы единственный художник. Остальные – философы и экономисты. Так что же, подписывать? Решились?