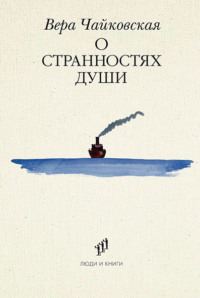Loe raamatut: «О странностях души», lehekülg 3
Глеб Натанович в тоске оглянулся. Серенькая приемная с кожаным черным диваном и немытым тусклым оконцем. В оконце серенький день начала осени с серым давящим небом. Видны сумрачный Успенский собор, часть каменных ворот. В проеме угадываются Верхние торговые ряды, на новоязе ГУМ, – беспокойная громада. Солнечный двор, заросший ромашками, деревянный покосившийся заборчик, слышен надрывный петушиный крик. В тени на веранде столик, а на нем плетеная корзинка с ослепительно-белыми яйцами и кувшин с розовым, вероятно вишневым, морсом. Здоровый румянец няньки, молодой еще бабы. «Яички-то будете на завтрак кушать, Глебушка? Как вы любите – всмятку!»
– Нет! – хрипло закричал Глеб Натанович. – Е́ду, Анатолий Василич, е́ду, дорогой! Вы меня не слушайте. Свяжите, в цепи закуйте, чтобы не сбежал, – и отправляйте!
Секретарша явственно хмыкнула, что, судя по всему, должно было означать крайнюю степень презрения. Быстрым движением, не глядя в зеркальце, подмазала губы, зыркнула в его сторону невероятными своими глазами и удалилась, покачивая бедрами. Будет он ее вспоминать! И слезы. И яростные огненные взгляды. И это ее презрительное хмыканье. Стерва или ангел? Скорее, и то и другое. И как хороша! А в иные минуты – когда расплакалась – просто ужас как безобразна. Но и от этого безобразия захватывает дух!
Луначарский протянул ему бланк с разрешением на выезд.
– Не забудьте, дорогуша, поставить печать при выходе. Счастливого вам пути! Признаться, жаль…
– Счастливо оставаться!
Пулей выскочил из приемной и помчался по белому коридору, словно спешил топиться. Довел бы кто-нибудь в Питере до этого треклятого пароходика! А то ведь сердце екнет – и сбежит в последний момент. А тут, в Москве, – голод, холод и Лубянка. И одиночество. А в других краях? Забвение, полное забвение…
И только это женское лицо, то плачущее, то злое и насмешливое, то обворожительное и детски ясное, – только оно останется в бедной памяти. И весь путь до немецкого Штеттина, а потом в коварном и искусительном Париже в какие-то роковые минуты оно будет всплывать перед глазами – Россия, судьба, покинутая женщина…
В Израиль
Залетейский привет
Конец XX века
Он приехал в Москву внезапно, никого не предупредив. Для Виктории это было тем неожиданнее, что от него почти десять лет не приходило никаких вестей. Она была, как ей казалось, не самой близкой его приятельницей. Правда, их знакомство и общение приходилось на три последних, самых безумных и сумасшедших года пребывания Михаила Кацмана в России.
За все десять лет Виктория получила от него в первые месяцы его жизни в Израиле три горчайших письма. А потом он замолчал.
Уезжая, он говорил, что его волнуют только интересы семьи. Но эти горькие письма показали, что собственная невостребованность (а он был превосходным переводчиком с румынского и венгерского языков) больно ударила по его самолюбию. Работа «погрузчика» (каких-то ящиков с гвоздями) ничего, кроме моральных, да и физических мук, не давала. Но ведь и с семьей были сложности. Устройство детей на престижные факультеты университета требовало больших денег, которых не предвиделось.
Письма кричали о том, что он засомневался в правильности своего решения. Находясь в России, он нахваливал израильскую медицину. Она была важным стимулом и магнитом переезда. Но в одном из этих трех писем он написал, что предпочел бы российское «плацебо» израильским «ядовитым» лекарствам. Нужно очень серьезно заболеть, чтобы там приступили к твоему лечению. Дальнейшее показало, что и очень серьезная болезнь, которая его настигла-таки в Израиле, не поддалась тамошней медицине. Он умер молниеносно.
Виктория, получив эти три письма, сделала для себя неожиданный вывод, что Миша считает ее своей близкой подругой, хотя в Москве они виделись считаные разы. Все больше разговаривали по телефону. Слишком интимными оказались эти письма, слишком исповедальными. Или он написал их ей, потому что больше было некому? Почти все его знакомые разъехались по разным странам. Впрочем, он был ей очень благодарен. Когда-то она откликнулась небольшой рецензией на его перевод незнакомого ей прежде и в этом переводе показавшегося значительным румынского писателя. Кацман тогда позвонил и поблагодарил. Потом они встретились в метро. В Москве стояла роскошная золотая осень. Виктория до сих пор помнит, что носила той осенью черное приталенное пальто и синюю шляпку с полями, очень ей идущую. И он с каким-то явным удовольствием заглянул ей в лицо, затененное этой шляпкой. Она сразу поняла, что ему понравилась. И хотя он был преданнейший еврейский муж и отец, да к тому же на много лет ее старше, ощущение, что он всегда при встречах ею любуется, было ей приятно.
Тогда в метро он подарил ей новую книгу этого румынского писателя. Большую часть рассказов перевел он, но несколько – его напарница. Странное дело, рассказы, переведенные напарницей, ей совсем не понравились. А те, что перевел он, были, на ее вкус, великолепны. Неужели переводы столь ненадежно передают писательскую суть? Неужели Миша «сделал» этого писателя, как, говорят, сделали некоторых поэтов из азиатских республик бывшей империи виртуозные переводчики-евреи?
Потом он писать из Израиля перестал. А она вдруг смогла опубликовать в те далекие девяностые годы один из своих рассказов. Их накопилась целая гора. Но прежде их напечатать было совершенно невозможно, притом что почти во всех рецензиях, присланных из толстых журналов, говорилось, что рассказы хорошие и их опубликует любой другой журнал. Но у них, к сожалению, иная тематика. В наши дни подобного рода отговорка передается бессмысленным словечком «неформат».
В небольшом журнальчике, который и гонораров даже не платил (что было тогда редкостью, а нынче – правилом), опубликовали один из ее рассказов, да еще с фотографией, которую она выбирала с большой тщательностью.
Публикация рассказа даже в таком незатейливом издании казалась ей редкостной удачей. Она сделала ксерокс рассказа (это происходило в докомпьютерную эру) и, не поленившись сходить на Главпочтамт, послала его прямехонько в Израиль Михаилу Кацману.
Уж лучше бы она этого не делала!
Щепетильный и деликатный Миша, которому нравилось до отъезда буквально все, что она ему показывала из ею написанного, тут разразился каким-то грозным посланием, заклиная ее не писать прозы. «Пишите только критические статьи», – яростно наставлял он. Виктории невольно подумалось, что изменение места жительства очень сильно влияет на оценку и тон.
Но главный свой гнев Миша обрушил на фотографию. Кто ее снимал? Почему так неудачно? Это совсем не она! Вот он приедет – и обязательно ее сфотографирует.
Виктория недоумевала. Что ему не понравилось в фотографии? Слишком черный ксерокс ее подпортил, но не убил. Видны были живые глаза, улыбчивый рот, взлохмаченная прическа.
Самое поразительное, что когда Михаил Кацман через десять лет после отъезда впервые приехал в Москву (это было за полгода до его мгновенной неизлечимой болезни), он чуть ли не на следующий день позвонил Виктории, что хочет ее сфотографировать.
К тому моменту он уже успел устроиться работать в школьную библиотеку небольшого израильского городка. Но прежнего добродушно-спокойного Мишу она не узнала. Внешне он почти не изменился – большой и широкоплечий, с густой гривой седых волос, – но в нем теперь словно всегда клокотала какая-то злая энергия. Это Виктория почувствовала сразу при встрече с ним на одной из станций метро – как в тот, первый, раз. Но теперь он не смотрел на нее доброжелательным взглядом, а точно прожег насквозь и даже из вежливости не сказал, что она хорошо выглядит. Они вместе доехали до «Красных ворот», где у выхода она договорилась встретиться еще с одним своим знакомым, чтобы вернуть ему статью.
Этот знакомый (он был профессиональным философом) в своей статье полемизировал с Фрейдом, считая его теорию «слишком литературной». Строгая наука говорит о генезисе любовного чувства совсем иное.
Виктория самонадеянно вступила с ним в спор (она-то не была профессиональным философом!), исчеркав рукопись карандашными пометками. Суть замечаний сводилась к тому, что «литературщина» Фрейда убеждает ее гораздо сильнее, чем все «научные» (научные ли?) аргументы. Она явно шла на разрыв, в то время как автор, судя по всему, надеялся на развитие отношений. Прежде он дарил ей свои брошюрки о любви, а теперь дал прочесть неопубликованную рукопись. В координатах «ученой» любви это, вероятно, означало почти объяснение.
Когда Виктория с Мишей подошли к «ракушке»-выходу, философ, невысокий человек с нервным, искривленным капризной гримасой лицом, уже там стоял. При виде Виктории со спутником богатырского сложения и на голову его выше он скривился еще сильнее.
Виктория простодушно хотела совместить две встречи. Но вышло что-то почти фрейдистское. Словно она бессознательно отгораживалась от философа с помощью Миши, выступившего в роли любимого отца.
Мужчины злобно поглядели друг на друга. Виктория вынула из сумки сложенную рукопись и без слов отдала ее философу. Все, что она имела сказать, она написала на полях. Ее возмущение этой «ученой» любовью достигло таких пределов, что она не желала больше получать ни брошюрок, ни рукописей. К счастью, философ это понял, и Миша этому удачно поспособствовал.
На Кацмана эпизод с безмолвной передачей рукописи произвел самое благоприятное впечатление. Он приосанился и повеселел. И даже перестал ей делать мелкие раздраженные замечания: почему она идет не с той стороны? почему споткнулась? почему опоздала на две минуты?
Он захотел ее сфотографировать прямо у «ракушки». Но народу там было так много, что решили все же дойти до ее дома.
Мама была еще жива и приняла Мишу за своего давнего знакомого по эвакуации военных лет в Среднюю Азию, чуть ли не за Эдди Рознера. Но Миша так был сосредоточен на идее «правильной» фотографии, что даже не заметил этой смешной и грустной невольной путаницы.
Он так долго усаживал Викторию в кресло, что она разволновалась и потеряла свой обычный немного задиристый вид. Тут-то Миша ее и щелкнул, сверкнув острым прищуренным глазом…
Сообщение о его смерти Виктория получила от их общего знакомого. А еще через некоторое время пришла в конверте фотография, сделанная Мишей в тот первый и, как оказалось, последний его приезд из Израиля в Москву. Вероятно, он успел кого-то из родственников попросить, чтобы ее послали. Фотография была очень странной.
Лицо оказалось в тени, едва можно было разглядеть чуть поблескивающие удивленные глаза. И вдруг у Виктории сжалось сердце и слезы побежали по щекам, словно Миша из тех незнаемых смутных мест послал ей последний привет, запечатлев ее такой или почти такой, какой запомнил после первой встречи. В той самой синей шляпке с полями, затеняющими лицо…
Две новеллы
Из цикла «Движение времени»
Княжна Зизи
В своем еще почти ребяческом возрасте граф Николенька Бахметьев имел удовольствие отдыхать на даче у маменькиных родственников, пренеприятных, между прочим, людей, о чем он догадывался даже в столь юные лета.
Мадам тетушка, как называл ее про себя Николенька, была глупа и сварлива. Ее супруг, маменькин двоюродный братец, находился в полном ее подчинении. На лице его застыло какое-то угодливо-просительное выражение. И только впоследствии Николенька понял, что маменькин братец непереборимо хотел выпить винца, а так как ключи от винного погреба находились у мадам тетушки, у него и возникло на лице столь прискорбное выражение. Николеньку он не замечал и всегда был погружен в какие-то свои заботы – потом-то повзрослевший Николенька понял, что заботы опять-таки кружились вокруг пресловутого погребца и хозяйских ключей. Классик уже восклицал, что жить на свете скучно. Речь, конечно же, шла о взрослых, потому что Николеньке жизнь вовсе не казалась скучной. И было на даче еще одно существо – воспитанница, которая на взрослое окружение совсем не походила. Мадам тетушка называла ее Зизи. Говорили, что она хорошего княжеского рода, но обедневшего. Превратности судьбы забросили девочку-сироту к Зарайским.
Было ей к моменту приезда Николеньки уже лет тридцать, если не больше (это Николенька вычислил, изрядно повзрослев). Но тогда он не разбирался в возрастах. На его вкус, Зизи была прелестна – с круглым розовым лицом, горячими и тоже круглыми карими глазами и темными локонами вокруг маленькой головки. Да еще с осиной талией, стремительными движениями, глухим, с томительной хрипотцой, голосом и постоянно с книгой в руках – каким-нибудь иностранным романом. Мадам тетушка заставляла Зизи разливать чай или вышивать, а та предпочитала читать свои романы или играть с Николенькой. Мадам тетушка, глядя на эти игры, с неодобрением называла Зизи дикаркой.
Они оба любили бегать по саду, качаться на качелях, есть малину прямо с куста, играть с охотничьими собаками Зарайского и читать вслух привезенные из города альманахи, которые мадам тетушка и даже маменька только лениво пролистывали. Зизи еще любила по ним гадать. Спросит у Николеньки две цифры, откроет роман на этой странице, отыщет абзац и торопливо, волнуясь, прочитает про себя таинственное предсказание.
Однажды Николенька услышал, как мадам тетушка, указывая глазами на пробегавшую мимо порозовевшую запыхавшуюся Зизи, сказала маменьке, что с воспитанницей дела совсем плохи. Ее уже несколько раз сватали за достойных, правда немолодых, губернских чиновников с небольшим, но верным капиталом (сама-то она бесприданница), а она всем отказывает наотрез. Тут тетушка сослалась на повесть одного новейшего сочинителя, напечатанную в предыдущем альманахе. В отличие от других сочинений эту можно было прочитать не уснув. И очень жизненно, точь-в-точь о нашей Зизи. Героиня все прыгала да скакала от одного к другому, а в конце сказала герою: «Все кончено. Мне уже сорок». А дурачина-герой в два раза ее младше!
Тут обе – мадам тетушка и маменька – превесело расхохотались. Мадам тетушка расхохоталась аж до слез и потом сильно закашлялась.
Николенька в тот же вечер подбежал к сидящей на скамейке с книгой Зизи и срывающимся голосом выкрикнул, что собирается на ней жениться. Пусть она его подождет.
– И долго ли ждать? – не отрывая глаз от книги, томным голосом с волшебной своей хрипотцой, проворковала Зизи.
– Лет десять. – Николенька не очень понимал, много это или мало. – Я окончу военное училище и на вас женюсь. Не выходите и впредь за этих противных старичков с небольшим капиталом.
– Ах, вы и это знаете! – рассмеялась Зизи, отбросив книгу. – А знаете ли, шалунишка, сколько мне тогда будет лет?
И пристально на него взглянула карими своими глазами, отчего у него жарко стало в груди.
– Мне это не важно! – снова выкрикнул Николенька. – Это пусть мадам тетушка с маменькой считают года. А я вас полюбил навечно.
Зизи резво вскочила и закружила Николеньку вокруг своего розового шелестящего платья, смеясь и шутливо грозя пальцем.
– Помните же, Николенька, свое обещание, данное бедной девушке-сироте. Я вас буду ждать. Вот вам мой зарок. – И склонившись (она была вдвое его выше), Зизи поцеловала его куда-то в переносицу, сотрясаясь от неудержимого смеха…
Ах, господа, сочинитель догадывается, чего вы от него ждете. Как через десять лет романтический юноша в военном мундире прибыл на дачу Зарайских. И побледневшая, осунувшаяся Зизи, выйдя на крыльцо, сказала ему монотонно, без прежней обворожительной хрипотцы в голосе: «Все кончено, Николай. Мне уже сорок». И бедный юноша удалился в смятении чувств. И ведь уже был, был такой финал у этого, как его?.. У знаменитого писателя-фантазера Владимира Одоевского.
Но получилось не так или не совсем так…
Прошло много лет. Гораздо больше, чем десять. Николай Бахметьев, артиллерийский полковник в отставке, женатый на бывшей фрейлине императрицы, проезжал по делам, связанным с оформлением нового поместья, мимо имения Зарайских, о которых он с тех самых пор ничего не слыхал. И, вспомнив отрочество и радостное возбуждение, владевшее им в то лето, решил заехать к забытым родственникам. Кучер довез его до их имения.
На крыльце несколько принаряженного и свежевыкрашенного дома появился степенный долговязый человек, в котором Бахметьев без труда узнал хозяина, хотя и поседевшего, но сохранившего на лице все то же запомнившееся Бахметьеву выражение. Из разговора выяснилось, что прежняя жена его умерла, а нынешняя, судя по всему, так же зорко следит за ключами от винного погребца.
– Возмужал, что и говорить, – басил хозяин, который, оказывается, тогда его все же приметил.
Но на самом деле Бахметьев не просто «возмужал», он стал совершенно другим человеком и о детстве и отрочестве вспоминал как о чем-то, что было не с ним. Он стал взрослым, то есть избавился от тех романтических химер, которыми были богаты стихи и проза альманахов, некогда доставляемых в эту глухомань.
– А где же Зизи? – спросил он, внезапно очень отчетливо представив кареглазую красавицу с ее стремительными движениями и веселой простотой обращения, в невинных и бурных играх с которой он провел, должно быть, лучшее лето своей жизни.
Зизи тогда уже была не юна, а сейчас и вовсе старушка. Он не без тревоги думал, что сейчас ее увидит.
Но Зарайский ответствовал, что Зизи давно не живет с ними. Она вышла замуж за соседа-помещика. Прекрасная партия! Он – известный стихотворец, Пичугин Андрей Егорович, – не слыхали? В «Сыне Отечества» публиковалась его ода на восшествие на престол императора Николая Павловича. Это, правда, было давненько, сейчас он пишет басни на манер Крылова.
Бахметьев, конечно же, не слыхивал такого поэтического имени. Впрочем, он теперь редко заглядывал в журналы.
– А где живет княгиня? – спросил Бахметьев несколько упавшим голосом, не зная, что еще сказать.
Оказалось, что живет совсем поблизости. Через лесок. И Андрей Егорович самолично часто приходит к ним читать свои сочинения.
«Может, съездить?» – пронеслось в голове у нашего героя. И прежняя шальная ребячья радость, давно, кажется, утихшая, снова в нем забурлила.
«Поеду погляжу», – решил он. Хотел ли он увидеть Зизи изменившейся или все той же, прежней, – он и сам не знал.
Недовольный задержкой кучер повез его «через лесок» в имение Пичугиных Раздольное.
По дороге Бахметьев все больше жалел о своем мальчишески глупом решении. К чему ворошить прошлое? Зизи может его просто не узнать и даже не вспомнить.
Да было ли в нем, теперешнем, хоть что-нибудь от того петушистого Николеньки? Даже это уменьшительное имя давно отошло в прошлое. Жена называла его Николасом.
В леске гуляла дама под светлым розовым зонтиком. Бахметьев велел кучеру остановиться и спросил даму, высунувшись из окошка, правильно ли они едут в Раздольное.
Спрашивая, он не смотрел на даму из особого рода вежливости, но, застигнутый ее пристальным вопрошающим взглядом, вгляделся.
Они одновременно кинулись друг к другу, причем Бахметьев сильно стукнулся ногой о ступеньку кареты, не почувствовав боли.
– Зизи!
– Николенька!
Зизи уронила зонтик, он его поднял, но, отдавая, снова споткнулся ушибленной ногой о корягу, и они оба со смехом свалились в траву.
– Как прежде, – смеялась Зизи, оставшаяся такой же хохотушкой, но теперь оказавшаяся вдвое ниже его ростом. – А я вас, между прочим, ждала гораздо раньше.
– Виноват, – полушутя-полусерьезно оправдывался Бахметьев. – Детство так отдалилось, что все тогдашние зароки стали казаться неправдой.
Зизи поднялась с травы, все еще похохатывая.
– Вы женаты, Николенька?
– Да. И давно.
– Счастливы?
Бахметьев помедлил с ответом.
– Не знаю, что и сказать, как-то не думал об этом. Разве дело в счастии? А вы, Зизи? Я слышал, что вы замужем за поэтом.
Она, смеясь, покачала головой.
– Увы, не Лермонтов.
– Ну, Лермонтовых единицы, – какие банальности слетали у него с языка!
– Пойдемте к нам в дом! Познакомлю с мужем и воспитанницей, – не очень уверенно сказала Зизи, смешно размахивая зонтиком. – Как странно, еще сегодня, гуляя, я о вас вспоминала…
Сначала он подумал, что она очень изменилась, подурнела, поблекла. Но сейчас уже этого не находил. Как-то перестал видеть детали облика, а увидел радостное, живое сияние глаз, некогда в юном возрасте его покорившее.
– О нет, – отмахнулся Бахметьев. – Спешу по делам. Хотелось лишь вас повидать.
– Вот и повидались! – радостно похохатывая, подхватила Зизи. – Я почему-то знала, что встретимся. Не разочаровала?
Бахметьев промолчал, хоть это и было невежливо. Но она ведь прекрасно видела, что не разочаровала. Потому и смеялась, хотя было в этом неудержимом смехе что-то почти истерическое.
– А вы, Николенька, все такой же!
– Нет, Зизи, я другой. Вы даже не представляете, до чего я другой!
– Вы меня, Николенька, уж точно не разочаруете. И не надейтесь!
Он махнул ей рукой и скрылся в карете. На лице дрожала легкая улыбка, постепенно перешедшая в гримасу боли.
Кучер взглянул на него с удивлением.
– Ногу ушиб, – пробормотал Бахметьев. – Надо бы протереть одеколоном.
На лодыжке и впрямь виднелась ранка.
Кучер повернул от Раздольного в сторону большого тракта. А Бахметьев думал, что то отроческое впечатление, как ни странно, его не обмануло. И благодаря ему он на всю жизнь получил представление о какой-то вечной, идеальной любви, представление вполне астральное, словно бы возникшее вне эпохи и времени, не имеющее никакого отношения к его реальной взрослой жизни. Но было во всем этом нечто необыкновенно возвышающее жизнь, делающее ее космической, бесконечной, таинственной. Он подумал, что Зизи сейчас, скорее всего, горько, по-детски безутешно рыдает, уткнувшись лицом в траву. Но ведь и счастлива – ее не забыли. Не забыли! Он тут же вспомнил ее вопрос о счастии. Ведь и ему после этой встречи стало нестерпимо тяжело, словно он его бездарно проворонил. Тяжело, но и как-то отрадно. Он понял, что то, прежнее, солнечное, сулящее радость и освобождение, в нем живет. Не умерло!
Колеса скрипели, а кучер, молодой вихрастый парень, тихонько затянул старинную ямщицкую песню о дальней дороге, удалом разгулье и сердечной тоске, которые были хорошо знакомы и давнему ее сочинителю, и ему самому, и уже седеющему хозяину кареты…