История России. Московско-царский период. XVI век
Tekst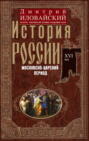


Mine üle audioraamatule
- Maht: 1040 lk. 2 illustratsiooni
- Žanr: Vene ajalugu, populaarne ajalugu, Vene klassika
Обратимся теперь к Люблинской унии.
По мере того как бездетный Сигизмунд Август приближался к старости и ясно становилось, что вместе с ним должна угаснуть литовско-польская династия Ягеллонов, все более и более выдвигался тревожный вопрос о дальнейшей судьбе единения Польши с Литвой. Начиная с Казимира IV Литва и Польша фактически уже более ста лет имели одного государя, за исключением короткого промежутка (при Яне Альбрехте и Александре). В особенности два таких продолжительных царствования, как Казимира IV и Сигизмунда I, много содействовали тесному сближению обеих половин соединенного государства или, вернее, подчинению литовско-русских земель польскому влиянию. Сигизмунд I еще при жизни своей короновал своего сына и великим князем Литвы, и королем Польши, чтобы обеспечить ему наследование в обеих странах и вместе упрочить их политическое единство. Это единство, доказав на деле свою пользу в случаях борьбы с сильными соседями, составляло теперь насущную и взаимную потребность обеих стран. Но отношения их к вопросу о самой форме единства были различны. Меж тем как литовские чины довольствовались одним внешним союзом или чисто личной унией, то есть совмещением обеих корон на одной голове, и старались удержать свою самостоятельность во внутренних делах, поляки, наоборот, стремились к полному слиянию обеих стран в одно государственное тело с общими правами и учреждениями. В сущности, они стремились к господству в обширных и благодатных литовско-русских землях. Отсюда в царствование последнего Ягеллона происходит любопытная и деятельная борьба, исход которой, впрочем, не трудно было предвидеть, если, с одной стороны, взять в расчет замечательное единодушие поляков в этом деле, а с другой – отсутствие единодушия между чинами собственно литовскими и западнорусскими и недостаток политического центра, около которого они могли бы сосредоточиться. Сама Ягеллоновская династия ополячилась и еще ранее склоняла решение вопроса в польскую сторону (например, акт унии 1501 г., изданный королем Александром); а теперь в лице своего последнего представителя явно стала на ту же сторону, чем дала ей решительный перевес. Наконец, ничем не огражденное географическое положение Литовско-Русского государства, между Польшей и надвигавшей с востока Москвой, заставляло его возможно скорее и теснее примкнуть к первой, чтобы опереться на нее в борьбе со второй.
Вопрос об окончательной унии или полном слиянии обеих стран неоднократно возбуждался на вольных или общих сеймах; но стараниями противников унии решение его постоянно откладывалось на будущее время. Наиболее важный шаг в этом деле представляет Варшавский сейм конца 1563 и начала 1564 года. Здесь поляки и литвины горячо спорили о разных пунктах своей унии. Под влиянием внешней опасности от московского царя и особенно утраты Полоцка, взятого войсками Ивана IV, литвины пошли было на уступки. Но вот пришло известие о победе литовского гетмана Радзивилла над москвитянами на берегах Улы; литвины сделались менее сговорчивы и в особенности упорно стояли за Волынь и Подлесье, тогда как поляки требовали включения их в земли польской короны. Сигизмунд Август на этом сейме отрекся от своих наследственных прав на Литовское великое княжение в пользу той же польской короны и таким образом им обоим предоставил после своей смерти вольный выбор государя. Сим отречением он хотел облегчить дело унии или, как выразилась его декларация по сему случаю, zwalic ten pien’ z drogi («убери этот пень с дороги»). В дополнение к сему акту на том же сейме издан был подписанный королем так называемый «Варшавский рецесс», которым определены условия слияния Литвы с Польшей и который лег в основу дальнейших переговоров об этом вопросе. Но всем подобным актам недоставало формального утверждения со стороны литовских чинов.
Магнаты литовские противились полной унии по следующим главным причинам. Эти вельможи еще в значительной степени сохраняли свое положение крупных феодальных владетелей в Литве; а потому, в случае уравнения прав с поляками, они, во-первых, утратили бы свои наследственные права на участие в королевской раде или сенате, так как в Польше звание сенатора или давалось королем пожизненно, или было связано с достоинством епископским. Во-вторых, второстепенная и мелкая литовская шляхта, или так называемые земяне и бояре, будучи уравнены в правах с польской шляхтой, приобретали ее льготы и вольности, а следовательно, получали более независимое положение по отношению к своим феодальным сеньорам, то есть к литовским магнатам; почему эта шляхта в вопросе об унии тянула на сторону поляков, но не выступала решительно против своих вельмож, привыкши находиться у них в подчинении. В-третьих, литвины, равно знатные и незнатные, опасались наплыва в свою страну поляков, которые бы стали перебивать у них придворные и земские уряды и староства. Во главе чисто литовской партии, противной слиянию, стоял тот же Николай Черный Радзивилл, который был главой литовских протестантов. Благодаря его энергии и личному влиянию на короля эта литовско-протестантская партия доселе успешно отстаивала самобытность Литвы от польских притязаний. Но в следующем, 1565 году, как известно, он умер, и, хотя вождями ее оставались еще такие значительные и влиятельные лица, как двоюродный брат его Николай Рыжий, староста жмудский Ян Ходкович и подканцлер литовский Евстафий Волович, однако дробление протестантов на секты, а вместе и ослабление союза с ними русских православных вельмож все более и более выступали наружу. Дело унии пошло быстрее. Король окончательно подпал под влияние партии польско-католической и принялся действовать в пользу слияния Литвы с Польшей не только усердно, но и с необычным ему постоянством, почти с той же твердостью воли, которую он прежде проявил в вопросе о своем браке с Варварой Радзивилл. Ясно, что при его природных способностях, если бы он получил лучшее воспитание и направление, вместо ленивого, изнеженного человека, из него мог бы выйти замечательный государь26.
Еще около трех лет на разных сеймах длились переговоры и совещания об унии. Король и польско-католическая партия решили во что бы то ни стало привести это дело к окончанию на том вольном или большом сейме, который был созван на 23 декабря 1568 года в городе Люблине.
Медленно и неохотно съезжались сюда литвины, предвидя утрату своей самобытности. Поэтому открытие сейма состоялось только 10 января следующего, 1569 года. В этот день польские послы представились королю; причем выбранный ими посольским маршалом коронный референдарий Станислав Чарнковский от имени послов говорил его величеству длинное и высокопарное приветствие, в котором главным образом указывалась необходимость полной унии и выражалась надежда на немедленное ее завершение. В следующие дни посольские сенаторы, совместно с послами, совещались, каким образом начать с Литвой дело об унии, и выбрали из своей среды для этого дела нескольких депутатов, в том числе архиепископа Гнезненского Уханского, епископа Краковского Падневского и канцлера Дембинского. Но литовские сенаторы в начале сейма под разными предлогами уклонялись от общих заседаний с польскими сенаторами и вели свои отдельные заседания в другой зале. На приглашение польских сенаторов прийти в общую залу, в которую двери для них отперты, воевода виленский, Николай Радзивилл, вежливо ответил, что «действительно двери отперты, но их преграждает решетка, через которую мы никак не можем пройти к вам, разве король снимет ее». Под этой мысленной решеткой разумелись польские посягательства на литовскую самобытность, которые должны быть устранены королем; другими словами, магнаты литовские только тогда соглашались приступить к переговорам об унии, когда король, подобно своим предшественникам, обяжется сохранить в целости границы Литовского государства (со стороны Польши) и подтвердить их статутовые права относительно того, чтобы чины, должности, аренды и наследственные пожалования не давались чужеземцам (т. е. полякам), а давались бы только природным литвинам и русским. Сообразно с сим, литовцы представили сейму письменное заявление о тех условиях, на которых они согласны заключить унию: 1) Свободный выбор государя общим сеймом, который должен происходить где-либо на границе Литвы с Польшей. 2) Отдельное коронование его в Кракове королевской, а в Вильне великокняжеской короной, вместе с присягой на сохранение литовских привилегий. 3) Оборона обоих соединенных государств общими силами. 4) Бальные сеймы должны происходить по очереди то в Польше, то в Литве. 5) Отдельные высшие чины и должности сохраняются в Литве неприкосновенно. 6) Поляки в Литве и литвины в Польше могут приобретать движимое и недвижимое имущество, но всякие светские и духовные должности и земские уряды в Литве могут занимать только ее уроженцы. 7) Монета отдельная, но одинаковой стоимости, и прочее. К своему заявлению литовцы приложили выписки из привилегий, данных им великими князьями Казимиром (1452), Александром (1492), Сигизмундом I (1506 и 1529) и Сигизмундом Августом (по второму статуту). В этих выписках повторялось обязательство не умалять Великое княжество Литовское ни в его достоинстве и прерогативах, ни в его границах. При сем литовцы просили поляков, чтобы те также письменно изложили им свой проект унии. Просьба эта повела ко многим и весьма оживленным пререканиям между польскими сенаторами и послами.
Сенаторы, со своей стороны, составили ответную записку, в которой указывали на другие акты и привилегии прежнего времени, преимущественно на Городельскую унию Ягелла и Витовта, на привилегии Александра 1501 года и на Варшавский рецесс 1564 года, на основании которых и сочинили проект слияния Литвы с Польшей. Но в посольской избе эта записка вызвала сильные разногласия: одни соглашались на нее; другие не хотели давать никакого письменного ответа литовцам; называя такую переписку проволочкой времени, они требовали, чтобы литовцы сами явились в общие заседания и здесь непосредственно совещались об унии, к чему хотели принудить их с помощью короля; третьи по своему усмотрению переделывали сенаторский проект. На заседании 8 февраля, когда посольский маршал Чарнковский склонял послов согласиться на проект сенаторов, краковский писарь Кмита прервал его и начал говорить, что на том останется пятно, кто желает записи. Произошел шум; чтобы водворить тишину, Чарнковский стучал своим жезлом. «Не стучи палкой, – закричал Кмита, – у меня есть сабля против этой палки!» Маршал вскочил с места, говоря: «Достанем и саблю», и бросил жезл. Поднялось большое и продолжительное смятение. Когда оно успокоилось, стали собирать голоса, но по разногласию не могли прийти к какому-либо решению; с тем и пошли наверх, в сенатскую палату. Тут сенаторы стали упрекать их в упорстве, в неуважении к сенату, в напрасной трате времени и в стремлении «все утверждать на своих головах» (т. е. все решать самостоятельно, без сената). А краковский епископ сказал им: «Вы шесть лет рядили делами (вместо сената). Горько нам от вашего ряду!» Споры о записи продолжались и в следующие дни; послы не однажды без всякого окончательного решения ходили наверх к сенаторам и заводили с ними пререкания. Сенаторы, в свою очередь, продолжали сетовать на их упорство. Так, однажды сендомирский (сандомирский) воевода Петр Зборовский произнес, между прочим, следующие пророческие слова: «Все мы (сенаторы) и многие из послов согласились на одно, а несколько человек протестует! Это самый дурной пример! Если кто впоследствии пожелает чего-либо наилучшего и на его сторону склонится самое большое число послов, а несколько человек вдруг выскочит и станет протестовать, то так и придется оставить доброе дело! Господа, дурно это!» Однако споры продолжались. Наконец, утомясь ими, 12 февраля послы согласились, чтобы литовцам были предоставлены все относящиеся до унии привилегии старого времени, особенно Александрова грамота 1501 года и Варшавский рецесс 1564 года, а также и запись или проект унии, составленный согласно старым привилегиям. Затем пригласили литовских сенаторов, и тут епископ Краковский, от имени польского сената, держал к ним пространную ответную речь. Он указывал на прежние договоры и клятвы относительно унии и вообще проследил почти всю ее историю со времен Ягелла; напирал на то, что с тех времен Литва устроивалась по образцу Польши, а если и бывали отдельные великие князья в Литве, то они, в сущности, являлись пожизненными наместниками польских королей, и что предки литвинов всегда признавали унию.
На эту речь виленский воевода Радзивилл заметил, что она длинна и красноречива, запомнить ее трудно, а потому просил сообщить ее на бумаге. Староста жмудский Ходкович, намекая на королевский акт отречения 1564 года, выразился иронически: «Если мы вам подарены, то к чему же вам еще уния с нами?» На это Радзивилл горячо возразил, что они люди вольные и никто подарить их не мог. «Господам полякам, – прибавил он, – Литва дарила собак, жеребцов, маленьких жмудских лошадей, а не нас, свободных людей. Наши вольности мы приобрели нашею кровью». Литовские сенаторы удалились в свою залу заседания. По их просьбе польские сенаторы обещали им прислать речь епископа Краковского, когда она будет написана, а теперь сообщили им запись или свой проект унии. Автором его был тот же епископ Краковский Падневский; но проект этот подвергся некоторым исправлениям со стороны земских послов. Главные пункты его были следующие: король Польский избирается общими голосами Польши и Литвы, но избирается только в Польше. Он будет миропомазан и коронован в Кракове, а особое избрание и возведение на литовский престол прекращается. Бальный сейм – один общий; сенат также; монета также. Поляк в Литве и литвин в Польше может занимать какие угодно должности и приобретать какое угодно имущество. Но на Литву не простирается экзекуция касательно столовых королевских имений, пожалованных во временное владение. В ответе своем на этот проект литовские сенаторы по поводу предлагаемой им братской унии и любви откровенно говорили: «Если слить Литовское княжество с королевством, то не будет никакой любви, потому что в таком случае Литовское княжество должно поникнуть перед Польшей, литовский народ должен был бы превратиться в другой народ, так что не могло быть никакого братства. Тогда бы недоставало одного из братьев, то есть литовского народа, что явно из самой записки вашей, господа, данной нам». Crescit Ansonia Albae minis (Рим растет благодаря развалинам Альбы). Далее литовцы вновь излагают свои вышеприведенные пункты, на которых должна быть основана уния. При сем, в отпор противному мнению, что со времени Ягелла великие литовские князья были только пожизненными наместниками польских королей, они стараются доказать, что Ягеллоны были не просто наследственными государями Литвы, а подвергались избранию жителями великого княжества; что власть их в Литве отнюдь не была неограниченная, потому они при своем возведении на литовский престол присягали сохранять права и привилегии княжества, чего обыкновенно не делает наследственный (и абсолютный) государь.
Ответ литовцев произвел неодинаковое впечатление на польских сенаторов и на послов. Меж тем как первые сохраняют более мягкий и умеренный тон и желают вести переговоры далее, последние выказывают более горячности и настаивают на прекращении бесплодных переговоров и на прямом вмешательстве королевской власти, которая приказала бы литвинам занять свои места на общем сейме и просто принудила бы их к унии. При сем самыми ревностными сторонниками унии являются послы русского воеводства, то есть галичане, с перемышльским судьей Ореховским во главе: понятно, что, раз включенные в состав польской короны, они желают иметь в тесном единении с собой и другие русские земли, а не быть отделенными от них государственной границей. На сейме пока еще не выступает открыто вопрос о присоединении Волыни к землям польской короны, чтобы сразу не испугать литвинов; но вопрос этот уже обсуждается в закрытых заседаниях. Литовцы хотя сами в них не участвуют, но очевидно получают сведения обо всем, что происходит на сейме: посему сенаторы польские некоторые свои совещания облекают особой таинственностью. Те же меры, по желанию короля, предписаны и посольской избе, то есть воспрещен доступ в нее посторонним лицам. Но в свою очередь, хотя король действует заодно с поляками, однако некоторые литовские вельможи продолжают пользоваться его благосклонностью, каковы Радзивилл, Ходкович и Волович. Литовские сенаторы иногда приезжают к королю для тайных совещаний.
Тщетно поляки продолжают указывать на унию короля Александра и на Варшавский рецесс: литвины не признают этих актов, говоря, что они были изданы без согласия литовских чинов. По настоянию посольской избы король наконец 28 февраля, в понедельник, посылает приказ, чтобы литовские сенаторы заняли свои места в сенате вместе с поляками и литовские послы в посольской избе. На этот приказ виленский воевода Радзивилл ответил: «Если поедем, то к королю, а не к польским сенаторам». То же ответил жмудский староста Ходкович. Князь Василий Острожский, воевода киевский, сказал: «Сегодня не можем собраться, потому что послы наши стоят по деревням». Однако все согласились приехать в замок завтра, то есть во вторник, 1 марта. Но утром этого дня, когда польские сенаторы и послы собрались в своих палатах и ожидали прибытия литвинов, вдруг пришло известие, что сии последние ночью внезапно покинули Люблин и разъехались.
Представители Литвы, очевидно, рассчитывали своим удалением смутить короля, расстроить сейм и затормозить дело унии или заранее не признать законным все, что будет постановлено в этом смысле при их отсутствии. Но они на сей раз жестоко ошиблись в своих расчетах. Напротив, пока велись с ними переговоры, поляки, особливо сенаторы, действовали довольно мягко, с соблюдением правил вежливости и предупредительности по отношению к своим литовским товарищам. Теперь же, наоборот, и сенаторы, и сам король с большей энергией принялись приводить в исполнение намеченные планы, находясь под сильным давлением посольской избы, которая настойчиво понуждала их к действию, горячо протестовала против всяких уступок и проволочек и советовала поступать с уехавшими без королевского разрешения литовцами как с мятежниками. Некоторые послы предлагали даже принять военные меры, послать к татарам, чтобы отклонить их от союза с Литвой, а в случае дальнейшего ее упорства собрать посполитое рушение и оружием принудить ее к унии. Но подобные предложения вызвали вопрос о сборе денег на войско со шляхетских имений, что немедленно охладило рвение к военным предприятиям. Тем не менее в следующие за отъездом литовцев дни состоялась весьма важная и решительная мера: Подлесье и Волынь отделены от Литвы и присоединены к землям польской короны. В королевском универсале по этому поводу говорилось, впрочем, не о присоединении, а о «возвращении» их Польскому королевству от Великого княжества Литовского, которое владело Подлесьем и Волынью будто бы «не по какому-либо законному праву», а просто по снисхождению польских государей.
Оказалось, что не все литовские сенаторы и послы уехали из Люблина. Некоторые еще оставались, особенно подлесяне, которые и получили от короля приказание немедленно занять свои места на сейме между поляками, принеся указанную присягу польскому королю. Они повиновались, но просили при сем не требовать от них немедленной присяги, пока не будут обдуманы меры для защиты их от мести литовских сенаторов. Просьба эта не была уважена, и подлесяне, хотя неохотно, присягнули. Один из них, писарь литовский, староста Мельницкий Матишек, попытался было уклониться, говоря, что он уже присягал королю, как великому князю Литовскому, и что не годится присягать вторично и притом другому государству; но король, по настоянию польских сенаторов и послов, пригрозил отнять у него мельницкое староство, и Матишек присягнул. Вообще староства и другие временные королевские пожалования явились в руках польско-католической партии могущественным орудием для проведения унии. Однако этой партии пришлось немало хлопотать и настаивать перед королем, когда дошел черед до такого высокого сановника, как Евстафий Волович, литовский подканцлер и притом один из главнейших противников унии. Он держал несколько староств в Подлесье, и посольская изба потребовала, чтобы Волович также принес присягу. Король не считал его к тому обязанным; некоторые сенаторы также возражали, говоря, что «он держит староство не с судом, а простое», и устами архиепископа Гнезненского объявили его свободным от присяги. Но послы упорно стояли на своем. Посредством своего маршала Чарнковского они отвечали следующее: «Милостивый архиепископ! Припомните: когда присоединялись к королевству Прусская земля и Мазовецкое княжество, то присягали все должностные лица – сановники, державцы, шляхта, города, хотя насчет их верности не было никаких сомнений, а господин Евстафий – главный виновник расторжения унии, потому что одних послов выслал отсюда, а другим, которые остались здесь, делал угрозы. И эта подозрительная личность не будет присягать! Сохрани Бог! Это оскорбило бы тех, которые уже приняли присягу. Тогда вышло бы то, что говорится в пословице: овод пробился через паутину, а мухи завязли».
Один из послов (староста Радлевский) указывал прямо на то, что пример Воловича будет иметь большое влияние на других, смотря по тому, принесет он присягу или не принесет. После разных препирательств с послами сенаторы уступили им и порешили, что Волович должен принести присягу. Согласился и король с этим решением, но через канцлера Дембинского обратился к послам с просьбой, чтобы относились к Воловичу как к человеку важному и высокопоставленному, с уважением и подобающей вежливостью. Когда его призвали на сейм и объявили королевское решение о принесении присяги, Волович отвечал, что он уже приносил присягу Великому княжеству Литовскому и что его три подлесских староства приписаны к замку Берестье – следовательно, принадлежат к великому княжеству. На повторительные требования присяги он продолжал оспаривать ее законность, а также законность присоединения Подлесья к короне; просил короля не входить с ним в суд и ссылался на отсутствие товарищей для решения столь важного дела. Канцлер, дававший ему ответы от имени короля и сената, объявил, что у него будут отобраны подлесские староства. Волович, однако, не уступал и был отпущен из заседания. Но посольская изба после того не хотела обсуждать никаких дел, пока Волович не принесет присягу или у него не будут отняты имения, а также пока не будут ограждены подлесяне, принесшие присягу; ибо литовские сенаторы разослали на Подлесье и Волынь грамоты с приказанием собираться на войну под опасением потери имения. В особенности смущал их своими жалобами один из подлесян, некий староста Ласицкий, который имел в Литве землю по соседству с жмудским старостой Ходковичем и выражал опасения за свою жизнь и имущество со стороны этого сильного и мстительного соседа. Король успокоил послов обещанием раздать староства Воловича другим лицам; а на Волынь и Подлесье поспешили рассылкой королевских универсалов в отпор грамотам литовских сенаторов. Универсалы эти, возвещая о воссоединении Подлесья и Волыни с короной, повелевали сенаторам и послам сих земель, уехавшим из Люблина, немедля воротиться и занять свои места на общем сейме; причем сим областям обещана свобода от экзекуции. Ослушникам из сенаторов грозили лишением должностей и староств, а из послов теми наказаниями, которые будут постановлены на сейме.
В то же время велись переговоры и с находившимися в Люблине прусскими сенаторами и послами, то есть представителями Западной Пруссии, чтобы они заняли места на сейме вместе с польскими сенаторами. Пруссаки отказывались, ссылаясь на свои привилегии, по которым они имели свои особые сеймы. Однако по настоянию поляков и получив повеление короля, пруссаки явились на сейм и заняли места как в сенате, так и в посольской избе; но при сем делали разные протестации, ссылаясь на ограниченные полномочия от своих сограждан; а потом пруссаки перестали являться на заседания посольской избы. Очевидно, Люблинский сейм имел объединительную задачу в смысле государственном, по отношению не к одной Литве и Юго-Западной Руси.
Меж тем польские послы продолжают показывать нетерпение; нередко они отказываются обсуждать какие-либо другие вопросы, пока не решено дело унии. Они требуют, чтобы представители Подлесья и Волыни, не воротившиеся на сейм, были лишены должностей и староств и подвергнуты экзекуции, то есть проверке документов на владение и отобранию имений у тех, которые не докажут своих прав. По вопросу об экзекуции возникают на сейме многие и продолжительные прения, из которых постоянно выяснялось нерасположение послов к экзекуции и вообще к каким бы то ни было налогам на войско; они скорее предпочитают собрать общее ополчение или так называемое «посполитое рушение», чем жертвовать деньги на содержание наемных войск. Сейм постоянно хватается за четвертую часть доходов со столовых имений, которую король жертвовал на войско; на этой четвертой части сейм хочет основать едва ли не всю постоянную оборону государства; он толкует о том, как собирать ее и расходовать, где хранить и тому подобное. При сем слышны постоянные жалобы на разорительные рекуператорские позвы, – то есть позвы владетелей этих имений к суду для доказательства своих прав или за неуплату четвертой части, – вообще жалобы на земские неустройства и всякие неправды. «Какая польза сочинять столько конституций? – говорят некоторые послы. – Ведь ни одна из них не исполняется. Воевода не исполняет своей обязанности, старосты тоже, купцы тоже; пошлины (отмененные) продолжают существовать; дерут, грабят; ни в чем нет успеха». «У иностранцев сделалось ходячей пословицей, что поляки страдают сеймовой болезнью. Только пьяным людям свойственно так долго и неразумно делать дела, как делаем мы» и тому подобное.
5 апреля во вторник на сейм явилось посольство от литовского сената. Чтобы выслушать его речь, позвали польских послов в сенаторскую палату. Король, показывая вид неудовольствия на литвинов, отказался прибыть на заседание. Тут представителями от Литвы были жмудский староста Ходкович, кастелян витебский Пац, подканцлер Волович, крайчий Радзивилл и подчаший Кишка.
Посольство справлял Ходкович, который «по тетрадке» прочел длинную речь от имени своих товарищей, литовских сенаторов. Последние, узнав о королевских универсалах, отторгающих от Литвы Волынь и Подлесье, поручили означенным лицам ходатайствовать перед королем об отмене сих универсалов и объяснить сейму свое поведение, то есть свой внезапный отъезд из Люблина. Из этих объяснений оказывалось, будто литовцы согласились прибыть на сейм для заключения унии потому, что им было обещано совершить ее на основаниях «братской любви», при сохранении их привилегий. В таком смысле литовские послы получили инструкции от своих избирателей. Восемь недель литвины прожили в Люблине и вели переговоры; убедясь, что дело унии поставлено на иных основаниях, они не могли согласиться на нее, не имея на то полномочий от своей братии, а потому решили отложить это дело до другого сейма и разъехаться, но не тайком, а предварив о том его королевское величество. Уезжая, они оставили некоторых литовских сановников, именно подканцлера (Воловича) и подскарбия (Нарушевича), для своих сношений с польским сенатом. С удивлением услыхали литовцы об отторжении от них Волыни и Подлесья, относительно принадлежности которых к Литве никогда прежде не было ни малейшего сомнения, и принадлежность эту все государи подтверждали присягой, вступая на престол, в том числе и настоящий король. Литовцы умоляют отменить такую несправедливость. А по делу унии они просят не настаивать на немедленном ее решении, но созвать новый сейм, на который литовские послы могли бы приехать, снабженные надлежащими для того полномочиями.
Польские сенаторы не дали на эту речь пока никакого ответа и попросили прислать с нее письменную копию. После того несколько дней между поляками, особенно в посольской избе, шли горячие прения о том, какой ответ дать на просьбу литовцев, то есть на просьбу об отсрочке унии до другого сейма, так как присоединение Волыни и Подлесья к короне было поставлено вне спора. Часть послов согласна была на отсрочку и не желала ожидать в Люблине возвращения литовцев. Побуждение, которое ими при сем руководило, было экономического свойства: эти послы, ввиду возникших препятствий, то есть упорства литвинов, полагали, что уния не состоится, а вместе с тем рушится и уплата четвертой части со столовых королевских имений, назначенной на войско, ибо эта уплата связана была с делом унии, так как ее следовало поддержать военной силой. Но такие эгоистические расчеты владельцев столовых имений встретили сильный отпор со стороны большинства, которое решило три недели ожидать возвращения литвинов, не позволять им собирать сеймики для получения новых полномочий и вообще в течение настоящего сейма во что бы то ни стало добиться окончательной унии.
Любопытно, что самыми усердными поборниками сего решения явились послы от Подлесского воеводства, вновь присоединенного от Литвы к короне. Говоривший от имени сего воеводства хорунжий Дрогицкий сказал, между прочим, следующее: «Мы не сомневаемся, что вы поможете нам снять с себя литовскую неволю, потому что мы добровольно присоединились к вам ради польских вольностей; да и волынцы скорее склонятся к тому же, когда услышат, что мы получили свободу. Что же касается до того, чтобы литовцам созывать сеймики, то эти сеймики там отбываются иначе, чем у вас, господа. Там приезжают на сеймик только воевода, староста да хорунжий; напишут, что им вздумается, и пошлют к земянину на дом, чтобы подписать. Если он не подпишет, то они отдуют его палками. Поэтому не понимаю, какая там могла бы быть надобность в сеймиках? Там шляхта не участвует ни в каких совещаниях; там сенаторы делают что хотят. Если вы назначите им сеймики, то разве для того, чтобы протянуть им время, и они там еще напишут, что дают послам ограниченную власть, чего без сеймиков не сделали бы; а вы, господа, будете здесь даром жить». «Ради бога не дайте им обмануть вас».
