История России. Московско-царский период. XVI век
Tekst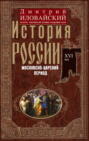


Mine üle audioraamatule
- Maht: 1040 lk. 2 illustratsiooni
- Žanr: Vene ajalugu, populaarne ajalugu, Vene klassika
Огромный полон, выведенный из Восточной Руси, так разлакомил хищную орду, что Магмет-Гирей велел своим князьям, мурзам и всем татарам откармливать коней и готовиться на осень того же года к новому походу на Москву; о чем велел прокликать по трем главным торгам полуострова: в Перекопи, Крыму и Кафе. Осенний поход, однако, не состоялся; а на весну 1522 года великий князь уже выставил многочисленные полки по берегам Оки и вывел в поле огнестрельный снаряд, устроив главный стан под Коломной. Зимой этого года, как мы видели, удалось заключить перемирие с Литвой и тем развязать себе руки для действий против Крыма и Казани. Судьба вскоре избавила Москву от самого злейшего ее врага, Магмет-Гирея. С помощью ногайского мурзы Мамая крымский хан завоевал наконец дружившую с Москвой Астрахань. Но тот же Мамай, опасаясь излишнего усиления хана, выманил его из завоеванного города в поле, где вероломно напал на Магмета во время пира и умертвил его со многими людьми. После того ногаи вторглись в самый Крым и сильно его опустошили; а бывший союзник Магмета Дашкович, пользуясь обстоятельствами, сжег Очаков и разорил татарские улусы в западной части Крымского ханства, то есть около нижнего Днепра (1523 г.). На ханский престол турецким султаном был возведен брат Магмета Сайдет-Гирей.
Собранные против крымцев силы Василий Иванович обратил против Саип-Гирея Казанского, который перед тем вероломно велел убить его посла и пленных московских купцов. Летом того же 1523 года судовая и конная рати ходили воевать Казанскую землю. Во время сего похода московские воеводы основали город при впадении в Волгу реки Суры, составлявшей нашу границу с этой землей, и назвали его именем великого князя (Васильсурск). Сей город составил важный опорный пункт для наших дальнейших предприятий против Казани. В следующем году поход возобновился. Саип-Гирей ушел в Крым, где сделался калгой-султаном, то есть вторым лицом после своего брата хана Сайдет-Гирея (а впоследствии некоторое время занимал ханский престол). В Казани он оставил своего племянника юного Сафа-Гирея. Русские подступали к самому городу; но не взяли его; а потому Василий согласился на просьбу казанцев утвердить на их престол Сафа-Гирея в качестве своего подручника. Однако враждебные отношения продолжались. В 1530 году был новый большой поход, под начальством князей Ивана Бельского и Михаила Глинского. Русские воеводы едва было не взяли город, но уступили просьбам казанцев, обещавших полную покорность великому князю. Действительно, вскоре потом они изгнали от себя Сафа-Гирея, и по их просьбе Василий дал им в цари младшего Шихалеева брата царевича Еналея, владевшего дотоле Касимовом. Таким образом, после многих трудов и усилий мятежная Казань к концу Василиева княжения казалась усмиренной. Однако разные происки и беспокойства с этой стороны не прекращались. Так, дотоле преданный и покорный Москве, бывший казанский царь Ших-Алей, получивший от великого князя в свое кормление Серпухов и Каширу, оскорбился тем, что в Казани посадили теперь царем не его самого, а его младшего брата, и завел какие-то тайные сношения с казанцами и с другими землями. Узнав о том, великий князь лишил его удела и сослал на Белоозеро; а бывших при нем татарских огланов, князей, мурз, псарей и прочих людей развели по разным городам, именно в Тверь, Новгород и Псков (1533 г.).
Неоднократные вероломные захваты, ограбления и избиения русских купцов казанцами великий князь наказал тем, что запретил своим купцам ездить на ярмарку, происходившую под Казанью на так называемом Гостинном острове, а велел им съезжаться для обмена товаров во вновь основанном Васильсурске, то есть на пограничье. На первое время это запрещение произвело вздорожание тех предметов, которые привозились из Персии, Закавказья и Астрахани; особенно вздорожали лучшие сорта волжской рыбы9.
Присоединением Рязани окончилось объединение собственно Северо-Восточной Руси под московским владычеством, и крупные уделы уничтожены. Существовали еще, так сказать, промежуточные удельные владения, занимавшие переходное положение между Русью Литовской и Московской, именно в земле Чернигово-Северской. Мы видели, что при Иване III некоторые князья этой земли перешли из литовского подданства в московское. Наиболее мелкие из них скоро утратили характер удельных владетелей и вступили в ряды московских боярских фамилий (Бельские, Воротынские, Одоевские, Мстиславские и пр.). Великий князь давал им поместья в иных областях, держал их на службе при своем дворе и, сверх того, так же как и с других почему-либо ненадежных бояр, брал с этих князей клятвенные записи за поручительством митрополита и епископов в том, что князья сии будут верно служить ему и его детям, не отъедут «к Жигимонту королю Польскому и великому князю Литовскому, и не будут ссылаться с ним без ведома государя своего великого князя Василия Ивановича, и к лиходеям его не пристанут никакими делы, ни которою хитростию». Но в числе князей, перешедших из литовского в московское подданство, оставалось еще два довольно значительных удельных князя в Северской земле, принадлежавшие к потомкам Ивана Калиты, именно Василий Семенович Стародубский и Василий Иванович Новгород-Северский. Первый был внук Ивана Можайского, а второй Димитрия Шемяки – известных врагов Василия Темного. Они пока усердно служили московскому государю, а Шемячич даже прославился своими подвигами в войнах с крымскими татарами. Но политика государственная требовала упразднения и этих уделов, особенно ввиду их положения на границе с враждебным нам Польско-Литовским королевством. Василию помогло то обстоятельство, что оба этих князя находились в непримиримой взаимной вражде и посылали друг на друга доносы в Москву; ибо во время войны с Литвой с ее стороны действительно были попытки переманить их на свою сторону. По одному из обвинений в сношениях с Литвой Шемячич приезжал в Москву, оправдался перед великим князем и с честью отпущен в свое княжество. Прошло пять лет; Василий Шемячич успел изгнать князя Стародубского из его волости и завладеть ею. Но вдруг его самого вновь потребовали в Москву. Он приехал только после того, как получил клятвенную охранную грамоту в своей безопасности, скрепленную подписью великого князя и митрополита. Но здесь, вопреки этой грамоте, северского князя схватили и посадили в темницу; а княжество его присоединили к Москве. Предлогом к тому послужило какое-то изменническое письмо, которое он будто бы написал польскому королю (1523 г.). Иностранный писатель (Герберштейн) сообщает, что, когда Шемячич прибыл в Москву, один юродивый стал ходить по улицам с метлой в руках и на вопросы любопытных отвечал: «Государева земля еще не совсем очищена; теперь удобная пора вымести последний сор». Этот рассказ, во всяком случае, показывает, что москвичи сознательно относились к своей задаче государственного объединения и стремились довести ее до конца.
Кроме помянутых выше отношений к литве и татарам, при Василии продолжались сношения с другими ближними и дальними соседями. Так, со Швецией, Данией и Ливонией были по нескольку раз возобновлены мирные договоры. В 1514 году было заключено десятилетнее перемирие с семьюдесятью ганзейскими городами, возвращены немцам их церковь и дворы в Новгороде. Но их торговля здесь уже не могла быть восстановлена в прежней силе. Кроме того, Василий III старательно поддерживал дружеские посольские сношения с турецким султаном, надеясь (хотя и без особого успеха) посредством его сдерживать своих врагов, литву и татар, а также с молдавским господарем и даже принимал посольство от знаменитого Бабура, основателя империи Великого Могола в Индии10.
II
Внутренние дела при Василии III
Церковные вопросы. – Вассиан Патрикеев. – Полемика с Иосифом Волоцким. – О еретиках и монастырском землевладении. – Борьба Иосифа с удельным князем и архиепископом. – Отношения великого князя к Иосифу и Вассиану. – Максим Грек. – Митрополиты Варлаам и Даниил. – Участие Максима Грека в полемике с иосифлянами. – Дело Берсеня Беклемишева. – Осуждение Максима Грека и Вассиана. – Развод и второй брак великого князя. – Построение и расписание храмов. – Развитие придворного строя. – Прием и угощение иноземных послов. – Великокняжья охота под Москвой. – Успехи самодержавия. – Личные свойства Василия. – Его ближние бояре и советники. – Поездки на богомолье и на охоту. – Болезнь, предсмертные распоряжения и кончина Василия III
Обращаясь к внутренним московским делам и отношениям времени Василия III, мы на первом плане видим здесь борьбу двух противоположных течений в сфере вопросов церковных и придворно-политических. Вопросы эти перешли в наследство Василию от Ивана III.
Ересь мниможидовствующих хотя и была сломлена соборным приговором и жестокими казнями 1504 года, однако не вполне уничтожена, и поднятое ею брожение не прекращалось. Известный противник этой ереси, игумен Иосиф Волоцкий, продолжал настаивать на конечном истреблении еретиков, не доверяя их раскаянию. Великий князь Василий Иванович еще при жизни отца показал себя усердным сторонником Иосифа в борьбе с ересью, и последний мог рассчитывать теперь на полную победу своих увещаний. Однако этого не случилось. На сем поприще он встретил достойного себе противника в лице инока Вассиана Косого. Этот Вассиан, в миру Василий, был сын Ивана Юрьевича Патрикеева, вместе с отцом постриженный в монахи во время опалы Ивана III на старую боярскую партию, по известному делу о престолонаследии. Находясь в Кирилло-Белозерском монастыре и предаваясь книжным занятиям, Вассиан сделался ревностным учеником и последователем известного поборника пустынножительства и главы заволжских старцев Нила Сорского, который был пострижеником того же монастыря и основал свою пустынь неподалеку от него. Монашеская мантия не смирила гордого, горячего нравом князя-инока. Владея начитанностью и литературным талантом, он принялся пером развивать идеи своего учителя Нила Сорского и смело вступил в книжную полемику с Иосифом Волоцким. В эпоху собора 1504 года, когда Иосиф написал послание Василию Ивановичу с увещанием казнить еретиков и со ссылками на примере строгости из ветхозаветной истории, со стороны заволжских старцев последовал на это послание едкий ответ, главным автором которого считают Вассиана Косого11.
Приведем некоторые черты из сего ответа: на слова Иосифа, что «Моисей скрижали разбил», старцы возражают: «Когда Бог хотел погубить Израиля, поклонившегося тельцу, Моисей стал вопреки и сказал Господу: аще сих погубиши, то меня прежде сих погуби, и Бог, ради Моисея, не погубил Израиля». На примеры апостола Петра, разбившего молитвой Симона Волхва, и Льва, епископа Катанского, сжегшего своей епитрахилью волхва Лиодора, старцы отвечают: «И ты, господне Иосифе, сотвори молитву, да иже недостойных еретик или грешников пожреть их земля». И далее: «А ты, господне Иосифе, почто не испытавши своея Святости, не связал архимандрита Касьяна своею мантией, донележе бы он сгорел, а ты бы в пламени его держал, а мы бы тебя, яко единого от трех отроков, из пламени изшед, да прияли». По поводу ссылки Иосифа на ветхозаветные примеры строгости (Моисея, Илию Пророка и др.) старцы укоряют его самого в сочувствии иудейству и напоминают, что теперь царствует уже не ветхий закон, а благодать Христова, которая запрещает осуждать брату брата и единому Богу оставляет судить согрешения человеческие.
Иосиф, со своей стороны, горячо защищал строгие меры. Заволжские старцы в другом своем послании доказывали, что если еретики ничем своей ереси не обнаруживают, то не должно истязаниями вымучивать от них признание, а если еретик принесет покаяние, то следует его допустить в церковь и даже ко св. причастию. Иосиф на такое, по его словам, «любопрепирательное послание» отвечал посланием к старцам о повиновении соборному определению. Тут он, между прочим, советует не только выпытывать признания в ереси, но в случае надобности для открытия ее прибегать к хитрости или «богонаучному коварству», с помощью которого Флавиан, патриарх Антиохийский, выпытывал признание у начальника мессалианской ереси. В заключение Иосиф убеждает старцев оказать повиновение соборному определению (1504 г.); в противном случае им самим угрожает отлучением от св. причастия.
В этой полемике о еретиках между Иосифом Волоцким и представителем заволжских старцев Вассианом Патрикеевым сочувствие многих современников оказалось на стороне последнего, как проповедника более гуманных, более христианских воззрений. Сам великий князь Василий Иванович некоторое время показывал большую милость Вассиану и приблизил его к себе, как умного, правдивого советника и своего дальнего родственника. (Они были троюродными братьями по бабке Вассиана, сестре Василия Темного.) Переехав в Москву, Вассиан проживал то в Симонове, то в Чудове монастыре. Он усердно печаловался за еретиков и написал по поводу их целый ряд посланий (или «тетрадей») против Иосифа; причем его самого за излишнюю строгость к заблудшимся уподоблял еретику Новату. Но энергический игумен не оставался в долгу; своими увещаниями, обращенными к одному из ближних бояр великого князя (Василию Андреевичу Челяднину) и к самому «Державному», он добился того, что последний велел схватить всех известных еретиков и держать в темнице до самой смерти.
Одновременно с препирательством о еретиках между Иосифом и Вассианом Патрикеевым шла жаркая полемика о другом, еще более жгучем вопросе, поднятом теми же заволжскими старцами (на известном соборе 1503 г.), то есть о монастырском землевладении. После соборного определения, решившего вопрос в пользу этого землевладения, Нил Сорский замолчал; но за него продолжал борьбу ученик его Вассиан. Сему последнему приписывают пространное рассуждение о неприличии монастырям владеть вотчинами. Здесь он обвиняет противников в том, что самые ссылки их на писания отцов церкви бывают часто неправильные и ложные, и современных ему иноков изображает людьми жадными к стяжанию и мирским благам, отступившими от древнего благочестия. Впечатление, произведенное этим рассуждением, заставило Иосифа Волоцкого написать опровержение, которое он назвал «Отвещание Любозазорным» и в коем по преимуществу указывает на иноческие труды знаменитых русских подвижников начиная с Антония и Феодосия.
В эпоху этой полемики Иосифу пришлось не только писанием, но и самим делом отстаивать неприкосновенность монастырского имущества.
Иосифов монастырь, как известно, находился в уделе Волоцком; когда умер благодетель монастыря князь Борис Васильевич, удел его разделился между двумя сыновьями: младший (Иван Борисович Русский) умер еще при Иване III и отказал свою часть великому князю Московскому; оставался в живых старший, Федор Борисович, которому принадлежал самый Волок-Ламский. Этот князь Федор любил разгульную жизнь и, нуждаясь в деньгах, захотел воспользоваться казной находившихся в его земле монастырей. Между прочим, он брал из Иосифова монастыря разные вещи, взял значительную сумму денег под видом займа и вообще начал его притеснять. Выведенный тем из терпения, суровый игумен решился наконец на открытую борьбу. Он послал одного из старейших иноков требовать возврата занятой суммы; князь грозил бить кнутом посланного. Однажды Федор Борисович пред своим приездом в монастырь прислал сказать игумену, чтобы готовил пир и «держал бы про него меды, а квасов бы не держал». Игумен ответил, что устав запрещает иметь хмельные напитки в монастыре. Иосиф купил жемчуг на ризы и епитрахиль; князь прислал просить этот жемчуг себе на венец к шлему и получил отказ. Тогда князь погрозил разорить монастырь, чернецов казнить кнутом. Иосиф начал советоваться с братией, что предпринять, и, желая испытать ее, предлагал разойтись по другим монастырям. Но братия подняла ропот; многие иноки, вступив в монастырь, сделали значительные вклады, надеясь спокойно провести в нем остаток жизни, а теперь нищими должны были скитаться по чужим обителям. Решили отправить в Москву челобитье великому князю и митрополиту, чтобы заступились за монастырь и приняли бы его в Московскую державу. Иосиф, конечно, заранее рассчитывал на благоприятный ответ и не ошибся. Мелкий удельный князь не посмел противиться государевой воле; зато он постарался возбудить против волоцкого игумена гнев местного церковного владыки.
Волоцкой удел принадлежал к Новгородской епархии. Архиепископом в Новгороде был тогда преемник Геннадия Серапион, бывший игумен Троице-Сергиевой лавры. Иосиф обратился с челобитьем в Москву, не предупредив о том своего владыку, и, так сказать, самовольно исключил монастырь из его епархии, не взяв владычного благословения. Он отговаривался после тем, что посланный им чернец не был пропущен за новгородский рубеж заставой, которая была временно учреждена по случаю свирепствовавшей в той земле моровой язвы (мор железою). Однако Серапион, напрасно прождав еще около двух лет какого-либо отзыва со стороны Иосифа, отважился на решительный шаг: он послал игумену неблагословенную грамоту, отлучающую его от священства и св. причастия. Такой поступок повлек за собой важные последствия. По жалобе Иосифа Серапион неволей привезен в Москву и предан суду духовного собора. Председателем на соборе был покровитель Иосифа, митрополит Симон, а вторым после митрополита лицом тут заседал младший брат волоцкого игумена, Вассиан, незадолго возведенный в сан архиепископа Ростовского. Серапиона обвинили в неуважении к митрополиту и великому князю. В особую вину поставили ему следующее выражение его неблагословенной грамоты Иосифу: «Что еси отказался от своего государя в великое государство… ино еси отступился от небесного, а пришел к земному». Конечно, это было написано в том смысле, что игумен променял Царство Небесное на земные блага, а его истолковали таким образом, что небесным тут назван князь Федор, а земным сам великий князь. На соборе Серапион утверждал, что он был прав, и давал иногда резкие ответы. Так, на вопрос своего явного неприятеля Вассиана, архиепископа Ростовского, на основании каких священных правил он отлучил и не благословил Иосифа, Серапион с запальчивостью отвечал: «Волен я в своем чернеце, а князь Федор волен в своем монастыре, хочет – жалует, хочет – грабит». По соборному определению, Иосиф был разрешен от владычнего запрещения и ему послано благословение священнодействовать. А Серапион лишен святительского сана и заключен в монастырь (сначала Андроников, потом Троице-Сергиев). Но дело тем не кончилось.
Серапион написал оправдательное послание, обращенное к митрополиту и направленное против Иосифа. В Новгороде он успел приобрести расположение граждан, и там о нем сожалели; в самой Москве многие приняли его сторону и считали волоцкого игумена неправым в этом деле. Так думали даже некоторые приверженцы последнего из среды бояр; они смущались помянутым его отлучением и высказывали желание, чтоб он просил прощения у своего бывшего владыки. Тогда Иосиф некоторым таким боярам (например, Ивану Ивановичу Третьякову-Ховрину и Борису Васильевичу Кутузову) написал пространные и энергичные послания, в которых вновь разбирал всю историю своего спора с архиепископом; обвинял его в гордости и непокорности высшим властям; доказывал, что Серапион неправильно отлучил его, не дав ему никакого суда, и что по правилам Св. Отцов самый суд над священником должен совершаться вместе с другими епископами. Тут же Иосиф коснулся и вообще неприкосновенности монастырских имуществ. Этот вопрос затем он развил в особом сочинении «О грабителях церкви». Неприкосновенность церковных имуществ он старался доказывать не только ссылками на примеры библейской и церковной истории, на канонические правила и узаконения греческих императоров, но также ссылками на жития святых или собственно на их чудеса. Здесь он рассказывает о разных карах, которым подверглись святотатцы, поднимавшие руку на церковную собственность. Особенно грозный пример кары он приводит из жития Стефана Сербского: один князь хотел ограбить обитель этого святого; но во сне явился ему сам Стефан и так избил нечестивца, что после того все тело его сгнило заживо. А в примере передачи монастырей в «великое государство» от обиды удельных князей он указывает некоторые случаи, бывшие при Василии Темном и Ионе митрополите. Эти красноречивые послания, в свою очередь, сильно задели противников монастырского землевладения, и Вассиан Патрикеев отвечал на них целым рядом полемических рассуждений, исходивших совсем из другой точки зрения. Между тем как Иосиф держался оснований исторических и канонических, Вассиан стоял на почве строго евангельской и нравственной. Этот последний, кроме того, по примеру своего учителя Нила Сорского критически относился к ссылкам своего противника на жития святых, особенно на сказания об их посмертных чудесах, вошедшие в позднейшие редакции житий, и старался отыскивать древнейшие, более краткие и менее украшенные редакции. Поэтому Иосиф обвиняет его и Нила Сорского в том, что они не верят чудесам русских святых и «изметают их от писания». Вассиан отвечал, что Нил не выкидывал чудес, а только исправлял их с «правых списков». «И ты, Иосиф, лжешь на него как человеконенавистник», – прибавляет он.
По всем признакам, литературная полемика таких видных противников немало занимала умы современников и оживляла борьбу партий при великокняжьем дворце. Сам великий князь, без сомнения, с интересом следил за их спором. Однако он не повторил попытки своего отца к отобранию церковных имуществ на государственные нужды (он не сделал этого также при взятии Пскова, Смоленска и Рязани). Легко было на нравственных основаниях отрицать некоторые порядки, сложившиеся исторически, но трудно было бы привести эти отрицания в дело. Государственная власть опасалась затрагивать материальные интересы самого могущественного своего союзника – церковной иерархии. Иосиф Волоцкий в своих сочинениях являлся не только горячим сторонником этого союза, но также красноречивым поборником возникавшего московского самодержавия; тогда как в рассуждениях Вассиана ясно проглядывали симпатии к отживающей старине с ее удельно-дружинным или княжеско-боярским строем. Сочувствие великого князя поэтому клонилось более на сторону Иосифа, хотя он продолжал оказывать расположение Вассиану. Этот князь-инок, «высокоумный», «высокошиявый» и «велехвальный», по выражению своих противников, проповедует бедность и нестяжательность для монахов, сам, однако, если верить местному монастырскому преданию, жил в Симонове привольно, как истый боярин. «Он, – говорит это предание, – не любил ржаного хлеба, щей, свекольника, каши и промозглого монастырского пива, но питался сладкими кушаньями, иногда с великокняжеского стола, а пил нестяжатель романею, мускатное и ренское вино». В самом тоне его полемики слишком высказывался высокомерный боярин; такой тон отнюдь не соответствовал тому евангельскому учению, которого он хотел быть последователем, тем гуманным отношениям к ближнему и той веротерпимости, которые он проповедовал. Этот тон и само положение Вассиана Патрикеева еще более возвысились по кончине митрополита Симона (1511 г.), которому преемником великий князь назначил симоновского архимандрита Варлаама, бывшего приятелем Патрикеева и сторонником аскетического направления заволжских старцев. Самый выбор Варлаама, вероятно, произошел не без влияния князя-инока. Однако и волоцкий игумен до конца сохранил свое значение и милость державного. По смерти бездетного князя Федора Борисовича Волоцкого удел перешел к великому князю (1513 г.), и последний стал ездить туда на охоту, причем посещал обитель Иосифа. Но спустя два года знаменитый игумен скончался, завещав свою обитель непосредственным попечениям государя.
С кончиной Иосифа Волоцкого противники его получили еще большую силу. Мало того, вскоре они нашли себе уважаемого союзника в лице известного ученого монаха Максима Грека.
Максим был родом из албанского города Арты, сын достаточных родителей. В молодости, по примеру многих своих соотечественников, он отправился в Италию, где тогда совершалось возрождение наук и искусств, и здесь докончил свое образование под руководством лучших учителей. Воротясь на родину, он постригся в монашество и поселился на Афоне, в Ватопедском монастыре, где, пользуясь обширной монастырской библиотекой, усердно занимался изучением отцов церкви и вообще богословской литературой. Однажды прибыли на Афон посланцы Василия III с обычной милостыней и с грамотой о присылке к нему сведущего монаха для греческих книг и для разбора богатого собрания греческих рукописей в великокняжьей библиотеке. Выбор старцев пал на Максима. Когда он с двумя другими иноками приехал в Москву (в 1518 г.), то первым делом, порученным ему, был перевод Толковой Псалтыри. Он еще не успел освоиться с русским языком; поэтому в помощь ему дали двух известных толмачей, Димитрия Герасимова и Власия, знавших латинский язык и уже ездивших послами к разным дворам. Толмачи находились при нем по очереди; Максим словесно переводил с греческого на латинский; а они с латинского переводили по-русски и диктовали двум писцам (Михаилу Медоварцеву и троицкому монаху Силуану). В то же время он разбирал великокняжескую библиотеку и делал опись книгам. Окончив перевод Псалтыри и щедро за него награжденный, Максим просил отпустить его обратно на Афонскую гору. Но великий князь и митрополит Варлаам, отпустив товарищей Максима, самого его удержали в Москве и поручили ему кроме переводов еще исправление разных богослужебных славянских книг, в которые вкралось от времени много ошибок и неточностей сравнительно с подлинниками. В Москве очень хорошо оценили ученые достоинства этого афонского инока и оказывали ему внимание и почет.
Максим был помещен сначала в Чудов монастырь, а потом в Симонов, где он скоро и близко сошелся с Вассианом Патрикеевым. Последний, под влиянием своей борьбы против монастырского землевладения, около того времени, с благословения митрополита Варлаама, принялся за составление новой редакции Кормчей книги, чтоб очистить ее от разных противоречий; так, по одним статьям выходило, что инокам запрещается владение селами, а по другим – разрешается. Теперь же с помощью своего нового приятеля, то есть Максима Грека, Вассиан убедился, что действительно в славянских переводах греческого Номоканона неправильно употреблялось слово «монастырские села» со значением населенных мест; тогда как в греческом тексте разумелись тут просто поля и подгородние дачи. После того князь-инок стал называть эти древние славянские правила о монастырских селах «кривилами», а не правилами, и еще с большей, чем прежде, резкостью нападать на монастырское владение вотчинами (хотя в Византийской империи монастыри, несомненно, владели и населенными местами). Максим Грек в этой полемике решительно стал на сторону Вассиана и заволжских старцев. Он написал несколько трактатов по сему предмету. Особенно любопытны рассуждения его, представленные в виде умной, спокойной беседы двух лиц: Филоктимона (любостяжателя) и Актимона (нестяжателя). Кроме того, Максим вооружался против некоторых распространенных на Руси суеверий к астрологии и против священных повестей апокрифического характера, доказывая их несогласие со Святым Писанием (например, так называемая Афродитианова повесть о Рождестве Христове). Вообще, ученый Грек, Вассиан Патрикеев и митрополит Варлаам в это время составляли род церковного триумвирата. Но этот последний существовал недолго. Аскетическое направление митрополита, его неугодливость в отношении светской власти и его обычай печаловаться за опальных и несчастных нередко ставили его в натянутые отношения к великому князю. Неизвестно, что именно послужило поводом к его низложению, знаем только, что Василий удалил Варлаама в один дальний монастырь, а преемником ему назначил человека иного направления, одного из учеников Иосифа Волоцкого, из «иосифлян», как их называли противники, именно Даниила (1522 г.). Этот Даниил, прозванием Рязанцев, прошел в Волоцком монастыре строгую школу его основателя, отличался любовью к книжным занятиям, трудолюбием и гибким, вкрадчивым умом. Перед своей кончиной Иосиф поручил братии самой выбрать себе игумена, и выбор ее пал на Даниила. Умирающий игумен благословил своего преемника. При последующих посещениях монастыря великим князем Даниил сумел приобрести его расположение, а теперь, несмотря на свои еще далеко не старые годы, занял архипастырскую кафедру. С его возвышением немедленно стала усиливаться и вся партия иосифлян. Между прочим, Даниил стал проводить их на епископские кафедры; так два близких родственника Иосифа Волоцкого, Акакий и Вассиан Топорков, возведены в сан епископа, первый Тверского, второй Коломенского.
Несмотря на изменившиеся обстоятельства, Вассиан Косой и Максим Грек продолжали действовать в прежнем духе и, разумеется, сильно возбудили против себя нового митрополита. Первой жертвой его неудовольствия сделался Максим. Этот иноземец, недостаточно понимая людей и отношения, среди которых ему пришлось теперь жить, слишком подчинился неприязненным воззрениям своего друга Вассиана на московские порядки, церковные и политические, и, увлекшись авторитетностью своего высшего образования, принялся писать разные обличительные рассуждения, направленные не только против корыстолюбия и распущенных нравов русской иерархии и русского монашества вообще, но и против некоторых архиереев и самого митрополита. Например, в своем слове против лихоимства он обличает какого-то высшего духовного сановника, который «безпощадно пьет кровь из убогих людей своими лихвами и всякими несправедливостями, а сам разъезжает по городу на великолепных конях в сопровождении многих слуг, разгоняющих народ криком и бичами. Долгими молитвами и черною власяницею он прикрывает свою страсть к сладким яствам и питиям и к дорогим одеждам». В таком обличье видели намек на митрополита Даниила, который, по словам Герберштейна, будучи возведен на высший духовный сан еще в цветущих летах, будто бы всякий раз, являясь перед народом, окуривал свое лицо серным дымом, чтобы сделать его более бледным, то есть более постным. Не ограничиваясь духовенством, Максим направлял свои обличения также против гражданского управления, против лихоимства, хищений и грабительства властей. Мало того, он неосторожно беседовал с некоторыми опальными боярами насчет особы государя, дружил бывшему в Москве турецкому послу (Скиндеру, родом греку), враждебно настроенному против России, и тому подобное.
