История России. Московско-царский период. XVI век
Tekst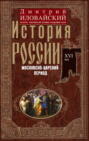


Mine üle audioraamatule
- Maht: 1040 lk. 2 illustratsiooni
- Žanr: Vene ajalugu, populaarne ajalugu, Vene klassika
Тот же наблюдательный иноземец заметил чрезвычайное развитие московского самодержавия в то время. По его словам, своей властью над подданными, равно светскими и духовными, Василий превосходил всех других монархов; никто из его советников не осмеливается противоречить ему или быть другого мнения. Подданные считают его исполнителем воли Божией и на вопрос о каком-либо сомнительном деле отвечают: «Знает Бог и великий государь». Несмотря на некоторые неудачные войны, они выхваляют его так, как будто дела шли счастливо. «Неизвестно, происходит ли такая тирания от грубости и жестокости народа, или, наоборот, эта грубость и жестокость произошли от государевой тирании», – прибавляет Герберштейн, конечно не вполне понимавший историческое развитие и смысл московского государственного строя и судивший о народе преимущественно по отзывам лиц более или менее официальных. В пример того, с какой строгостью требовалось отправление государевой службы, и часто на свой счет, он приводит одного из известных ближних дьяков, Третьяка Далматова. Великий князь назначил его послом к цесарю Максимилиану; дьяк начал говорить, что у него нет денег на дорогу. Его тотчас схватили и отвезли на Белоозеро, где он и умер в темнице; а все его имение отобрано на государя, причем найдено 3000 флоринов чистыми деньгами. Если к этому примеру присоединим судьбу помянутых выше боярина Берсеня с дьяком Жареным и Максима Грека с Василием Патрикеевым, то понятно, какими способами достигалось отсутствие противоречия (собственно оппозиции) государевой воле.
Было бы неверно и неисторично объяснять такое сильное развитие монархической власти только личной тиранией, а не всем историческим складом московской государственности. Однако, несомненно, и личные качества государей имели при сем свою, и значительную, долю влияния. Важно то, что за таким политическим деятелем, как Иван III, следовал государь, способный поддерживать его заветы и вполне воспользоваться существовавшими условиями для дальнейшего развития своей самодержавной власти. Хотя в личных талантах и правительственном искусстве Василий уступал своему отцу, но он владел замечательной твердостью характера и упорным постоянством в достижении раз намеченных целей. Это он доказал и во внутренних и во внешних делах; для примера напомним приобретение Смоленска, которого он добился после неоднократных и тяжелых неудач. Сравнивая разные неудачи и военные поражения его времени с блистательными политическими событиями при его отце, надобно также иметь в виду и различие условий, посреди которых они действовали. Ивану III приходилось иметь дело на западных пределах с такими неэнергичными противниками, как Казимир IV и сын его Александр; тогда как Василий должен был бороться с Сигизмундом I, самым крупным лицом в династии Ягеллонов. Ивану III не трудно было склонить на свою сторону Менгли-Гирея при существовании смертельной вражды между ханами крымскими и золотоордынскими; во время Василия Золотая Орда уже не существовала, и хищным Гиреям были развязаны руки с этой стороны; казанцы также получили полную возможность действовать против Москвы в союзе с крымцами. Но именно посреди трудных обстоятельств и опасностей, когда еще только складывавшееся и далеко не окрепшее государственное единство не раз должно было отстаивать себя одновременно от всех этих внешних врагов, вполне выказалась твердость Василия Ивановича, всегда верного своему царственному величию и своим правительственным обязанностям.
Государственный ум и дальновидность правителя особенно выражаются в выборе его ближайших советников и исполнителей. В этом отношении Василий очевидно не равнялся со своим отцом. Так, неудачи в войнах с литвой и татарами отчасти обуславливались малоспособностью назначаемых им воевод, и вообще он недостаточно пользовался выдвинувшимися при его отце, испытанными предводителями, каковы, например, были старый Даниил Щеня и Хабар Симский. Впрочем, в этом отношении выбор немало стеснялся обычаем боярского местничества, с которым должен был считаться и сам государь. Наиболее видные места в правительстве Василия III занимали, конечно, потомки удельных князей. Во-первых, его зять, то есть муж его сестры, князь Василий Данилович Холмский, имевший звание московского воеводы (напоминавшее прежнее звание московского тысяцкого). Но он недолго пользовался своим значением: в 1508 году князь Холмский в чем-то так сильно провинился, что великий князь велел его посадить в тюрьму, где он и умер в следующем году. После него звание московского воеводы перешло к князю Даниилу Васильевичу Щене, принадлежавшему к семье Патрикеевых, то есть к потомкам Гедиминовым. Далее видим в числе самых близких к государю бояр: князя Димитрия Ростовского, князя Василия Шуйского, потомка князей Суздальско-Нижегородских, Михаила Юрьевича Кошкина, представителя древней, чисто московской боярской фамилии, Михаила Воронцова из знаменитой фамилии тысяцких Вельяминовых, царского казначея Петра Головина (сын Головы-Ховрина). До своего поражения и плена на Орше высокое положение при дворе занимал окольничий Иван Андреевич Челяднин. В числе знатнейших бояр находились также потомки удельных князей Западной Руси, перешедшие на московскую службу, именно два брата Бельские, Димитрий и Иван Федоровичи, потомки Гедимина, Воротынский и Мстиславский. Возникший при московском дворе обычай брать клятвенные записи о неотъезде в Литву в особенности прилагался к этим литовским выходцам. Впрочем, подобная же запись в верном служении московскому государю была взята с князей Шуйских: с Василия за порукой митрополита Даниила и епископов, а с его двух родственников, Ивана и Андрея, за поручительством многих бояр в 2000 рублях. С Михаила Глинского взята клятвенная грамота с поручительством пятидесяти лиц в 5000 рублях на случай его измены.
Наиболее приближенными советниками Василия III были, однако, люди далеко не знатные, и преимущественно его дьяки. Положение самых доверенных лиц во вторую половину царствования занимали двое: один из второстепенных бояр, тверской дворецкий Иван Шигона-Поджогин и думный дьяк Меньшой Путятин. Это были любимцы и тайные советники Василия. Их-то, конечно, и разумел опальный боярин Берсень-Беклемишев, сетуя на то, что государь «запершися сам третей у постели всякие дела делае». В первую же половину княжения главным советником в государственных делах был казначей Георгий Малый, один из греков, приехавших в Россию с матерью Василия Ивановича, человек ученый и весьма сведущий в политике. По словам Герберштейна, великий князь так уважал его советы, что однажды, во время болезни Георгия, велел своим боярам принести его к себе на носилках. Георгий Малый лишился первенствующего влияния со времени дела о своем соотечественнике Максиме Греке, за которого он, по-видимому, заступался; однако и после того великий князь призывал к совету Георгия, только дал ему другую должность16.
Василий Иванович не любил долго засиживаться на одном месте и вел жизнь довольно подвижную. Зиму он обыкновенно проводил в Москве, а лето непременно за городом в своих подмосковных селах, каковы Остров, Воронцово, Воробьево, Коломенское. Кроме того, он любил ездить на богомолье в ближние и дальние монастыри и в города, известные своими святынями, например в Троицкую лавру, Кириллов монастырь, Волоцкий, Николо-Угрешский, в Переяславль, Юрьев, Владимир, Ростов, Тихвин, Зарайск и прочие. Эти путешествия соединялись иногда с обычными «объездами» своих владений (соответствующими древнему княжескому «полюдью»), а также и с охотой, которой Василий, по-видимому, был предан до страсти. Особенно любимым местом его охоты во вторую половину княжения был Волоколамский край с его Иосифовым монастырем, поступившим по смерти своего основателя на непосредственное попечение великого князя. С охотой в этом краю связана и предсмертная болезнь Василия Ивановича. В августе 1533 года случилось нашествие крымцев с ханом Саип-Гиреем и Ислам-царевичем на рязанские окраины. По отражении этого нашествия великий князь в сентябре, то есть в начале следующего, 1534 года, поехал с супругой и детьми в Троице-Сергиеву лавру помолиться угоднику, а отсюда направился к Волоколамску, чтобы там «тешиться» осенней охотой. Дорогой он занемог; причем на левом стегне у него явился небольшой, но весьма злокачественный нарыв. С трудом доехал он до Волоколамска, где его любимец тверской и волоцкий дворецкий, Иван Юрьевич Шигона-Поджогин, устроил для него пир в самый день приезда, в первое воскресенье после праздника Покрова Богородицы. Как ни был болен Василий Иванович, однако на третий день после того, во вторник, не утерпел и поехал в поле с ловчими и собаками. Но тут в своем селе Колпи он окончательно слег в постель и через две недели воротился в Волоколамск, несомый на носилках боярскими детьми. Вызванные из Москвы врачи великого князя, немец Николай Булев и Феофил (вероятно, грек), начали прикладывать к нарыву пшеничную муку с медом и печеный лук, потом какую-то мазь, от которой стал идти гной; прибегли и к слабительным. Но больному становилось все хуже; он уже почти перестал принимать пищу и начал делать предсмертные распоряжения. По его приказу другой его любимец, дьяк Меньшой Путятин, со стряпчим Мансуровым съездили в Москву и привезли его духовную, написанную еще до второго брака, которую он немедленно велел сжечь. Все это сделано тайком от братьев и от бояр. Потом приступили к составлению новой духовной грамоты. С двумя своими любимцами Василий советовался, кого из думных бояр назначить послухами для засвидетельствования этой грамоты: при великом князе находились тогда князья Димитрий Федорович Бельский, Иван Васильевич Шуйский, Михаил Львович Глинский и, кроме Шигоны, дворецкий князь Иван Иванович Кубенский; решили вызвать из Москвы еще Михаила Юрьевича Захарьина (Кошкина). Приезжали также братья великого князя Андрей Старицкий и Юрий Дмитровский; но Василий скрывал от них свое опасное положение и особенно не доверял Юрию, которого поспешил отпустить обратно в Дмитров. Больной хотел умереть в столице, но предварительно заехал помолиться в Иосифов монастырь (верст около двадцати от Волоколамска). Здесь он слушал литургию, лежа на одре в церковном притворе, а великая княгиня с детьми стояла подле и проливала горькие слезы. В Москву его везли в каптане (возке), где при нем сидели князья Шкурлятев и Палецкой и поворачивали его, так как сам он уже не мог двигаться. Под Москвой он остановился отдохнуть дня на два в селе Воробьеве, куда немедленно явились митрополит, епископы, бояре и дети боярские. Меж тем через Москву-реку намостили мост против Новодевичьего монастыря, так как река еще не успела покрыться прочным льдом, хотя уже время шло к концу ноября. Наскоро построенный мост не выдержал; вступив на него, четыре коня, запряженные в возок, провалились; дети боярские успели подхватить великокняжий каптан и обрезать гужи у оглоблей. Василий Иванович воротился на Воробьеве; покручинился на «городничих» (Волынского и Хозникова), ведавших постройкой моста, однако опалы на них не положил. Он переправился на пароме под Дрогомиловом и въехал в Кремль через Боровицкие ворота; ради многих иноземцев и послов, пребывавших тогда в Москве, въезд этот совершился, по-видимому, до рассвета: великий князь все еще не хотел, чтобы все знали о его безнадежном состоянии. По возвращении в Москву первым делом было окончание духовной грамоты, для засвидетельствования которой призваны были, кроме помянутых выше бояр, еще князь Василий Шуйский, Михайло Воронцов, Михайло Тучков и казначей Петр Головин. Потом Василий Иванович открыл митрополиту Даниилу, епископу Коломенскому Вассиану и своему духовнику, благовещенскому протопопу Алексею, свое давнее желание постричься перед смертью в иноки и схимники.
Услыхав о немощи государевой, многие бояре поспешили в Москву из своих вотчин. Приняв Святые Дары, Василий призвал к своей постели братьев, митрополита, бояр и детей боярских и «приказывал» им сына своего Ивана, которому дает свое государство; увещевал служить ему верой и правдой. Затем, отпустив братьев и митрополита, обратился к боярам со следующими словами: «Ведаете сами, от великого князя Владимира Киевского ведется наше государство Владимирское и Новгородское и Московское; мы вам государи прирожденные, а вы наши извечные бояре. И вы, братие, постойте крепко, чтобы мой сын учинился на государстве государем, была бы в земле правда и в вас бы розни никоторые не было. Да приказываю вам Михаила Львовича Глинскаго; он человек к нам приезжий, но вы не называйте его приезжим, а держите за здешнего уроженца, зане он мне прямой слуга, и были бы вы все сообща и земское дело и сына моего дело берегли и делали за один. А ты бы, князь Михайло Глинский, за моего сына князя Ивана, и за мою великую княгиню Елену, и за моего сына князя Юрия кровь свою пролиял и тело свое на раздробление дал».
Очевидно, малолетство преемника, неопытность и иноземное происхождение супруги, ненадежность братьев и возможность боярской крамолы сильно озабочивали умирающего государя. Он не однажды обращался к боярам со своими заветами. В среду, 3 декабря, он вновь причастился Святых Тайн, вновь призвал думных бояр и долго говорил им об устроении земском и как после него править государством; после чего, оставив при себе Михаила Глинского, Михаила Юрьевича Захарьина и Шигону, приказывал им о великой княгине Елене, как ей без него быть и как к ней боярам ходить: он назначал ее правительницей до возмужалости сына. Летописец затем изображает трогательное прощание государя с трехлетним сыном Иваном, которого принесли на руках, и с великой княгиней, которую держали под руки, так она вопила и билась.
Ивана он благословил крестом Петра Чудотворца, которым сей благословлял прародителя московского князя Ивана Даниловича; отпуская сына, он сказал его няне, боярыне Аграфене Челядниной: «Смотри, Аграфена, от сына моего Ивана не отступи ни пяди». По просьбе великой княгини умирающий велел принести и другого сына, однолетнего Юрия, и также его благословил; ему назначил в духовной небольшой удел с городом Углече Поле. Когда приблизился смертный час, великий князь позвал опять митрополита, братьев и бояр и велел себя постригать. Но тут вдруг выступили брат его Андрей, Михайло Воронцов и сам Шигона с возражениями, что Владимир Киевский не чернецом умер, а сподобился быть праведным, также и другие князья. Возник спор. А между тем умирающий уже лишился языка и употребления рук, но взором продолжал просить о пострижении. Тогда митрополит поспешил исполнить обряд, возложил на него парамонатку, ряску, иноческую мантию, наконец, схиму и Евангелие на грудь, нарекши его в иночестве Варлаамом. Василий Иванович скончался в ночь на четверг, на 4 декабря, то есть под Варварин день, на пятьдесят шестом году от рождения, после двадцативосьмилетнего царствования. Дворец огласился плачем и рыданием.
Митрополит Даниил немедленно взял Юрия и Андрея Ивановичей в переднюю избу и привел их к присяге на верность великому князю Ивану Васильевичу и его матери Елене. На том же привел к присяге бояр и детей боярских, чтоб они все за один стояли против недругов великого князя, против бесерментства и латынства, а иного государя себе не искали. Потом митрополит отправился с боярами к Елене возвестить ей кончину супруга. От этой вести она, как мертвая, пролежала часа два и насилу пришла в себя. Меж тем иноки Троицкого и Иосифова монастыря, отослав стряпчих великого князя, овладели его телом и начали приготовлять к погребению. Весть о кончине разнеслась по городу, и народ стал приходить во дворец прощаться. Настало утро. В Архангельском соборе выкопали ему могилу подле отца его, Ивана III, и привезли каменный гроб. В тот же день, при звоне всех колоколов и рыдании стекшегося во множестве народа, тело великого князя вынесли из дворца и затем с обычными обрядами предали погребению17.
Ill
Литовская Русь при Ягеллонах
Польское влияние на политический строй Литовской Руси. – Земские привилеи, общие и местные. – Господство вельмож. – Низшие слои населения. – Водворение крепостного права. – Волочная система. – Введение магдебургии. – Столкновение городского самоуправления с королевскими наместниками. – Судебник Казимира IV. – Первый Литовский статут и характер судоустройства. – Жалобы на неправ о су due. – Второй статут. – Устав о земской обороне. – Страшные крымские полоны. – Черты шляхетских нравов по Курбскому и Михалону
Мы видели, как медленно Северо-Восточная Русь собиралась вокруг своего средоточия – Москвы и как шаг за шагом она возвращала себе полную национальную самобытность в постоянной борьбе с варварскими ордами. Тяжела была работа объединения и освобождения; зато государство складывалось прочно и крепко. Его крепкой сплоченности особенно способствовала однородность собранных частей: все это были области собственно великорусские, говорившие одним языком, исповедующие одну церковь; инородческое или финское население обширных северо-восточных окраин слабо нарушало эту однородность, будучи вполне подчинено господствующему племени и уже давно вступив на путь обрусения. Другое зрелище представляла Русь Юго-Западная, собранная воедино великими князьями Литовскими. Она не имела собственного средоточия или национального ядра, около которого могла бы сплотиться и выработать крепкий государственный организм. Литовская династия и литовская знать вначале подверглись было обрусению и готовы были слиться с княжеско-боярским сословием Западной Руси; но уния с Польшей и переход в католичество снова сделали их чуждыми русской православной народности, а потом, мало-помалу, поставили в неприязненные к ней отношения.
В западной половине слагался совсем иной политический строй, чем в восточной. Хотя удельная система Литовской Руси прекратилась почти одновременно с Русью Московской, но это прекращение там не сопровождалось таким же усилением центральной правительственной власти, как в Москве. Между тем как в последней потомство удельных князей теснилось в столице при дворе великого князя и обратилось в боярско-служилое сословие, в Литовской Руси потомки Игоревичей и Гедиминовичей, а также члены знатнейшего боярства образовали сильное вельможное сословие, не столько придворное, сколько владельческое – нечто похожее на западноевропейских феодалов. Со времени Казимира IV Ягеллоны, занимая в то же время польский престол и переезжая из одной столицы в другую, с одной стороны, неизбежно подвергались влиянию польского государственного строя с его шляхетскими привилегиями, ограничившими королевскую власть; с другой – старались удержать в соединении с Польшей и привязать к себе литовско-русские области разными пожалованиями земель и высоких урядов, которые расточались, конечно, самому влиятельному классу, то есть вельможам, чем поддерживали их силу и значение. Таким образом, в Литовской Руси утвердилось господство вельмож, которые сосредоточили в своих руках огромные поземельные владения, заключавшие в себе не одни села и местечки, но и целые города, а также захватили себе высшие уряды, земские, военные и придворные, каковы: гетманы, канцлеры, маршалки, подскарбии, воеводы, каштеляны и старосты. С этими урядами соединялись и большое влияние, и богатые доходы. Они большей частью перешли в Литовскую Русь из Польши или сложились по польским образцам: гетман был предводителем войска и военным судьей, канцлер хранил печать великого князя и управлял его письменными сношениями; подскарбий ведал доходы и расходы государства; маршалки считались представителями служилого сословия и были также придворными сановниками. Воевода начальствовал целой областью, причем соединял в своих руках власть военную, правительственную и судебную. Каштеляны и старосты были правителями отдельных округов (впрочем, были старосты, ведавшие целые области, например жмудский). В некоторых частях Литовской Руси, кроме того, встречаются еще древнерусские наместники и тиуны. Из главных сановников составлялся при великом князе высший правительственный совет, похожий на древнерусскую боярскую думу, но уже получивший польское название рады, и члены этого совета стали называться «паны радные», а в совокупности «паны-рада».
Итак, по естественному порядку вещей, вместе с ополячением династия Ягеллонов, высший класс Литовской Руси и ее внешний строй не замедлили подпасть польскому влиянию.
Об этом влиянии свидетельствует целый ряд великокняжеских грамот или так называемых привилеев, которые клонились к тому, чтобы перенести польско-католические порядки в Литовскую Русь и таким образом все более и более приблизить ее строй к польскому. Этот ряд привилеев начинается пресловутой грамотой Ягелла, выданной на сейме 1387 года, в которой он дарует некоторые новые права тем литовским боярам, которые крестились в католическую веру. Из той же грамоты видно, что Литва стала разделяться на кастелянии и поветы. Далее, актом Городельской унии 1413 года, как известно, литовским боярам-католикам дарованы права и привилегии польской шляхты, вместе с ее гербами, и установлены в Литве высшие польские уряды воевод и кастелянов, доступные только католикам. Затем наиболее важным шагом в этом направлении является земский привилей, данный Казимиром IV в 1457 году высшим сословиям Литвы, Руси и Жмуди. Известно, какое трудное положение испытывал Казимир между притязаниями польской шляхты, с одной стороны, и неудовольствием литовско-русских чинов – с другой. Чтоб успокоить последних, он означенным актом подтверждает дарованные прежде привилегии и жалует новые, на этот раз без различия исповедания, то есть равно католикам и православным. Так, литовско-русские чины (а именно княжата, ритеры, шляхтичи, бояре и местичи, или горожане) владеют пожалованными имениями и вотчинами на тех же правах, как и в Польском королевстве, то есть могут их продать, заложить, обменять, подарить и передать своим наследникам. Вдова остается в имении мужа до следующего замужества; а если муж записал часть своего имения как вено, то она может ею распорядиться по своему усмотрению. Имущества и чины означенных чинов освобождаются от разных великокняжеских поборов, каковы: серебщизна (подать на войско), сенокошение, возка камня и лесу, и некоторых других натуральных повинностей, отчасти известных под общим именем дякла; но остаются в силе стацыи (доставка съестных припасов для чиновников и свиты великого князя при его проезде), починка мостов и городских укреплений. Запрещением крестьянских переходов с земель владельческих на государевы и обратно эта грамота делает решительный шаг к развитию крепостного права. А запрещением посылать в частные имения децких (правительственных судебных приставов) она отдает крестьян в полную подсудность владельцу. Далее грамота разрешает княжатам, ритерам, шляхтичам и боярам (но не местичам) свободный выезд в иностранные государства для своего образования, за исключением страны неприятельской и с соблюдением обязанностей военной службы. Наконец, ввиду сильного негодования литовско-русских вельмож на польские захваты земель и урядов Казимир той же грамотой обязывается не уменьшать пределов великого княжества, а также раздавать земли в володение и держание и земские уряды только местным уроженцам, а не чужеземцам. Грамота эта дана в Вильне в присутствии литовских панов-рады и скреплена литовским канцлером Михайлом Кезгайло-вичем. Наследник Казимира IV, сын его Александр, вступив на великокняжеский престол в 1492 году, по требованию литовских панов-рады выдал для Литвы новый привилей, которым подтвердил грамоту отца своего и, кроме того, по образцу Польши еще более ограничил власть великого князя в пользу литовских вельмож, обязавшись без согласия панов-рады не вести дипломатических сношений, а также не издавать законов, не раздавать и отнимать земские уряды и тому подобное.
В том же 1492 году Александр дал особый привилей земле Жмудской, подтверждающий прежде дарованные боярам и шляхте права; по этому привилею, между прочим, староста жмудский назначается господарем по желанию самих жителей; они же сами выбирают себе тиунов; а господарские децкие посылаются «только по реку Невежу». Тут мы имеем дело с привилеем собственно местным или областным. Подобные же областные привилеи или льготные уставные грамоты, данные разным русским землям, вошедшим в состав Великого княжества Литовского и королевства Польского, дошли до нас в значительном количестве. А именно: Луцкой земле, данный Ягеллом в 1427 г., Галицкой, данный им в 1433 г.; тем же русским землям, то есть Галицкой и Подольской (включенным в пределы короны Польской) привилей Казимира IV (1456) и Сигизмунда I (1507), Волынской земле и особый повету Бельскому – Александра (1501); Витебской земле – Сигизмунда 1507 г. (подтвержден и дополнен им же в 1529 г.), Брацлавской – его же (1507), Полоцкой земле – тоже Сигизмунда I (1511) и Дрогичинской – его же (1521). Привилеи эти обыкновенно выдавались и возобновлялись по требованиям или челобитью самих жителей, то есть их высшего, шляхетского сословия. Все они направлены к расширению прав этого сословия, по образу польской шляхты. Обыкновенными статьями их были: обещание господаря никого из панов и землян не наказывать по одному доносу, а только после суда, также не сажать в тюрьму по одному подозрению, не конфисковать имений (за исключением государственной измены), сохранить как вотчины, так и «выслуги» (жалованные поместья) за наследниками и в завещание не мешаться; вдове пользоваться имением мужа, если не выйдет вторично замуж, и только за отсутствием родственников имение умершего шляхтича возвращается господарю; земские урядники избираются самой шляхтой и утверждаются господарем, преимущественно из местных уроженцев; далее следует освобождение от разных повинностей и поборов, а также освобождение от суда господарских рядников, за исключением насильственного нападения, поджога, изнасилования и разбоя. При сем в некоторых областях, ближайших к Польше, именно в Бельском повете и Дрогичинской земле, отменяется древнерусская должность децкого и заменяется польским возным. По некоторым указаниям, не всегда польские порядки нравились русским жителям; так, дрогичинский староста жалуется Сигизмунду I, что дрогичане не подчиняются его привилею (1523 г.).
Вообще, кроме обычных прав и вольностей, к которым стремились почти все западнорусские земли, встречаются в этих привилеях разные частности и особенности, соответственно условиям и потребностям различных областей. Так, привилей витебский и полоцкий даны не одним князьям и боярам, но также и мещанам и указывают на торговый характер этих городов, особенно на их старинную торговлю воском с Ригой и другими ливонскими городами. «Если какого-либо витеблянина (или полочанина) воск загудят (опорочат) в Риге или инде, то его судить и наказать должны сами витебляне (или полочане)». В том и другом городе упоминаются сябры (подобно Пскову); эти городские сябры освобождаются от повинностей подводной и ловчей (то есть от обязанности давать подводы княжьим чиновникам и ходить на княжьи ловы в облаву). Смоленский привилей дан также по челобитию панов, мещан, даже «черных людей» и всего посольства, с владыкой Иосифом во главе. А первая его статья гласит: «Христианство греческаго закону не рушити, въ церковный земли и воды, в монастыри и отмерщины (имения, отказанные по завещанию?) не вступаться». Обещания не трогать православия встречаются и в некоторых других привилеях, например в Луцком. Киевские паны и земяне просят отменить разные новины, введенные у них воеводами, например: взимание выводной куницы (свадебная пошлина) с панских людей, новые меты, недопущение тяжущихся бояр судиться прямо пред господарем и прочее. Сигизмунд соизволяет на эти просьбы. Брацлавские земяне, терпевшие разорение от татарских набегов, испрашивают отмену подати, так называемой подымщины, за что отказываются от держания своих корчем.
Но далеко не все то, что обещалось в привилеях, исполнилось на самом деле, несмотря на неоднократные их подтверждения и дополнения. Между прочим, главная цель этих привилеев – поднять значение литовско-русской шляхты до уровня польской – достигалась только отчасти. Литовская Русь оставалась по преимуществу страной крупных вельмож – владельцев, которые держали у себя в подчинении земян или мелкую шляхту. Это, между прочим, ясно выражалось в складе и обычаях сеймовых. При Ягелле и его преемниках мы видим целый ряд сеймов или съездов литовско-русских бояр с польскими панами для обсуждения взаимных отношений Литвы и Польши. Отсюда начал развиваться обычай сеймования и в Литовской Руси. Земские съезды, как известно, не были ей чужды еще и во времена уделов, когда съезжались князья со своими боярами для улаживания взаимных распрей и для обсуждения внешней обороны. Теперь же эти земские съезды начали устраиваться по образцу польского сеймования, которое Ягеллоны старались ввести в Великом княжестве Литовском. Но между тем как в Польше сеймы составлялись из крупной и мелкой шляхты и потому (со времен Казимира IV) стали распадаться на две избы, сенаторскую и рыцарскую, в Литве они пока были исключительно в руках вельмож; а мелкая шляхта, если и допускалась на сеймы, своего самостоятельного голоса там почти не имела. Во всяком случае, способы сеймования, конечно, пролагали путь и дальнейшему влиянию польского государственного строя в Литовской Руси. Одним из несомненных признаков этого влияния также является унижение древнерусского боярского звания. Так, в великокняжьих грамотах времени Ягеллонов служилое и землевладельческое сословие Литовской Руси, по степени своей знатности, обозначаются разными именами, наполовину заимствованными из Польши, в таком порядке: княжата, Панове, рыцари, шляхтичи, бояре и земяне. Тут бояр мы видим оттесненными к нижним ступеням этой лестницы; потом они были поставлены ниже земян и обозначили самую мелкую шляхту. А впоследствии в некоторых областях Литовской Руси именем бояр обозначаются уже полусвободные слуги королевских урядников и крепостные сельские обыватели с разными подразделениями, каковы: бояре конные или панцирные (обязанные военной службой), замковые или путные (отправлявшие стражу при панских замках и служившие на посылках) и осадные (пахотные крестьяне)18.
Помянутые отдельные права и привилегии литовско-русской шляхты были большей частью закреплены общим законодательным сводом, который издан в 1529 году под именем «Литовского статуса». Сей последний подтвердил господствующее положение шляхты в государстве и в особенности упрочил ее власть над крестьянским населением.
